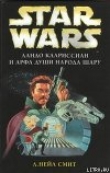Текст книги "Дом в Пасси"
Автор книги: Борис Зайцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Д-да… но не совсем по-церковному. Мельхиседек тихо и добродушно рассмеялся.
– Нередко так говорят, и даже на исповеди: «Верю, батюшка, но по-своему». Иной раз это значит, что и вовсе не верю. Так, так…
Капа чувствовала себя нервно. Впечатления этого дня мешались, двоились. Из-за старичка с белой бородой выглядывал временами высокий сухощавый человек с безразлично ласковыми голубыми глазами. А старичок, неизвестно откуда взявшийся, сидел в креслице, будто полжизни здесь просидел, и говорил так, будто она ему не первая встречная, а внучка. Ни противиться, ни рассердиться на него никак нельзя было – он какой-то неуловимый и неуязвимый – станешь возражать, он начнет покручивать серебряные пряди в бороде да улыбаться… И Капа ничего ему не сказала насчет угловатостей своих. Он же, помолчав, сам перешел на другое.
– Михаила Михайлыча я давно разыскиваю. Перебравшись сюда из Югославии, намереваюсь вновь восстановить знакомство. Я его еще с России знаю… Он к нам в Пустынь в бытность полковым командиром не раз приезжал. Имение находилось по соседству. А там, знаете ли, когда началась война, то, слышно, сначала бригадой командовал, потом дивизией… а затем даже целый корпус получил. Лицо, разумеется, значительное, и дальше пошел бы, но тут революция… Да-а, много натерпелся, сердечный… и телом едва спасся. А видный собою был.
– Он и теперь видный.
– И слава Богу. Да уж теперь-то таким, как ранее был, не будет. Оно, может, и к лучшему. Мне недавно епископ один говорил: «Я прежде – в России, то есть до революции – цельный дом занимал, одиннадцать комнат, в карете ездил, в шелковой рясе ходил и все это мне казалось естественным, обычным. Как же, мол, архиерей да не в карете… А теперь пешим порядком, или в метро в ихнем, во втором классе с рабочими… да что же, говорит, здесь настоящее мое место и есть, именно во втором классе с тружениками, а не с нарядными дамами, поклонницами архиереев. И по совести, я себя в теперешней моей каморке ближе к Богу чувствую, чем в прежнем архиерейском подворье». Так что жизнь, знаете ли, весьма людей меняет. Как бы уж там видный ни был из себя Михаил Михайлыч, все же таки не то, чем когда корпусом командовал.
При других обстоятельствах Капа тотчас же вступила бы в спор. Для чего это нужно унижать лучших наших людей? Жить так жить, – но тогда надо бороться, а не поддаваться судьбе – и многое в подобном роде. Но сейчас ничего не сказала. Мельхиседек же во время слов своих не раз взглядывал на Рафу. Тот слушал почтительно и вежливо, но мало понимал. Слова Мельхиседека казались ему приятной песнью на иностранном языке. И когда Рафа отвернулся к окну, Мельхиседек встал, очень быстро, проворно, не совсем даже по возрасту – и, протянув руку к столу, взял бумажку.
– Ну, что ты там изобразил?
Рафа сконфуженно бросился было к нему, но Мельхиседек уже прочел и засмеялся.
– Melchisedeck, nom etrange, – произнес он вслух с тульским выговором. – Jamais entendu [13]13
Мельхиседек, имя странное. Никогда не слышал (фр.)
[Закрыть]. Спросить у генерала.
Мельхиседек продолжал улыбаться. Теперь и Капа не могла не усмехнуться. Ее положительно заражала хорошая погода на лице гостя.
Рафа как бы оправдывался.
– Я не понимаю этого имени, и никогда раньше его не слыхал…
– Имя редкое, – ответил гость. – Ты, милый человек, не удивляйся, что не слышал. Редкое имя и высокое… Трудно даже его носить. Таинственное. Царь Салимский [14]14
Салим – город в Палестине. Царем Салимским был Мелхиседек, который, встречая Авраама, возвращающегося после победы над семью царями, «вынес хлеб и вино, – он был священник Бога Всевышнего».
[Закрыть], священник Бога Всевышнего. Вот как!
Мельхиседек опять сел, взял Рафу за руку и худенькой своей рукой принялся гладить его ладонь. Лицо его стало очень серьезным.
– Библии-то, небось, и не видал никогда? И святого Евангелия… Кому учить, кому учить, – проговорил как бы в раздумье. – Мы, старшие, виноваты.
Рафа стоял перед ним с чувством некоей вины и грусти, но не страха. Этот старичок с веерообразной бородой нисколько его не пугал. И захотелось показать себя с лучшей стороны.
– Я знаю, чем архиерей отличается от патриарха.
– От патриарха?
– У архиерея на голове черный клобук с таким шлейфом, а у патриарха белая шапочка, и с обеих сторон висят полотенца. На них крест и вышит.
– Вон он какой знаток! Прямо, братец ты мой, знаток!
– Это все генералова наука, – сказала Капа. – Его мать, Дора Львовна, просто удивляется, откуда у него все такое.
В это время над потолком раздались звуки, похожие на шаги. Рафа мгновенно вырвал руку у Мельхиседека – бросился к двери.
– Генерал вернулся, он таки уже вернулся! – крикнул с порога. – J'en suis sur [15]15
Я в этом уверен (фр.).
[Закрыть]. Сейчас сбегаю!
И выскочил на лестницу. Мельхиседек поднялся.
– Душевно благодарю, Капитолина Александровна, что помогли. Странника неведомого пустили к себе.
– Ну, это пустяки…
– Мир и благодать дому вашему.
Капа сложила руки лодочкой и подошла. Он осенил ее трижды небольшим крестным знамением.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Не доходя до двери, остановился.
– Полагаю, что теперь у меня будут с Михаилом Михайлычем некоторые сношения. Ежели бы я вам чем-нибудь понадобился… побеседовать или какие трудные вопросы, обстоятельства, вообще что-нибудь, то передайте лишь через него, я всегда могу прийти.
Капа поблагодарила. Он ушел. А она потушила свет в комнате, приблизилась к окну. Сначала в темноте виднелись лишь светлые щели жаненовских ставень. Потом и особнячок с каштанами своими выделился – глаз привык. Вышла из двери старушка Жанен, понесла коробку с объедками в угол сада, к мусорной куче. «У французов никогда нет настоящего крыльца или террасы… Почему у них нет балконов?»
…А внутри было сложно-взволнованное. Путалось, переплеталось. Хорошо, или нехорошо? Страшно, и радостно. Старичок со странным именем. «Если бы понадобился, могу прийти…» А тот разглаживает, наверное, свои галстуки, пересчитывает деньги. Тот-то придет?
КЕЛЬЯ
На этот раз генерал быстро выпроводил Рафу. Тому очень хотелось поговорить с Мельхиседеком, порасспросить его. Но пришлось подчиниться. Противоречить он никак не мог, да и довод был серьезный: «На лестнице встретил мать, она будет сердиться – вечно ты по гостям…» Мельхиседек на прощанье поцеловал его в лоб.
– Он действительно мой друг, – сказал генерал, когда Рафа вышел. – Как бы и внук. Впрочем, у меня настоящий внук есть. В России. Вы, отец Мельхиседек, может быть, помните, когда мы к вам в Пустынь приезжали с Ольгой Сергеевной, то с нами девочка была, такая маленькая, все мать за ручку держала. Да-да-да-а… Это и есть Машенька.
Генерал налил чаю Мельхиседеку и себе.
– Ольга Сергеевна в самом начале революции скончалась в Москве. Надорвалась. На салазках дрова таскала, через всю Москву. В очередях мерзла, мешочницей в Саратов ездила. Сыпняк захватила. Царство небесное, царство небесное. Я в то время под Новочеркасском дрался.
Генерал встал, подошел к комоду, где лежали гильзы, табак, машинка – принялся набивать папиросу.
– Стар становлюсь, слаб. Часто плачу, отец Мельхиседек. Вот и сейчас, увидел вас. Все прежнее… Но ничего, смелее, кричал лорд Гленарван. Колоннами и массами!
Он примял палочкой табак в машинке, вставил в гильзу, втолкнул содержимое – папироса отскочила. Обрезал ножницами вылезавшие хвосты, закурил.
– Ольга Сергеевна такая и была-с… да, прямая, трудная – она, может, и вовремя умерла, генеральшей жила, генеральшей скончалась. Все равно не могла согнуться. Ну, а Машенька стала не то что девочкой, а давно замужем, и у нее сын, Ваня, постарше вот этого малого. Тоже она бьется. Я даже не знаю по совести, как изворачивается. Пока муж был жив, так-сяк. Он там в какой-то главрыбе служил, но и муж помер. Да с другой-то стороны и хорошо, что помер…
– А как звали ее мужа? – спросил Мельхиседек.
И когда генерал сказал, вынул из кармана книжечку, надел очки и записал.
– Почему же хорошо, что зять ваш умер?
– Эту самую главрыбу через полгода по его смерти всю раскассировали, кого в Соловки, большинство к стенке – там у них это просто-с. Так по крайней мере он естественной смерти дождался, не насильственной от руки палача.
Мельхиседек уложил вновь очки в глубины рясы.
– Так-так… Ну, это разумеется.
– Машенька же теперь одно решение приняла.
Фигура генерала высилась над столом прямо, плечи слегка приподняты. Свет сверху освещал лысину. Лицо в тенях, с сухим и крепким носом, казалось еще худощавей.
– Об этом один только мальчик этот знает, да теперь вы. Машенька сюда едет, вот в чем дело.
Генералу трудно было удержаться. То садясь, то вставая, рассказал он про дочь все, что знал. И бутылку литровую, где позвякивало теперь десятка три желтеньких полтинников, тоже показал Мельхиседеку.
– Фонд благоденствия, о. Мельхиседек. Счастлив был бы, если бы там золотые лежали, но и простые полтиннички, трудовые французские грошики – и то сила!
– А еще большая сила, Михаил Михайлыч, в желании, то есть стремлении обоюдном встретиться. Если Бог благословит – то великая сила-с… Душевно сочувствую, душевно. Машеньку-то я помню – нy, теперь, разумеется, и не узнал бы.
Они замолчали. Генерал в потертом пиджаке, мягких туфлях, ходил взад и вперед по комнате, пощелкивая пальцами сложенных за спиной рук. Мельхиседек опрокинул чашку, сидел смирно. Генерал вдруг остановился.
– Очень рад, что вы пришли нынче ко мне, о. Мельхиседек. Неожиданно. Яко из-под земли восстаху. Клопс и отделка. А ведь вы один, пожалуй, во всем этом Париже помните Ольгу Сергеевну, Машеньку знаете, мое имение… Вы мне сказали – из Сербии приехали? Что же тут думаете делать?
– Что мне назначат, Михаил Михайлыч. Мало ли дела… всего за жизнь не переделаешь. Но если уж сказать, имеется для Парижа и особенное. Может быть, из-за него преимущественно я сюда и приехал в этот Вавилон-то ваш, как это говорится, всемирный Вавилон – город Париж. И у вас я не совсем напрасно.
Мельхиседек распустил вдруг морщинки у глаз легким и несколько лукавым веером.
– Я ведь не такой уж простодушный монашек-старичок, я, знаете ли, и умыслы всякие имею, и на вас, Михаил Михайлыч, как на давнего сочувственника рассчитываю.
– Одну минуту, отец Мельхиседек. Подогрею.
Генерал взял чайник, вышел с ним в кухню и поставил на газ. Седые его брови пошевеливались, усы нависали над сухим подбородком. Вернулся он с неким решением.
– Независимо от того, что вы мне расскажете, предлагаю остаться у меня ночевать. И никаких возражений. Чем через весь город в свой отельчик тащиться, переночуете у меня. Да. И никаких возражений. Прекрасно. А теперь слушаю. К вашим услугам.
Отпивая свежий, очень горячий чай, Мельхиседек рассказал, в чем состояло «особенное» его дело. Уже несколько времени находился он в переписке с архимандритом Никифором, проживающим в Париже, – с этим Никифором встречался еще во время паломничества на Афон, и не со вчерашнего дня возникла у них мысль: основать под Парижем скит, небольшой монастырек. Никифор кое-что присмотрел – именно старинное аббатство. Оно в запущении. Надо его несколько восстановить, приспособить – и тогда отлично все устроится. А потом завести при нем школу, воспитывать и обучать детей. Кое-что удалось уже собрать и денег.
Генерал вдруг засмеялся.
– А меня в этот монастырь игуменом? Посох, лиловая мантия… исполай ти деспота? [16]16
«На многая лета, господин» (греч.) – многолетие, которое поется при архиерейской службе на малом входе во время литургии.
[Закрыть]
Мельхиседек внимательно на него посмотрел, но не улыбнулся.
– Нет, я не за тем к вам обращаюсь, Михаил Михайлыч.
В игумены вам еще рано… У нас настоятелем, видимо, будет архимандрит Никифор. А вот ежели бы вы к этому серьезно отнеслись, то как мирянин нам могли бы посодействовать. Могли бы к содружеству наших сочувственников примкнуть. Поддерживали бы нас в обществе, может быть, что-нибудь и собрали бы среди русских – на подписном листе.
– Так, так, все понял. И с благословения архиепископа? Вы как – под здешним начальством, или под тамошним сербским?
– Принадлежу к юрисдикции архиепископа Игнатия.
– Ох, эти мне ваши архиерейские распри… Архи-гиереусы… Архи-ерей, архи-гиереус, значит первожрец…
– Первосвященник, а не первожрец, – тихо сказал Мельхиседек.
– Ну да, да, конечно, первосвященник… Извините меня, о. Мельхиседек – срывается иной раз. Да. Что же до содействия, то охотно, хотя прямо скажу: более по личному к вам отношению, о. Мельхиседек. Ибо в эмигрантской жизни монастырь… м-м! м-м! – генерал несколько раз хмыкнул. – Такая страда, все бьются. Не сказали бы: роскошь, не по сезону в сторонке сидеть да канончики тянуть. Для вас, во всяком случае, о. Мельхиседек, охотно.
– А вы не только для меня.
Поднялся разговор о монастырях. Мельхиседек неторопливо и спокойно объяснял, что скит задуман трудовой, все монахи должны работать и окупать свою жизнь. Они будут одновременно и обучать детей и их воспитывать. Тут особенно видел Мельхиседек новое в православии: в прежних наших монастырях этого не бывало.
– Очень хорошо, – сказал генерал. – Все это прекрасно. Что же говорить, я сам, вы ведь помните, к вам в Пустынь приезжал. И мне нравилось… гостиница ваша, чистые коридоры, половички, герань, грибные супы, мальвы в цветниках, длинные службы… А все-таки – только приехать, погостить, помолиться, да и домой. Нет, мне трудно было бы с этими астрами и геранями сидеть… А теперь и тем более. Я слишком жизненный человек. А вы мистики, Иисусова молитва! «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» – и это произносите вы в келье на вечернем правиле десятки, сотни раз. Извините меня, это может Богу надоесть. Возьмем жизненный пример: положим, взялся я любимой женщине твердить – раз по пятисот в день: люблю тебя, люблю тебя, спаси меня… Да она просто возненавидит…
– То женщина, Михаил Михайлыч, а то Господь.
Генерал захохотал.
– Разумеется, это армейская грубость. Еще раз прошу извинения. Я сам в Бога верую и в церковь к вашему архи-гиереусу хожу и религию высоко чту, но этот, знаете ли, монашеский мистицизм, погружение себя здесь же в иной мир – не по мне, не по мне-с, о. Мельхиседек, как вам угодно…
Мельхиседек поиграл прядями бороды.
– Я и не жду от вас, Михаил Михайлыч, чтобы вы жили созерцательной жизнью. Я вашу натуру знаю.
– Да, вот моя натура… Какая есть, такая и есть. Хотя я за бортом жизни, но боевой дух не угас. Если бы вы благословили меня на бранное поле, на освобождение родины, а-а, тут бы я… атакационными колоннами… Мы бы им показали – по-прежнему один против десяти, но показали бы. А вы бы на бой благословили, как некогда преподобный Сергий противу татар…
Мельхиседек улыбнулся.
– И мне до Сергия далековато, и вы, Михаил Михайлыч, маленько до Дмитрия Донского не достали… Да и времена не те. Другие времена. У Дмитрия-то рать была, Русь за ним… а у вас что, Михаил Михайлович, позвольте спросить? Карт д'идантите [17]17
Удостоверение личности (от фр. carte d'identite)
[Закрыть]в бумажнике, да эта комнатка-с, более на келью похожая, чем на княжеские хоромы.
Генерал опять захохотал – и довольно весело.
– Все мое достояние – карт д'идантите! А вы лукавый, правда, человек, о. Мельхиседек! Так, с виду тихий, а потихоньку что-нибудь и отмочите.
* * *
Мельхиседек не сразу согласился ночевать. Но генерал настаивал.
– Искреннее удовольствие доставите. Свою кровать уступаю, сам на тюфяке, на полу.
Но Мельхиседек поставил условием, что на полу ляжет он, и в прихожей. Так меньше для него стеснительно. Занялись устройством на новом месте.
– Вот вы о ските говорили, о. Мельхиседек, а ведь знаете, тут у нас в этом доме, в своем роде тоже русский угол – скит не скит – а так чуть ли не общежитие, хотя у каждого отдельная квартирка, или комната.
– Знаю, я у соседки вашей даже был – у Капитолины Александровны. Русское гнездо в самом, так сказать, сердце Парижа. Утешительно. Что же, cогласно живете? – то есть я хочу сказать: здешние русские?
Генерал стелил простыню на матрасике в прихожей.
– Ничего, согласно. Да ведь большинство и на работе целый день.
– Трудящиеся, значит.
– Да, уж тут у нас маловато буржуев-с…
– Так, та-ак-с… Небезынтересно было бы, если бы вы сообщили имена их, также краткие характеристики.
– Имена! Характеристики! Для чего это вам, о. Мельхиседек?
– А такое у меня обыкновение: где мне дают приют я в вечернее правило вставляю всех членов семьи и молюсь за благоденствие и спасение их. Здесь у вас, собственно, не семья, но мне показалось, что есть некое объединение, потому и нахожу уместным ближе ознакомиться.
И он опять вынул свою книжечку.
– Извольте, – сказал генерал. – Поедем снизу. Ложа консьержки, гарсоньерка – мимо. С первого этажа начинается Россия. Капитолина Александровна – одинокая, служит. Возраст: двадцать шесть, двадцать семь. Своеобразная и сумрачная девица. На мой взгляд – даже с норовом.
– Знаком-с. У меня и отметка есть.
– Напротив нее – Дора Львовна, массажистка, с сыном Рафаилом, вам также известным.
– Дора… по-нашему Дарья? Иудейка?
– Да, происхождения еврейского. А замужем была за Лузиным.
– Несть еллин ни иудей. Все едино.
– Затем я. Против меня Валентина Григорьевна, портниха, с матерью старушкой. Немудрящая и, что называется, чистое сердце. Шьет отлично. Вдова.
– Очень хорошо-с. Дальше.
– Надо мною художник, патлатая голова. Выше там шофер Лев и рабочий на заводе, имени не знаю. Ранним-рано по лестнице спускаются. Тоже все русские. Но должен сказать, что есть еще жилица, напротив художника, эта будет француженка. Именем Женевьева.
– А-а, имя хорошее. Святая, покровительница столицы.
– Та-то была святая, только не наша Женевьевка. Наша нам несколько дело портит. Тут уж до скита далеко, это я вам скажу, такой получается скит… м-м… и не дай Бог.
– Чем же занимается она?
Генерал запнулся. Седые брови его сделали неопределенное движение.
– Что же тут говорить… Блудница. Так и записать можете, о. Мельхиседек. Без ошибки.
Мельхиседек покачал головой.
– Ай-ай-ай…
– До трех дома, а там на работу. По кафе, по бульварам шляется. Изо дня в день.
– Как неприятно, как неприятно! Же-не-вье-ва… – записывал Мельхиседек. – Сбившаяся с пути девушка. Ну, что ж что блудница. И за нее помолимся. За нее даже особо.
– Вы думаете, это Соня Мармеладова? Пьяненький отец, нищета, самопожертвование? Очень мало сходства. Мало. Она лучше всех нас зарабатывает. И ее гораздо больше уважают. В сберегательную кассу каждую субботу деньги тащит.
– Нет-с, я ничего не думаю. Разные бывают… А характера какого?
– Бог ее знает, встречаю на лестнице. Тихая какая-то, вялая. Ей, наверное, все равно…
– Закаменелая.
Мельхиседек дважды подчеркнул слово «Женевьева» и спрятал в карман книжечку.
– Что же до вас касается, – обратился к Михаилу Михайлычу, – то главным, что движет сейчас вашу жизнь, насколько я понимаю, является желание встретить дочь?
– Совершенно правильно. А еще-с: свержение татарского ига и восстановление родины.
Мельхиседек слегка улыбнулся.
– Задачи немалые.
На этом они расстались. Мельхиседек притворил дверь, снял рясу и похудевший, совсем легонький, с белой бородой-парусом стал на молитву. «Канончик» его был довольно сложный, занимал много времени.
Генерал же разложил пасьянс. Он раскладывал его тщательно, карту к карте. Самый вид стройных колонн доставлял ему удовольствие. Оно возрастало, когда пасьянс выходил. И еще росло, если выходил на заказанную тему. Нынче генерал загадал на Машеньку. Приедет, или нет? Карты долго колебались. Он задумчиво группировал, подбирал разные масти в колоннах – сложными маневрами довел, наконец, до того, что оставшимся картам вдруг нашлось место. Валеты, тройки, девятки покорно ложились куда надо. Генерал любил этот момент.
– Прорвались… – бормотал про себя. – Трах-тара-рах-тах-тах!
Ему казалось, что таинственный противник сломлен. И сложив орудия производства, перекрестив на ночь лоб, стал раздеваться. Из его маленькой передней, совершенно сейчас темной, худенький старичок долго еще посылал безмолвные радио.
ВВЕРХ И ВНИЗ
Когда кому-нибудь в доме не спалось, первые звуки, определявшие время, были шаги по лестнице – вниз. Это шел на завод рабочий, снимавший верхнюю комнатку. Несколько позже спускался шофер Лева, худоватый блондин с холодными глазами, изящный, в кепке и коричневом пальто. Позже Дора Львовна, в халате, выносила коробку с сором. Шла за молоком Валентина Григорьевна – начинался день русского дома.
Если бы стены лестницы могли записывать мысли, чувства проходивших, узор получился б пестрый. Главное, впрочем, были бы мелкие житейские вещи… но не они одни.
Валентина Григорьевна, оторвавшись от фасончиков, «сборов» и «складов», звонила к соседке. В полуоткрытую дверь, улыбаясь, шептала:
– Дора Львовна, дуся, не достану у вас маслица? Мама безусловно забыла купить, знаете ли, спускаться в эписри не хочется…
В другой раз сама Валентина Григорьевна «одалживала» Капе яйцо или дуршлаг. Меньше всех имела дела с соседями Женевьева. Эта просыпалась поздно, в постели пила кофе и читала романы. Завтракала, мылась, долго и тщательно расчесывала ресницы, работала пуховкой и румянами. Ровно в три уходила, неторопливо спускаясь по лестнице. Ее изящное и равнодушное лицо было покойно – ничего не выражало. Женевьева знала, что лицо не имеет значения. «Меня кормят бедра», – говорила подруге, впрочем, выражалась прямее…. И проходила, или не проходила Женевьева, следа не оставалось – как от тени.
С некоторых пор стал появляться на лестнице человек в изумительно глаженых брюках, дорогой серой шляпе. В первое посещение, вечером, принес Анатолий Иваныч Капе чудесный букет роз.
Она даже смутилась. Кто, когда делал ей такие подарки?
– Капочка, ты не можешь себе представить, как меня выручила. Я тебе страшно, страшно благодарен. Просто я не знаю, что бы без тебя делал.
Капа, слегка закрасневшись, поставила розы в стеклянный, голубоватый кувшин.
– Что же, ты заплатил по векселю?
– Разумеется… теперь все улажено, Капочка – и лишь благодаря тебе…
Он встал, подошел к зеркалу, принялся поправлять галстух – сравнивать концы бабочки. Зеленоватые, чуть ли не детской ясности глаза глядели на него из зеркала. Он на минуту и сам поверил. Ну, если уж не совсем так… все-таки вексель переписан и отсрочен. До весны свобода – в этом-то он прав. А там продадут картину, можно и на скачках выиграть, мало ли что…
Капа отлично знала эти глаза. Но теперь находилась в размягченном состоянии. Из ее же денег и розы… – «Все-таки, он очень ласков и внимателен.»
Анатолий Иваныч и действительно был ласков. Посидел немного и ушел, оставив ее в сладком отравлении. Яд этот ей знаком давно – что сделаешь против него? Жизнь как она есть – день в кондитерской, одинокий вечер дома, синема раз в две недели?
Но теперь нередко спускалась она по лестнице с сердцем полным, бежала за угол, в калиточку дома Жанен. И случалось, подолгу засиживалась у Анатолия Иваныча – настолько долго, что мадам Жанен несколько и смущалась. Впрочем, русским закон не писан. Да и сам жилец так любезен, воспитан – ну пускай там у него une petite amie [18]18
Маленький друг (фр.)
[Закрыть]– дело житейское.
Бывал и он у Капы. Не все с цветами, но всегда ласковый. Иногда водил ее обедать в ресторан, ел устрицы, запивая вином, впадал в фантазии и разговоры. Капа и сама любила это. Из сумрачной своей, пещерной жизни, надев единственное выходное платье, попадала в светящуюся суматоху пестрого ресторана у Елисейских полей. И будто сама менялась. Подъезжали небольшие машины, иностранки с молодыми людьми, блиставшими приглаженными проборами – не то это Америка, не то Испания. Анатолий Иваныч тоже не весьма походил на русского. Минутами ей казалось, в смехе окружающих, блеске стекла, запахе духов, что этот, сидящий пред ней человек, действительно вдруг увезет ее на острова Таити. Иногда же, глядя на его перебегающие зеленоватые глаза, тонкую руку, держащую над столом граненый стакан с вином – что вот он сейчас встанет, уйдет и не вернется – даже по счету не заплатит.
– Ты знаешь, Капочка, – говорил он через стол, низко нагибая голову, быстрым, несколько сумасшедшим шепотом, – у меня тут есть одно такое дело, такое… Знаешь! Оно выйдет, я уверен.
Он таинственно-утвердительно кивал головой.
– Я уже маршрут составил. До Марселя на автомобиле, сам довезу. Там на пароходе… с заходом в Неаполь. Афины – жара, красные маки на Акрополе. Капочка – потом острова Архипелага! Там такие закаты, павлиний хвост, и замечательное греческое вино. Я хочу именно с тобой… да, ты понимаешь, любовь и красота. Я ведь не могу, я всегда теперь только о тебе думаю… вот так, знаешь, постоянно. Встану – ты со мной. Помолюсь – ты тоже.
– Ты молишься?
– Непременно. Я верующий…
Капа смотрела на него пристально. Потом отводила глаза. Они были полны – одновременно – смеха и слез.
Когда он в такси подвозил ее к дому, когда подымалась она по лестнице, не могла понять, что это все значит: хорошо, или плохо. «Ну, все равно. Зато необыкновенное».
Раздевшись, долго не засыпала. «Я теперь уж не та… Не та дура, как тогда, в доме Стаэле». Сейчас она взрослый и опытный, столько переживший человек. Но и вот – стоит подойти, позвать, приласкать, и… вновь! Начинается. «Да, да, вновь, пусть так, хочу! Люблю, и мое дело!» – Она горячилась, и точно бы с кем-то спорила. Мрак же комнаты этой, да и весь Париж – вся людская его пустыня совершенно были безразличны к тому, сошлась ли вновь какая-то Капа с каким-то Анатолием Иванычем или нет.
– Ничего, ничего, пожалуйста, – ответила бы ночная бездна. – Занимайтесь любовью, мне все равно.
Так же все было безразлично и тогда, когда в жарких мечтаньях своих дошла Капа до воспоминаний – вот венгерка, которую он встретил в таком же кабаке, из-за нее все и вышло…
Тут она вдруг вскочила, села на постели, впотьмах схватила металлическую пудреницу, запустила в потолок. В венгерку, все-таки, не попала.
* * *
Генерал мог бы удивиться странному ночному звуку – удару небольшого предмета и падению его – но не обратил внимания, хоть и не спал. Именно тоже не спал, в той же зимней ночи, лежа на своей постели прямо над Капиной головой, как и над его головой спал художник.
Генерал тоже думал, но совсем о другом. Вчера вечером медленно подымался он к себе по лестнице – не без задумчивости. На первой же площадке остановился: передохнуть. Войдя в переднюю, захлопнул дверь и, как был, не снимая ветхого пальтишки – зимнее в чистке – сел.
– Так-та-ак-к-с! Так. Так.
Посидев, пальто снял, снял и ботинки, надел туфли. Заложив руки за спину, привычно щелкая пальцами, принялся ходить взад вперед по диагонали.
– Мерзость, больше ничего, – говорил, доходя до конца ее, и поворачивался.
Газетка, для которой собирал объявления, с нынешнего дня закрылась. Что в этом удивительного? Скорее удивительно, что так долго вертелась… Генерал и не удивлялся. Отступление в порядке, с охраною коммуникаций. На заранее подготовленные позиции.
– Мерзость, больше ничего!
В углу стояла литровая бутылка. Взять ее за горлышко, поболтать. Полтинники жиденько зазвенели. Вот он, мощный валютный фонд, на который Машенька должна приехать! Подумав, генерал так определил положение:
– Временный отступательный маневр с переходом в общее наступление, как только позволит обстановка.
И спокойным движением вновь поставил бутылку. Прошел в кухню. Там взял другую, с вином, налил полстакана и выпил.
– Бог дал день, Бог даст и пищу.
Сварил макароны, поджарил свиной грудинки, сел обедать. Ел много и довольно бодро. Запивал красным вином. По временам вслух говорил – Бог дал день, Бог даст и пищу.
Или:
– Трах-тарарах-тах-тах! Колоннами и массами!
Перед сном записал в дневнике: «День важный. Может быть, нечто и обозначающий. Лишился заработка. Но не унываю. Потерял родину, жену, не вижу дочери – это почище. Разумеется, жизнь трудна. «La vie est dure» [19]19
Жизнь тяжела (фр.)
[Закрыть]– сказала вчера торговка. Буду вышивать, раскрашивать сумочки, разносить конверты. Мало ли что. Полковник Серебровский служит ночным сторожем, охраняет ювелиров на Вандомской площади».
Все-таки заснуть в эту ночь было трудно. За всеми словами и разумными рассуждениями стояло неразумное – самое сильное. Находилось оно будто вдали, а одновременно и вглуби. Невидимо, неслышимо. Тень же бросало. И эта тень – как некий яд отравляла воздух, которым мирно дышал он в другие ночи. В нынешнюю ворочался, вставал, пил холодную воду с черным хлебом – собственное его средство от бессонницы – все же слышал и Капину пудреницу, и бой часов в недалеком жандармском управлении, и спуск Лёвы по лестнице.
Утром зашел Рафа спросить, пойдут ли гулять. День хороший, яркий, в изморози. Розовеющее небо в садик Жанена.
– Да, – сказал генерал. – Пойдем. В три часа.
– Уже так рано?
– «Уже» можешь и не прибавлять. Да, в три. Я сегодня не выхожу на занятия.
Рафа, спокойный и вежливый, неотступно глядел на него черными своими глазами.
– Почему?
– Потерял работу.
– Разве вы нехорошо собирали анонсы?
– Нет, хорошо. Газета закрылась.
Рафа опять помолчал. Но что-то свое думал, за агатовыми глазами.
– Это плохо. Значит, вы chomeur? [20]20
Безработный (фр.)
[Закрыть]
– Да.
– Чем же будете платить за квартиру?
– Постараюсь найти работу.
Рафа ушел задумчивый. В два часа вновь явился. В руке у него была узенькая коробка с шоколадными дисками, завернутыми в серебряную бумагу.
– Это мне вчера тетя Фанни привезла. Дарю вам от всей души. Я такого шоколада терпеть не люблю.
Генерал захохотал.
– Ловкий ты, братец мой… А если бы самому нравился, так и не подарил бы?
– Вам бы подарил.
– Но уж не от всей души?
Рафа улыбнулся, стал подавать ему пальто. И через минуту вновь спускались они по улиткообразной лестнице своего пассийского дома.
Эти прогулки всегда одинаковы. Шли по rue de la Pompe, мимо Испанской церкви и русской съестной лавки – за витриною балыки, икра. Быстрые автобусы лавировали между камионами и такси. Рафа жался к генералу, когда совсем рядом проносилась, с теплым запахом масла и бензина, такая смерть. Они встречали элегантных, чуть подсушенных пассийских дам, с собачками или без них и со всегдашнею, всегда одной и неизменною волной духов – нечто прохладное, не романтическое. Попадались худенькие молодые люди с книжками, в роговых очках, с чудно заглаженными назад волосами – вечные типы французского юноши, которому весной сдавать башо.
– Меня мама на будущий год отдаст в Жансон, – говорил Рафа. – Я одену берет…
– Не одену, а надену.
– Хорошо, надену. Но какая разница? Генерал объяснил.
Подошли к Мюэтт. В кафе за столиками любители тянули аперитивы – несмотря на ранний час. Двухместные машины скользили в Булонский лес. В них за рулем сидели старшие братья, или дяди юношей из лицея Жансон – те же гладкие волосы и роговые очки, но на сорокалетних. Дамы, тех же духов, всегда много моложе.
В парке Мюэтт уже много нянек с детьми в колясочках, мамаш с младенцами, играющих ребят постарше. Тут обычно садился генерал на скамеечку, смотрел на зеленую лужайку со статуей, на игры, на голоногих мальчуганов с мячами, на аккуратных французских старичков с почетным легионом, догуливающих последние свои деньки под холодеющим парижским солнцем.