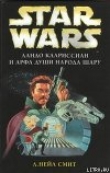Текст книги "Дом в Пасси"
Автор книги: Борис Зайцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
ДВИЖЕНИЕ
Дора Львовна происходила из богатой еврейской семьи. Училась в Петербурге, на Медицинских курсах, но не кончила: полюбила студента технолога и сошлась с ним. Лузин был настоящий русский интеллигент, довоенного времени, типа «какой простор». Жаждал быстрого установления земного рая, верил в это и вместе с Дорой Львовной посильно приходу его содействовал. От марксистов, однако, отдаляло его мягкое сердце. От эсеров – несклонность к террору. Партию он избрал себе безобидную – народных социалистов. Но тут подвернулась некая максималистка товарищ Люба – и от Петра Александровича Лузина остались рожки да ножки. Он мучился и рыдал, то говорил, что одинаково любит обеих, то пытался «выяснить отношения», то казнил себя безнадежно. Доре Львовне чужда была расплывчатость. После полагающегося количества бессонных ночей, выяснив все, что надо, она на седьмом месяце беременности от него ушла – углом треугольника быть не пожелала. Старая Берта Исаевна, мать ее, много по этому поводу плакала: «Ай, Дорочка, Дорочка, вышла бы за хорошего еврея, ничего бы этого не случилось. Подумать только, беременная…». А отец вовсе негодовал. Но Дора Львовна домой не вернулась. Родила своевременно Рафу, и в дальнейшем потопе была вынесена на Запад. Не такая она, чтобы потеряться и здесь! Сначала в Германии, а потом в Париже занялась делом – хоть не на высоте прежнего, лишь полумедицинским, все-таки дававшим заработок. Дора Львовна клиентуру свою развивала. Ее спокойствие, некий крепкий и достойный тон, ощущение порядочности и солидности, остававшееся от нее, создавали ей хорошую прессу, да и работала она неплохо. Именно в этом году начала даже откладывать, стала мечтать о том, чтобы взять квартиру со своей мебелью, в новом доме с удобствами. О муже ничего не знала и знать не хотела. Она его просто вычеркнула. Жила одиноко, холодновато. Рафу очень любила, но без сантимента. Да и не так много его видела – целый день была в бегах. Любила рассматривать старинную мебель в витринах: кое-что, в Salle Drouot [8]8
Зал Друо (фр.).
[Закрыть], и покупала, тащила в Пасси. Иногда ловила себя на том, что хочется вкусно поесть. «Ну что же, это моя потребность, надо ее удовлетворить», – заходила завтракать в небольшие ресторанчики у Мадлен, ела устрицы, по-мужски спрашивала сухого белого вина. Как врач, прохладно наблюдала за собой. И находила, что в еде несколько выражается ее чувственность. «Конечно, моя женская жизнь слагается ненормально… Нет еще сорока лет…» Но ей действительно никто по-настоящему не нравился. Легкие же авантюры она не одобряла.
Нынче вечером, возвратившись домой, Дора Львовна узнала, что больна Капа. По неписаному уставу дома, все русские должны были друг другу помогать в беде, и если бы захворала сама Дора Львовна, у нее тотчас бы появилась и Капа, и генерал, и жилец сверху. Так что в десятом часу она сидела у Капы.
– Ваш сын уже навещал меня, – сказала Капа, слегка улыбнувшись. – Я даже немного его эксплуатировала… он был страшно мил.
Дора Львовна сидела совсем близко и смотрела в воспаленные, несколько тяжелые и затаенные глаза Капы. «Странная девушка… очень странная»… – и не совсем даже давала себе отчет, почему странная. Но такое оставалось ощущение.
– Я сына мало вижу. Так жизнь складывается. Что из него выйдет, не знаю… мне всегда кажется, что я недостаточно на него влияю.
Капа перевела глаза с темными, влажными кругами в сторону – будто не слушала и вовсе не интересовалась тем, что может из Рафы выйти. Дора Львовна почувствовала это и смолкла.
– Доктор у вас был?
– Да… Дора Львовна, знаете какое дело, – вдруг сказала она решительно, точно вернувшись из того мира, где только что находилась, – мне нужны деньги.
– Разумеется, вы нездоровы… Сколько же? Я могла бы вам предложить.
– Нет, предложить… не вы. Мне довольно много. Посоветуйте, где занять… У вас есть богатые дома, где вы массируете. Я могу вексель подписать. За меня на службе поручатся.
– А какая сумма?
– Три тысячи.
– Да, порядочно. Лично я не смогу.
– Я и не говорю, чтобы вы, – сказала Капа холодновато. – Скажите мне, к кому обратиться?
– На что вам такие деньги?
– Нужны.
– Именно три тысячи?
– Именно.
Дора Львовна задумалась. Конечно, среди клиенток ее много состоятельных, есть и очень богатые, для кого три тысячи не деньги. Но не деньги лишь для себя. Дать же взаймы такой Капе… Дора Львовна слишком хорошо знала жизнь, слишком ясно сознавала и свое положение – среднее пропорциональное между учительницей музыки и шофером– чтобы верить в успех. Но добросовестно перебирала в уме фамилии и имена. Гарфинкель? – не вернулись еще из Сен-Жан де Люс. Олимпиада Николаевна? Жалуется на плохие дела… и вечная возня с польским имением… Эйзенштейн? – выдают дочь замуж, сошлются на расходы… Трудно, трудно.
– Что же, вы хотите на юг, что ли, съездить, полечиться на эти деньги? – спросила она – просто чтобы дать выход некоему недовольству. – Или собираетесь зимнюю вещь шить?
– Эти деньги мне необходимы.
Лицо Капы приняло упорное, несколько даже неприятное выражение. «Да, характерец… не скажет, разумеется, ни за что».
Дора Львовна не любила никаких душевных угловатостей. Ее несколько раздражали даже такие, как она считала, «дефективные» черты. Но в ней сидел и врач, спокойный наблюдатель человеческих несовершенств. Врач знал, что на «дефективных» нельзя сердиться. Она пересилила себя – и в ту же минуту нечто сверкнуло в ее мозгу.
– Знаете, вернулась из Америки Стаэле…
– Неужели? Капа оживилась.
– Вызвала меня пневматичкой. Я у ней уже была, работала. Но она нисколько не худеет. Все такая же полная. Да ведь вы ее хорошо знаете. Одним словом, все такая же, несмотря на режим. И такая же восторженная. Обратитесь к ней, попробуйте… скажите, что вам на лечение нужно.
– Стаэле… Я ее так давно не видала. Что же она делает теперь?
Дора Львовна усмехнулась.
– Чего вы хотите от миллионерши. Что вздумается, то и делает. Хорошо еще, что у нее сердце доброе. По крайней мере, не все деньги зря тратит. В Америке приют для негритянских детей устраивала, теперь у нее, кажется, совсем нелепые идеи, но ничего, может быть, и удастся направить ее в разумное русло.
«Разумное русло, – бессмысленно повторила про себя Капа, – Разумная Дора… она всегда все делает разумно». И молча смотрела на крепкие, белые руки Доры Львовны. «А я все неразумное… но безразлично, к Стаэле я пойду».
Дора Львовна сидела прочно, удобно в кресле, – она имела особенность: так сидеть, так стоять, так спать в постели, будто сделано это раз навсегда – солидно и никак не опрометчиво. Она рассказывала, что теперь г-жа Стаэле увлекается древне-византийской живописью и носится с особенной мыслью: купить у турецкого правительства право на расчистку одной мечети, где подозреваются ранние фрески.
– В сущности, вы, как хорошо ее знающая, могли бы извлечь из нее и некоторую пользу для эмиграции. Всюду столько нужды. Детские приюты, убежища для престарелых, вместо этих нелепостей с турецкими мечетями…
«Началось разумное… и доброе, и полезное, – думала Капа, все бессмысленно глядя на Дору Львовну. – Ничего, она честная массажистка и член разных обществ. Так и надо. Она и поможет. Устроит. На таких мир держится… А я свое сделаю. Я не такая добрая, на беженские дела мне наплевать, но я сделаю. Свое сделаю. Хочу и сделаю».
– Спасибо, – сказала она. – Мне только нужно теперь выздороветь. Я непременно схожу к Стаэле.
* * *
То, что предлагала Дора Львовна, могла бы сообразить Капа и сама. Но Стаэле вела настолько кочевую жизнь – нынче в Америке, завтра в Сирии, а там в Копенгагене – что Капа не считала ее здешней. И когда мысленно прикидывала, к кому обратиться, о ней не подумала. Впрочем, были причины и особые… О той полосе жизни своей она не любила вспоминать. Но теперь Дора Львовна как бы разбудила ее. В приоткрытую дверь былое поползло. Капа разволновалась. Если бы Дора Львовна, мирно спавшая сейчас в своей прохладной и гигиенической постели, знала, что у Капы даже температура повысилась, вряд ли осталась бы она довольна. А Капа вертелась, вспоминала, раз поднялась даже, подошла к окну и посмотрела в сад. Было темно. Каштаны иногда шелестели под ниспадавшим ветром, да на Эйфелевой башне, видневшейся в узкой полоске меж крыш, пробегали таинственные нервные сигналы: голубовато-зеленое струение, а над ним вдруг грозно мигал красный глаз. Спят все, кроме ночи да дьявола. Легкое зарево Парижа над полуоблетевшими деревьями – трепещет, тоже имеет двусмысленное выражение. Да и вся тьма эта полна неблагожелательного, мрачного. Ах, если б можно было прижаться к кому-нибудь, если б не вечное это, проклятое одиночество!
Она вдруг рассердилась и на Анатолия Иваныча. Зачем, собственно, он поселился тут под самым ее носом? Ну ладно, было и было, да ничего больше нет, она и видеть его не хочет – а вот нужно почему-то здесь постоянно о себе напоминать…
Капа вернулась на постель озябшая, ее знобило и она была почти зла. Мысленно послала даже к черту и Анатолия Иваныча и Стаэле.
Не так легко было заснуть, не так легко и спалось. Но утром сразу оказалось, что ничего ей более не интересно, кроме этого. Жизнь, служба, болезнь – полусон, полупрозябание. Одно настоящее. Одно нужное – и теперь из-за случайных слов Людмилы, Доры Львовны жизнь вновь направляется в неожиданную сторону.
Поскорее выздороветь и бежать… Туда, пока Стаэле не уехала.
И несколько дней-ночей минуло незаметно: в днях – зашел доктор, навестил генерал, Рафа, Дора Львовна. В ночах – тяжелый сон и зарево Парижа.
* * *
Очень тихое утро, серо, влажно. Оставшиеся на каштанах листья совсем буры – так намокли, что по временам падают с них капли. Блестят асфальтовые мостовые. Шоферы медленнее шуршат по ним: из опасения поскользнуться. Но сам изящно-серый Париж ведет вечный свой круговорот – в непрерывном потоке прохожих, скользящей волне машин, в запахе сырости, бензинового дымка, дамских духов.
Мимо Прюнье проходит Капа, еще не совсем оправившаяся, с глубокими подглазниками, к Этуали. Вокруг Арки бессменное движущееся кольцо. Все в одном направлении, вечно куда-то ввинчиваясь, бегут автомобили, сколько их, куда – но не остановишь, без конца, без начала льются…
Капе все здесь насквозь знакомо. Вот трехэтажный дворец с садиком, вот rue Tilsitt [9]9
улица Тильзит (фр.).
[Закрыть]– Стаэле тут недалеко, в улице близ этой карусели – Этуали.
Тяжелая калитка, гравий, мокрые кусты, окна зеркальные… И глицинии под окном – и ее собственное окошко в третьем этаже, рядом с комнатой прислуги. К этой самой калитке подавал года два назад Анатолий Иваныч в белом кожаном пальто и черной фуражке тяжело-легкий автомобиль: темный, блестящий, с зеркальными стеклами, куколкой внутри и букетом фиалок. Вместе со Стаэле выходила она – Капа, тогда была лучше одета, но скромно… как mademoiselle de compagnie [10]10
компаньонка (фр.)
[Закрыть]и учительница русского языка. Фантастика, фантастика!
Но теперь без фантастики позвонила – отворила сухая, застарелая горничная с каменным лицом. Капа передала карточку.
– Мадемуазель пьет кофе. Вам придется подождать. «Знаю, что пьет. Десять часов – все то же». Капа проходит в серую гостиную, садится под голубой вазой с золотыми разводами. Обстановка – светлый модерн. Со стены глядит все тот же Вламэнк – мрачный осенний пейзаж с лужами – как же все в чистоте ослепительно, безмолвно, музейно. Зеркальное окно полно серебряного света – заливает он куст мелких розовых цветов, перед окном стоящих. Дверь в столовую приоткрыта. Знакомый женский, слегка заикающийся голос:
– Но я х-хочу еще яйцо…
Другой, тоже женский, методический и несколько суровый… неразборчиво, но, видно, отрицательно.
– Мне ма-мало одной чашки и яйца.
– Вам по режиму утром можно только яйцо, без хлеба. А вы уж столько съели! И еще съедите два яйца, если вам позволить.
– Да я просто, я не хочу никакого режима!
– Зачем же было заводить его?
– Я думала, что похудею, но ни-исколько не худею, а только порчу себе настроение…
Капа усмехается.
«Все то же. Прежде я ее окорачивала, теперь другая. И также все безуспешно». Голоса умолкли, слышится звук отодвигаемого в сердцах стула. На пороге г-жа Стаэле.
С тех пор, как Капа ее не видела, она еще пополнена. Шеи совсем не стало. Голова как на блюде лежала на груди и плечах. От красных щек белее казались простые, добрые глаза. Видимо, не так легко и ногам двигаться. Сейчас явно была она не в духе.
– А, это вы…
Она подала ей очень маленькую, не соответствующую туловищу ручку.
– Вы куда-то совсем пропали. Вы похудели. «Завидно!»
– Хворала. Только что с постели поднялась.
Стаэле села в кресло, где было ей тесновато. Кончики ног попробовала скрестить – ничего не вышло – это несколько тоже ее расстроило.
– А где же мсье Анатоль? Он тогда так внезапно покинул мой д-дом…
«Ну, вот теперь еще я за него отвечаю». Капа, когда шла сюда, то считала, что просто попросит для себя помощи – по старой памяти. Но сейчас, частью по капризу, частью в приливе раздражительной дерзости, мгновенно переменила план. Именно потому, может быть, что это неразумно, она и брякнула:
– Мсье Анатоль был тяжко болен. Он переутомился. Сейчас без работы. Ему надо на юг, в хорошие условия…
Недовольство выступило на лице Стаэле. Она нервно стала постукивать носком туфли.
– И вот он посылает вас… просить у меня денег… Это всегда так. Не звонят, не заходят… являются лишь, когда нужны деньги.
Капа побледнела.
– Он меня не посылал. Я сама к вам обращаюсь… вы ведь добрый человек.
– Д-добрый, доб-рый…
– Я не знаю, почему он не давал вам о себе знать. Вероятно, просто думал, что вам неинтересно. Но сейчас дело ясное. На поездку и отдых нужны три тысячи. Могли ли бы вы дать ему их?
Капа старалась сдерживаться, но голос ее звучал все глуше. Лицо Стаэле покрылось пятнами. Губы вздрагивали. «Какая нервная! А говорят еще, что мы нервны!» Стаэле встала, тяжело переваливаясь телом.
– Я не могу дать вам этой суммы… у меня с-сли-ш-ком много расходов.
И продолжая волноваться, слегка заикаясь, объяснила, что ее осаждают со всех сторон, и если она будет удовлетворять все просьбы, то скоро останется без гроша. Кроме того, у нее сейчас огромное дело: переговоры с турецким правительством насчет мозаик.
Капа поднялась тоже. Когда она подходила к двери, Стаэле вдруг остановила ее.
– Оставьте мне свой адрес…
Капины провалы под глазами, мрачный блеск самих глаз и тоже нервное подрагивание губ – точно бы немного смутили ее.
– Для чего адрес? Я только раздражаю вас. Это понятно. Бедные всегда раздражают богатых.
Стаэле еще больше разволновалась.
– Вы не-несправедливы… Вы знаете, что я очень много… помогаю и нисколько на бедных не раз-дражаюсь.
– Адрес мой на визитной карточке, которую вам подали.
– Я посмотрю… может быть, мне и удастся что-нибудь… «Да ну ее к черту…» – Капа спускалась в сдержанно гневном настроении.
На улице несколько поостыла, хоть неприятное ощущение вглуби сидело. Почему эта Стаэле обязана давать деньги? Что ей Анатолий? Шофер, правда, интеллигентный и, как редкость, забавный – она и держала его потому, что он бывший дипломат – потом не совсем ловко исчезнувший… Никаких о себе вестей не давал, а теперь вдруг, пожалуйте.
Наступил полдень, midi, знаменитый час, когда банки, конторы и магазины по таинственному значку выливают бойкое и живое человечество. Капа спустилась в метро. С ней спускались такие же девушки, на подземных перекрестках Жоржи ждали Жюльет, нежно целовались и бежали к ближайшему поезду. В людском множестве все Жоржетты казались похожи на всех Жюльет и все Эрнесты на Жюлей. В теплой живой толпе, ею несомая, с ней дышащая, Капа спускалась, подымалась летейскими коридорами, полными человечьего дыхания, тепло-влажно-пыльного воздуха. По подземным путям в переполненной ладье неслась в даль смутную, гулкую. Сотни чужих мыслей, чувств и желаний прошли сквозь нее, и ее собственные чувства, незаметно для нее, изменились. Сон – была уже Стаэле и ее паркет, и Вламэнк. Завтра надо самой на службу – вот в такой толчее утром лететь в один конец, вечером в другой. Не дала, так не дала. А чулки эти придется подштопать, это уж очевидно.
…Она благополучно доехала и обычно докончила день – один из многих одиноких своих дней. И когда менее всего думала о Стаэле и даже об Анатолии Иваныче, к ней заявилась также застарелая горничная с письмом. Стаэле писала, что просит ее извинить: утром была расстроена и несправедливо резка. Осмотревшись, нашла, что и просьбу может исполнить. Прилагался чек на три тысячи.
«ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР…»
Из окна было видно, как мсье Жанен, сухенький старичок в туфлях и старом, засаленном рединготе, без воротничка вынес тазик золы и проходил наискось через двор: тут у него кусты крыжовника, он иногда подсыпает туда пепел и угольки из печурки. Капа спрятала в сумочку три тонких, слабо хрустевших лиловых бумажки. Ей предстояло спуститься по лестнице, взять за углом мимо бистро, откуда говорил Рафа по телефону, войти чрез калитку во владение Жанен, это не более ста шагов. Но тогда – все другое: ее дом, ее комната, генералово окно, квартирка Доры Львовны вовсе по-иному представляются отсюда. Она может видеть себя и «своих» со стороны. И действительно, когда вошла под тень каштана, едва хранившего последние свои листы, вдруг вспомнила Людмилу, как та не сообразила, что ведь это рядом с Капой.
В новом мире, подошедшему с тазиком старичку сказала, кого желает видеть. Горбоносый старичок кратко, но любезно указал.
Капа поднялась в первый этаж по узенькой французской лесенке. Ей представлялось, что идет она просто так, к человеку чужому, малознакомому, застегнувшись душевно, как застегнут на ней не первой свежести темненький костюм. Несколько сутулясь, постучала в дверь.
– Entrez! [11]11
Входите! (фр.)
[Закрыть]
Начался еще третий мир. Небольшая комната с окном в переулок, довольно светлая, с камином и зеркалом в золотой раме над ним – с часами на подзеркальнике, все, как полагается в истинно французском старом доме. Но не полагается, чтобы на подзеркальнике лежали галстухи, воротнички. Странны также кораблики – искусно сделанные – на шкафу: бриги, фрегаты в парусах, точно модели из музея мореплавания. Странен стол у окна – простой, вроде кухонного, застланный толстым сукном. Когда дверь отворилась, сухощавый, высокий, с небольшой лысиной человек без пиджака склонялся над столом, спиной к окну: в великом прилежании разглаживал штаны, слегка дымившиеся. Увидев на пороге Капу, тоже ощутил новый мир, и не сразу оторвался от портновского. Держа утюг, остановившимися голубоватыми глазами глядел на дверь. Потом улыбнулся – улыбкой милою и почти детской – утюг поставил на подставку, легкими молодыми шагами подошел к Капе, протянув вперед руки.
– Очень рад… тебя видеть.
Капа молча подала руку. Он ее ласково поцеловал. Подняв голову, не выпуская руки, все улыбаясь, неподвижно смотрел на нее. Что-то очень далекое, щемящей нежности и очарования вдруг ощутила она.
– У тебя такой вид, будто ты хочешь спросить: зачем пришла? – да не решаешься.
Анатолий Иваныч сел на диванчик, Капе пододвинул стул.
– Нет, я ничего, – сказал простодушно, все продолжая на нее глядеть прозрачными, голубоватыми глазами. – Ты так… очень неожиданно… мы ведь давно не виделись.
«Все такой же… Нет для него времени».
– Анатолий, как ты живешь?
– Вот и живу, ты видишь… – он неопределенно провел рукой по воздуху, будто указывая на свою комнату, обстановку, строй жизни. – Разумеется, Капочка, туговато… теперь времена трудные.
Он опять с ласковостью и упорством уставился ей в глаза.
– Времена трудные, Капочка, все дела в застое.
– Да уж ты такой делец… Он несколько оживился.
– У меня дел много, ты не думай. Но все неудачи. И с кораблями слабо, – он указал на модель брига на шкафу. – Единственно, что могу еще продавать, это маленькие яхточки для тюльерийского прудка, знаешь, там внаем дети берут. Да это все мелочи, пустяки платят. А серьезная работа, фрегат, линейный корабль, никого более не интересует.
«Все то же полоумие…» Капа помнила это еще по Константинополю. Анатолий Иваныч в беженство вывез целый чемодан моделей, инструментов, бечевок для оснащивания… и никогда с ним не расставался. Обожал он корабли. С удивительным искусством строил их сам, читал книги по кораблестроению, в портовом городе нельзя было оторвать его от набережной.
– Третьего дня был я на Монмартре у одного грека, в особняке… знаешь, рю Ларошфуко. Кападопулос. Ах, Капочка, какой особняк… там у него и фарфор старинный, и табакерки, и картины. Мы с Сережей Друцким продаем ему одного Фрагонара… [12]12
Оноре Фрагонар (1732–1806) – французский живописец и график, виртуозный мастер в изображении бытовых и галантных сцен.
[Закрыть]Если выйдет, я тебя у Ларю завтраком угощу. Или у Прюнье. Ты устрицы любишь? Да, помню, любишь… Капа, когда мы продадим ему Фрагонара, то все вместе поедем: я, ты, Сережа. Но знаешь, не завтракать. Нет, лучше обедать, а потом в дансинг. Меня недавно один знакомый угощал… недалеко от Люксембургского сада. Ты… ты, Капочка, представить себе не можешь, какой там поросенок.
Анатолий Иваныч совсем развеселился. Видимо, и Фрагонар, и Ларю, и поросенок люксембургский уже лежали в кармане.
– Или же можно устроить так. Пока там еще мы продадим греку картину, но вот около Елисейских полей я знаю один ресторанчик – это уж совсем дешево… замечательные мули и креветки. Да. Квартал дорогой, но это простенький ресторанчик, вроде бистро. Называется Tout va bien… а? Как хорошо называется! Tout va bien – всё великолепно!
Анатолий Иваныч раскрыл свой большой рот с изящным, волнистым очертанием – и захохотал детским смехом.
– Мы туда непременно пойдем, Капочка. Хозяин бретонец, черненький такой, худощавый… и получает мули каждый день из Бретани. Он меня любит! Ты знаешь, – лицо Анатолия Ивановича вдруг стало серьезным, глаза остановились на Капе, – он мне всегда кредит оказывает. Мы можем прийти, позавтракать и ничего не заплатить!
Капа молчала. Точно бы повернулось в ней некое колесо, возвратило года на полтора назад. И ничего не было! Для него – ничего не произошло. Все такой же, будто вчера расстались. То, что происходило с ней, жила она или умирала, этого он не знал да и не интересовался. Все то же, что было в Константинополе, что было у Стаэле. Все так же ласков, мил. Так же ни до чего нет дела, кроме Фрагонаров и кораблей, ресторанов и фантастических греков, которые якобы могут его обогатить, и все те же глаза, те же руки…
– Что же ты не спросишь, как я жила? Все про рестораны…
– Да. Капочка, ты… ведь, действительно, мы давно не видались. Ты какая-то бледненькая…
Он взял ее руку, погладил и поцеловал. Потом опять погладил.
– Ты тогда так внезапно исчезла… – Он смотрел на нее расширенными глазами, точно, правда, был очень удивлен и поражен, что она от него ушла.
Капа закрыла лицо руками. Тело ее стало слегка вздрагивать. Она вынула платочек, приложила к глазам. Другой рукой сжала руку Анатолия Иваныча – жестом вековечным, женским жестом любви, прощения, отдания.
– Ты… нарочно снял комнату рядом с моей? Знаешь, что я живу через двор?
– Да, Капочка, да…
Анатолий Иваныч заранее не придумал, что сказать, и мгновение находился в нерешительности. Но только мгновение: с обычно нежным лукавством тотчас же все сообразил.
– Я слышал, Капочка, что ты где-то здесь поблизости. И у меня, знаешь, было такое чувство, – он широко раскрыл глаза, точно выражая ими нечто таинственное и сложное, – что какая-то сила именно сюда меня влечет, вот так и тянет…
Капа продолжала плакать. Она знала, что он лжет, но приятно было, что именно так лжет – ласково и благосклонно. В сущности, что она ему теперь? Бывшая подруга, отравлявшая жизнь ревностью, мучениями. И теперь едва влачащая существование. Нет, в эту минуту он бескорыстен.
Капа сунула платочек в сумку и рука ее наткнулась на хрустящие билеты. Чрез минуту, несколько овладев собою, села прямо и защелкнула сумку.
– Расскажи мне, как ты это время жил. Анатолий Иваныч заморгал глазами.
– Вот так и перебивался, Капочка. То что-нибудь продавал… картины… раз мне бриллиантовое кольцо удалось перепродать… И раза два, знаешь, я продал маленький бриг собственного изделия, потом каравеллу… я точно такую сделал, на какой Колумб Америку открыл. Один португалец купил.
– Португалец… откуда же ты его достал?
– Так, я встречался…
Капа знала, что всегда у него были какие-то таинственные знакомые, и целая занавешенная часть жизни, куда ни проникнуть нельзя, ни разузнать ничего. Он или отмалчивался, или переводил разговор. На этот раз она сразу решила, что португальца подсунула ему Олимпиада. «У этой коровы всегда какие-нибудь португальцы…».
Настроение стало меняться – точно после мартовского парижского солнышка налетела, тоже краткая, но неприятная тучка-жибуле.
– Ну, а теперь как? Правда, что тебе очень трудно? Анатолий Иваныч взял ее за руку и расширил глаза.
– Очень, Капочка. Так трудно, знаешь ли…
Он снял руку и одной ладонью, как ножом, провел по другой, точно срезая или счищая.
– Как никогда. Платить за комнату нечем, долг и даже вексель… главное, француз… Он, Капочка, все, что у меня есть, опишет.
– Что же можно описать у тебя, кроме штанов?
– Он опишет.
«Ничего не опишет, разумеется, но дела плохи, нет сомнения. И теперь дура Капитолина должна выплывать… тоже бриг парусный».
Она вздохнула, вынула из сумочки лиловые билеты. На лбу означились две вертикальные морщинки. Серые глаза тяжело блестели из глубоких гротов.
– Мне Людмила сказала, что была у тебя.
– Да, Людмилочка… Да, заходила…
– Заходила… Ты ее сам звал. Ну, одним словом, я все знаю. И достала денег. Вот, бери.
– Это… мне?
Глаза его с волнением остановились на билетах. К деньгам было у него восторженное отношение. Он их обожал. Они давали ему полет, развязывали фантазию. Он не мог хранить деньги – они утекали от него. Если шли к нему, то по вольной их воле, он не зазывал. Никогда в поте лица не зарабатывал денег Анатолий Иваныч. Но поддавался им. И сейчас голодный блеск глаз его ударил по Капе, сгустив тучку-жибуле.
– Да, тебе, без отдачи.
На мгновение взор его почувствовал тучку. Умоляющее выражение в нем мелькнуло. Но восторженность взяла верх. Побледнев, протянул руку. И холодок нервным содроганием прошел к сердцу.
– Ну, вот, – сказала Капа глухо, – теперь не опишут.
Он бессмысленно повторил: – Теперь не опишут. Капа встала.
– До свидания.
– Куда же ты, Капочка?
– Домой.
– Почему же так скоро…
– Нужно.
Капа медленно и тоже взволнованно надевала перчатки – ей нравилось, что вот как настоящая дама надевает она их, а внизу ждет автомобиль, что уходит под занавес.
– Если захочешь меня видеть, вечером я чаще всего дома.
* * *
Поднимаясь к себе по лестнице, шагом быстрым и сосредоточенным, она услышала голоса, с площади генераловой квартиры. Увидела голые коленки мальчика, опершегося на перила, и край черной рясы.
– Генерала нет дома, – говорил Рафа. – Если вам что-нибудь нужно передать, я могу. Я его сосед.
– Сосед, сосед… да мне бы самого Михаила Михайлыча. Голос был негромкий, певучий. Капа выставилась со своей площадки в пролет, подняла голову, чтобы лучше рассмотреть. Увидела невысокого монаха, худенького, с огромной седой бородой. Поглаживая ее одной рукой, другой он подобрал рясу, нерешительно делая первые шаги вниз.
– Огорчительно, что не застал. Так ты, – обратился он вдруг к Рафе, следовавшему за ним, – сосед генералов?
– Сосед, – ответил тот не без важности. – И друг. Старичок рассмеялся.
– И друг! Ах ты мальчонок какой разумный. Да такой ловкий! И друг… – Он обернулся, положил руку на Рафину голову и слегка поерошил курчавые его волосы.
– Что называется, старый да малый.
Но Рафа чувствовал себя несколько неловко. Показалось, что ему не верят.
– Вам и Капитолина Александровна может подтвердить… – сказал он натянуто, увидав Капу.
Она отворила дверь к себе, но войти медлила. Монах обернулся, увидел ее, улыбнулся.
– Тоже русские будете?
– Да.
– Вот как приятно! Весь дом русский. Утешительно. Капа взглянула на маленькие свои ручные часы.
– Половина седьмого. Михаил Михайлыч скоро вернется. К семи непременно.
– Ах, как обидно! Подумайте, ведь откуда приехал, с самого с Гар дю Нор!
– Зайдите ко мне, – сказала Капа, – подождите генерала, что же вам понапрасну…
– Ну какая милая барышня! Прелюбезная. А ежели я вас стесню?
– Чем же стесните? Вы стеснить меня не можете.
– Премного благодарен, так, та-ак-с! Ежели разрешите, воспользуюсь, – Рафа, заходи и ты. А это действительно друг генерала, он вам правду сказал.
– Да я и не думал, что неправду. Это ведь по глазам видно, что друг. А теперь разрешите и мне, вступая в ваше помещение, столь мне добросердечно предложенное, представиться: иеромонах Мельхиседе́к.
Войдя в комнату, он быстрым, легким взором осмотрел ее, по монашеской привычке и, увидев в углу образок, потемневший, в запыленном окладе – Ахтырской Божией Матери, – широко перекрестился. Лицо сразу стало серьезным, сухенькое, старенькое тело подобралось. Что-то серебряное, как показалось Капе, вошло в комнату.
А Мельхиседек сел, расправил полы рясы и опять широко улыбнулся.
– Во святом крещении имя Капитолина? Так, так… хорошо. Он разложил теперь по груди белую, веерообразную бороду так, что она закрыла даже священнический крест. Небольшие пальцы привычно крутили пряди волос в бороде – пряди слегка волнистые, электрически сухие и удивительно легкие. Рафа внимательно его рассматривал. Потом подошел к Капиному стулу, оторвал клочок бумаги, что-то записал.
Посматривая иногда на Рафу небольшими, некогда голубыми, а теперь выцветшими глазами, вокруг которых собрались сложные сети морщинок, то расправлявшихся, то вновь набегавших, точно рябь на озере от ветерка, Мельхиседек беседовал с Капой. Разговор был простой. Замужняя ли она? Чем занимается? Сколько платит за квартиру? Узнал, что незамужняя, служит в русской кондитерской – там знаменитые пирожки и кулебяки. Когда дошло дело до семьи, спросил:
– Из купеческого звания?
– Нет, – Капа слегка улыбнулась, – из духовного.
– Вот как, вот как… – морщинки о. Мельхиседека приятно расправились. – Я думал, имя Капитолина нередко дается среди купечества. Из духовного звания, значит, тем ближе нам…
– Мой отец был инспектором духовного училища. Но по правде сказать, у меня не особенные остались воспоминания о духовных. Священники больше хозяйством занимались, отец был неверующий, да и многие семинаристы, кого я знала, тоже были неверующие. Сплетни, дрязги, жадность. Нет, извините меня, я не любительница нашего сословия.
Мельхиседек вздохнул.
– Да, бывало, всяческое, разумеется, бывало… Батюшка ваш неверующий, да, так… Ну, а вы сами, разрешите спросить: верующая?