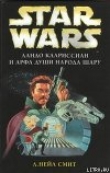Текст книги "Дом в Пасси"
Автор книги: Борис Зайцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
КОЛЕБАНИЕ ДОМА
Дора Львовна вышла утром за молоком. В этот час мужчины отправляются на службу. Коробки с объедками и сором стоят у дверей. Консьержки в матерчатых туфлях метут у подъездов. Проезжает на велосипеде юноша с огромными хлебами.
Дору Львовну приветствуют знакомые булочницы и молочницы, с утра нетрезвая, прачка Мари. Летний день сияет над ней, легко веет листами на каштанах. Огибая угол нельзя не взглянуть на домик во дворе. В комнате Анатолия Иваныча жалюзи спущены. Уехал? В деревню? В Ниццу? Или просто сбежал, не заплатив Жаненам?
У «Maggi» в очереди замечает она знакомый профиль. Пока крепкая брюнетка за прилавком, с красными руками, отливает свои литры кружечками и завертывает пакетцы масла, Дора Львовна успевает сообразить, что это тоже сосед, шофер Лева.
Через несколько минут из прохладно-кисловатой молочной попадают они в булочную, дышащую теплом и вкусной сухостью, сладким, пряным. Лева вымыт, «чистенько» одет, любезно кланяется. Нагруженные добром своим, с крынками и саками, булками, кофе возвращаются они по переулку.
– Извиняюсь, госпожа Лузина, вам, кажется, довольно много приходится бывать по клиентам. Не попадалась ли случайно квартирка… a louer [60]60
внаем (фр.).
[Закрыть]? Три комнатки, комфор модерн, шоффаж?
Дора Львовна ответила, что сейчас не знает, но будет иметь в виду.
– А это, собственно, для кого? Лева слегка ухмыляется.
– В моей жизни произошли некоторые перемены… вам, кажется, трудно? Разрешите понести сачок… Короче говоря, я женюсь.
– А-а, поздравляю! Да, пожалуй, и догадываюсь на ком.
– В нашем доме все как на ладошке, ничего не утаишь… В отношении бумаг были у Валентины Григорьевны кое-какие затруднения, но теперь все улажено. На будущей неделе намерены перевенчаться и переменить квартиру… потому что с Зоей Андреевной нам будет уже тесно. И как мы оба работаем…
Они поднимались уже по винтовой лестнице. До первого этажа шел коврик, дальше дубовые, слегка выщербленные, но натертые ступени. Рассеянный свет стекал сверху – и, поднимаясь, входили они из полумглы все яснее в эту область света. У своей двери Дора Львовна поблагодарила. Слегка задохнувшись, сказала:
– Ну, желаю счастья. Значит, вы нас покидаете?
– Так точно.
Дверь напротив – Капина – безмолвна. Дора Львовна вложила ключ, медленно вошла в свою квартирку. Неуютно она себя чувствовала! Каждый раз теперь, проходя по площадке, испытывала нечто тягостное, щемящее – смесь мрака, стыда… – и сейчас просто позавидовала этому Леве, что он уезжает.
«Заведет себе un lit national [61]61
национальную кровать (фр.)
[Закрыть], будет в выходной день заседать с женою в синема, носить по субботам деньги в сберегательную кассу».
Капина квартира безмолвна. Хозяйка рано ушла. Если бы Дора Львовна духом невидимым могла проникнуть туда, охватила бы ее щемящая пустота: будто и не жила тут живая девушка. Будто бы ничего вообще не было.
Но в столе, в ящике могла бы посетительница найти ученическую тетрадь с ровными линейками – и в ней записи.
Дора вынимает из клеенчатого сака провизию. Ясно ей представляется новая квартира. Новый дом, недалеко от лицея Рафы. И все заново. «Тут как на ладошке…» – да, уж конечно. Все жильцы, эписьерки, консьержки насквозь тебя знают.
Молодец Лева!
* * *
…Ни порядка, ни обстоятельности в записях Капы не было. На одной странице просто слово: – Поповна!
На другой рисунки – какие-то рожицы, бесконечный зигзаг в виде молний, как изображают на рекламах – усталая рука безвольно чертила их.
«А Мельхиседек был славный человек»…
Эта память Апухтина тянулась тоже чуть не через всю страницу – одна под другой строчки:
«А Мельхиседек был славный человек».
Но чаще записи более связные, и подлинней. Кое-где даты, кое-где нет. Можно понять, что всем этим занялась она с весны. На одной странице наклеена вырезка из французской газеты. Там рассказывалось про старого литератора, некогда писавшего о парках и садах Франции, церквях Парижа, ныне же погибающего в нищете. Хозяин грозит выселить его и, главное, выбросить рукописи, весь архив. Журналист, побывавший у старика, добавлял: «Может быть, тело некоего полуслепого историка и вытащат пред термом из Сены». Внизу Капиной рукой подпись: «Справиться у нашего генерала. Не удивишь, француз. И не растрогаешь». Потом совсем иное. Например:
«Людмила начинает процветать. Патент на изолятор получила, денежки загребает. Купила автомобиль. Жених обучил править. В воскресенье возила меня в Шартр, куда французы ездят из Парижа с любовницами. Жених называется Андрэ, инженер не то химик, не то электротехник. Нет, кажется, химик, Bien gomme [62]62
Хорошая резина (фр.)
[Закрыть]. И в роговых очках. Помог патент выправить. Людмила начинает забывать по-русски, в ней есть уже иностранное, какой-то привкус… – и высокомерие к русским. Ну да, мы нищие, за что нас уважать? А тогда, в Константинополе…
Но меня она еще помнит. Удивляюсь. Скоро забудет и меня, как и все впрочем – последние слова подчеркнуты. Да наплевать. Она меня назвала «Пароход Капитолина» – это в детстве нашем такой пароход был: все на мель садился! Пожалуй, верно назвала. Вспомнишь жизнь…
…Городишко русский. Какое убожество! А там война, революция… Мель и мель. Нет, чего вспоминать. Ужас. Ведь девчонкой, прямо из захолустья на гражданскую войну попала!
…18 мая. В самый этот день я отлично могла погибнуть. Госпиталь наш захватили, раненых у нас на глазах добили. Меня и сестру Елену назначили в баню, мыть «красных казаков». Нашелся человек, спас нас в последнюю минуту. То есть, вернее, меня. Елена успела уже принять яду, а я была в таком отупении, что даже отравиться не сумела. Но ушла ночью в степь. Неделю зверем жила. И добралась к своим.
Вот нынче какой славный юбилей! Моего спасения – неизвестно для чего. Вернее, для того, чтобы потом в Константинополе чуть не утопиться, встретить Анатолия, здесь служить в кондитерской, чтобы Анатолий рядом поселился и началось бы опять все…
22 мая. Вчера заходил монах, Мельхиседек. Он тут у генерала бывает. И со мной знаком немножко. Старичок довольно славный, но, вероятно, считает назначением своим спасать ближних. Я недавно прочла, что Толстой находил у себя болезненную черту: манию исправления человечества. То есть, мол, никак без него не обойтись. Он все знает и своим толстовским пальцем укажет, где истина.
Этот старичок потоньше. Он не напирает и не пристает. Он, пожалуй, больше собою действует, своим обликом, скромным голосом, седою бородой. Если бы жизнь состояла из таких стариков, т. е. вообще таких безобидных и благожелательных людей, то, возможно, было бы и приятно жить.
Или: если так верить, как они: в посмертный суд, в торжество справедливости там… Загробная жизнь! Не могу себе этого представить. Чтобы я умерла, а потом воскресла… нет, не понимаю! Я когда Евангелие читаю, то часто плачу, а только все-таки не понимаю. Потому, должно быть, и распяли Его, что такой был… неподходящий Он для нашей жизни. А воскрес ли? Может быть, это только сказка?
Мельхиседек говорит, что нужно молиться, и побольше. Тогда все смоет, все пустяковые сомнения. «Это, – говорит, – у вас сейчас просто раздражение естества и дух противоречия. Тяжелый дух, преодолеваемый лишь молитвой, т. е. общением с высшим благом».
Очень хорошие слова. Но мне от них не легче.
25 мая. Заходил Анатолий. Я его не приняла. Нет, довольно. Начнет плакаться – я как дура раскисну.
Хотя, впрочем, теперь и не раскисну… Это еще все по-прежнему я считаю. А в сущности: сейчас душа моя вовсе бесплодна, вовсе выжжена. Ни-че-го! Когда была сестрой, раненых жалела. Потом жалела Анатолия. Потом себя. Теперь никого. Может быть, я погибаю? Может быть. И это ничего не значит. Париж так же будет грохотать и без меня, как и со мной. Мир также будет в руках мерзавцев…
Июнь. Наши уехали в монастырь – генерал, Рафа, Мельхиседек. В доме остались одни бабы: я, благодетельница человечества Дора, дура Валентина и grue [63]63
шлюха (фр.)
[Закрыть]Женевьева. Небольшая, но теплая компания. Дора могла бы бесплатно перевязать всех раненых мира. Валентина – сшить всем дамам платья годэ или со «сборами». Она выходит замуж за шофера и они будут разводить себе подобных. Женевьева из них самая основательная: ходит по кафе, торгует собой en gros et en detail [64]64
оптом и в розницу (фр.)
[Закрыть], если бы ей предложили мыть красных казаков, она спросила бы, почем с головы, и снесла бы трудовые денежки в сберегательную кассу.
15 июня. Вчера после службы домой не вернулась. Надоели свиные котлетки, жарить их на сковородке, изо дня в день…
Около Rond-Point попался ресторанчик: «Tout va bien»– и там мы иногда с Анатолием обедали – креветки, мули. Грязновато, вроде бистро. Хозяин черненький бретонец, все тот же. Я села на воздухе, под парусиной. От тротуара отделяли кадки с зеленью. Столики, скатерки в пятнах, комья серой соли в солонках. Приказчики и такие же служащие девицы, как и я. Солнечный луч, косой, закатный. Ела я «шатобриан» и просто продохнуть не могла… – кажется, слезами бы вместо вина запила «Tout va bien» – почему, почему bien?
Потом солнце село и я вышла на Елисейские поля. К этому самому Rond-Point. Как красиво! Фонтаны… На одних хрустальные голубки, на других белочки грызут орехи – кедровые, должно быть? И все это вечно моется туманом брызг – фонтаны вроде букетов, так и бьют из голубей и белочек, и на них ниспадают. Позже зажгли внутри их свет, стали эти букеты белыми с золотым отливом. А вокруг – автомобили, целыми потоками по авеню, без конца-начала. Красные, фиолетовые рекламы к Этуали. И толпа, толпа…
Замечательно красиво. Но холодно, все же. Все будто выщелочено. Как льняные парижские волосы у дам, кислотой травленные.
Я долго бродила. Под каштаном, в зеленой мгле, где вход в метро, увидела на скамье Анатолия. Он смотрел на фонтан, на бассейн. Край бассейна был залит брызгами. Анатолий меня не видел. Он держался рукой за бок, точно болело что. У меня, конечно, похолодели ноги. Так уж полагается. Что-то дрогнуло… подойти? Нет, прошла. И с горделивым таким видом, точно победительница. Глупо, конечно. Ну, что поделать.
17-го. Мне иногда бывает ужасно, ужасно себя жалко. 18-го. Встретила Женевьеву. Она завела себе собачку. Если не помру, тоже заведу. На домике Жанена появилась надпись: terrain a vendre [65]65
участок продается (фр.)
[Закрыть]. Прожились старички.
21-го. Буду ли плакать, молиться, биться головой об стенку, ничего не изменится. Какая есть моя судьба, такая есть.
…Наши возвратились. И генерал и Рафаил. У генерала умерла дочь в России. Теперь нечего ему ждать. Все идет правильно. Меня преследует последнее время стишок, давно когда-то, еще в России, заскочивший:
Жизнь, молвил он, остановясь
Средь зеленеющих могилок,
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок.
Последних строк не понимаю. Но от них хочется плакать.
10 июля. Заезжала на автомобиле Людмила с Андрэ. Они только что вернулись с юга, собираются теперь в Вену и назад через Италию. Андрэ зашел ко мне и из окна увидел вывеску, что продается земля. «Да, тут следовало бы построить новый дом, современной техники». – «Наверно, скоро и снесут», – сказала я. И действительно так думаю.
Людмила пригласила меня прокатиться за город. «Ты мне не нравишься. У тебя одичалый вид». А Адрэ в своих роговых очках все присматривался к нашим квартиркам, лестнице, садику. «Одной той земли мало. Но если бы ваш хозяин согласился продать место, где стоит этот дом, тогда… Владелец мог бы войти пайщиком в наше предприятие».
Он сел за руль. Мы выехали мимо Этуали, по скучной дороге в С.-Жермен. Но там, дальше стало лучше. Направо засинели дали, мы проносились деревушками, где глазели на нас тощие ребята, а потом свернули проселком к реке. Это место такое, называется Pergola. Ресторан и отель на берегу Сены. Сюда тоже французы ездят с дамами.
Мы сидели на террасе у самой реки, нам чай подавали под зонтиками, с разным добром – кексы, печенья, я это не очень люблю, надоело в кондитерской. У Андрэ вид самоуверенного, богатого человека. Да он такой, впрочем, и есть. Говорил за чаем, что и Олимпиада даст денег на дом: как раз ищет надежного помещения средств.
Я смотрела на Сену. Удивительны ее струи. Напротив островок с ивами, тополями. Течением тянет и вьет в воде травы, куличок низко пролетел, сел на отмель, запрыгал… За рекой коровы, луга, даль сизая.
Людмила смотрит на меня синими, холодными глазами. Может быть, они вовсе теперь залакированы, раз навсегда закрашены. Мне казалось, что я так же одна, как в тот вечер на Елисейских полях.
– Капитолина, ты нынче отсутствуешь, – сказала Людмила, когда мы садились в машину. – Где ты? Что с тобой?
12-го. Париж пустеет. Послезавтра они будут праздновать свою Бастилию… С ума можно сойти от веселящегося народа. Людмила и Андрэ уехали – все порядочные люди разъезжаются.
Даже и francais moyens [66]66
средние французы (фр.)
[Закрыть], у кого есть economies [67]67
сбережения (фр.)
[Закрыть], повезут своих Жаков и Жоржетт на океан, куда-нибудь в Порнишэ.
От жары я вышла вечером на Сену, сидела на узком островке с поэтическим названием: Jle des cygnes [68]68
Остров лебедей (фр.)
[Закрыть]. Но мало поэзии. Что-то вроде бульварчика, убогие деревца, купальни на Сене. Немножко прохлады. Кое-где парочки – тоже третий сорт. И поезд метро, с регулярностью маятника проносящийся по виадуку Пасси. Я сидела бессмысленно. Сена так Сена, Париж так Париж. Поднялась, постояла на мосту. Какая мгла сухая над городом!
Солнце мутно, тяжело закатывалось. В розоватом тумане храм Sacre-Coeur [69]69
Святое сердце (фр.)
[Закрыть], на Монмартре. Вот уж подлинно «корабль»… – плывет над городом – ни до чего не доплывает.
18-го. Они отпраздновали свою Бастилию. Мне нет до них ни малейшего дела. Жара давит. Очень плохо сплю. Вчера опоздала на службу. Никого не вижу – и не хочу. Кругом наши русские, за этими стенами – мне все равно.
…Вечером читала странную вещь: один решил покончить с собой, нюхал яд. И записывал. Записи эти остались. Очень интересно. Это было ночью, на рассвете: чаще всего на рассвете люди умирают и родятся тоже. Он лежал в номере гостиницы. На кровати. И наблюдал за собой. Тут же часы. Взглянет, и запишет. 4 ч. 32 м. – звон в ушах. 4 ч. 35 м. – звон сильнее, левая рука холодеет. И дальше в таком же роде. Какая-то драма – кто знает! У него близкие были, где-то в провинции. А он приехал в Париж один. Врач. Смерть занимала с научной стороны!.. Как, мол, это делается? Успел мысленно и с семьей попрощаться. Ну, Бога-то не вспомнил. Мельхиседек остался бы недоволен этой историей. Да. Но ни добродетельной Доры, ни добродетельного Мельхиседека, к счастью, при нем не оказалось, и он успел записать: 4 ч. 55 м. – плывет, сливается. Почти ничего не чувствую. Едва пишу. 4 ч. 57 м. – у ми… – вот это и есть смерть. Ничего больше. Трагедия, называется? Или мистерия? Не знаю. И никто ничего не знает. Притворяются.
…Так его и нашли. На кровати, все в порядке, лежит навзничь. Рука упала. Рядом книжечка, часы. Они остановились. Из сочувствия?»
НОЧЬ
В самом имени «Валентина» было для Левы что-то круглое и благозвучное. Круглотой, теплотой и уютом представлялась будущая с нею жизнь. Квартиру они наняли в три комнаты. Одна предназначалась Зое Андреевне. «Старушка вряд ли долго протянет, – рассуждал Лева. – У нее был уже припадок грудной жабы. Значит, до второго». После же «второго» в комнате ее поместят ребенка – ранее он не появится.
Лев не был сентиментален. Он знал жизнь, не выпускал сбережений и собирался устроиться прочно.
Валентина Григорьевна подзапустила портновскую деятельность, надо обзаводиться, хозяйство, мебель. Ездила на Marche aux puces [70]70
Барахолку (фр.).
[Закрыть], выбирала, волновалась, и на каком-нибудь «жесете» тащила в новую нору то ширмочки, то кресло, то зеркало.
– В общем, знаете, как трудно, – говорила Доре Львовне. – Надо сообразить… – И наморщивала брови над голубыми немудрящими глазами. – Все время, знаете… так, голову напрягаешь.
Голова же не особенно была склонна к напряжению.
– Ведь все я одна… Конечно, Лев Николаевич на машине утром как выедет, то уж на цельный день, ему некогда. И сидит там, на своем Ситроене, как верблюд в пустыне. А мамаша в годах и слабая. Ее астма мучает, и этот еще у нее… как это…
Лоб опять наморщивается – нелегко вспомнить…
– Ну как это… еще от чего давление доктор мерит…
– Склероз?
– Именно. Этот самый. Мамаша едва по дому успевает управиться, так что она в этом уже не помощница.
У своей приятельницы Котеньки, из дома Жанен, заказывала она себе шляпы. У этой Котеньки все завалено болванами для шляп, шляпами полуготовыми, иногда в пакетах. На стене огромный план Парижа. Там записаны телефоны и долги – последние по мере выплаты счеркиваются. По шляпам через утюг шествует временами кот – равнодушно или прыгая.
Валентина не очень любила, чтобы заказчица с ней капризничала. Но сама действовала с разбором.
– Извини, пожалуйста, – говорили Котеньке. – Эта шляпочка у меня на голове как детский кабриолетик!
Котенька, высокая, худая, несколько восторженная, не смущалась.
– Безумно тебе идет. У Rose Descat модель сперла. Возились, переделывали. Котенька перескакивала с ноги на ногу, быстро трещала, наводила порядки. И мало-помалу «обстановочка», платья, белье, принадлежности кухни принимали подходящий браку вид…
Самый брак близился. После ряда визитов в управление архиепископа Лев уладил все. Шафера – знакомые шоферы. Рафа – мальчик с образом: он считался теперь знатоком церковных дел… После поездки в монастырь Фанни уверяла, что Дора рехнулась и готовит его в монахи.
В день венчания Лев блистал «чистеньким» выходным костюмчиком, с уголком сиреневого платочка над сердцем. Горели его лакированные туфли. Лицо розово, серые глаза красивы, холодны и несколько жестоки. Это и нравилось Валентине: «хорошенький, но видно, что не тряпка».
Галлиполийцы-шафера сияли. Невеста в подвенечном платье с белой фатой и флердоранжами, взволнованная, раскрасневшаяся, а не бледная, как обычно невесты, была хороша – русской мещанской миловидностью, неистребимым духом Сапожка и Темникова, здоровьем, недалекостью – особой женской теплотой.
Все шло удачно. В меру светило солнце, не было жарко. Резво неслись машины. Не так долго ждал жених на паперти невесту. И совсем повезло в том, что от вчерашней богатейшей свадьбы не убрали еще чудного ковра через всю церковь.
Дом в Пасси был представлен генералом и Дорой Львовной – Капа находилась на службе. На свадебного генерала Михаил Михайлыч мало подходил. Прямо навытяжку простоял все венчание, худой с побелевшими усами – как стаивал некогда на молебнах и обеднях. Замкнуты, как бы отъединенны были черты его сухого, крепкого лица.
Дора, когда сталкивалась с православными, их службами, испытывала некое недоумение. Хорошо поет хор. Хорошо соединяет руки новобрачных священник… – все это очень поэтично. Но неужели можно серьезно верить? Придавать этому глубокий и таинственный смысл? Они говорят – можно. Странно. Очень странно. Искренно ли все это?
Галлиполийцы держали над новобрачными венцы. Вуаль нежно колебалась. Прекрасно было то, что надевают кольца, обручают друг друга. Взволнованных и лишь теперь побледневших обводят Льва и Валентину вкруг налоя. Шаферы с венцами тянутся за ними. Солнце голубым снопом пронзает купол. Дора сочла это первоклассным театром – без дальнейших последствий. «Во всяком случае желаю им счастливой жизни…»
С этими словами, когда венчание кончилось, подошла она к Валентине, обняла ее. Генерал улыбнулся, поцеловал ручку. Котенька в слезах кинулась на шею. Шафер расплачивался в сторонке. Внизу ждали машины.
Дом в Пасси не был еще покинут. Еще в него возвратились, на тех же машинах, в том же сияющем, летнем, полупустом Париже. У раскрытых дверей квартирки ждала Зоя Андреевна.
Вновь слезы и поцелуи. Квартирка в цветах, белоснежная скатерть, закуски, батарейка шампанского. Это шампанское скромных сортов открывали на кухне. Оно пенилось в разносортных бокальчиках. Со всех сторон к новобрачным тянулись руки – красные, к празднику вымытые, привычные больше к рулю. Чокались, хохотали. Кричали «горько». В три часа Женевьева, спускавшаяся по лестнице – как обычно, и в этот день выходила на службу – слышала хохот, ура, шарканье ног под граммофон – и приостановилась. Ничего не говорил выцвеченный взор. Ничего не сказал и тогда, когда вспомнила она вчерашние слова консьержки: «У русских завтра свадьба». То, что русские должны шуметь, это естественно, так же естественно, как и то, что она, Женевьева, поколыхивая вялым телом и глядя стеклянным взором, сядет в автобус, покатит к Мадлэн и начнет свои деловые скитания.
Котенька лепетала что-то кудрявому шаферу – не без восторга. Рафа старался съесть побольше сладкого и держался близ Зои Андреевны – тут сытнее. И не ошибся.
К семи отплясали что полагается, сколь полагается накричались – молодым пора трогаться: уезжали в Сен-Жермен. Та же шумная ватага провожала их вниз к машине. Зоя Андреевна плакала. Дора подобрала Рафу, повела к себе – опасалась, что от сладкого будет у него завтра расстройство желудка. Вспоминалось ей нечто очень давнее, тоже шумная свадьба, когда Рафы еще не было, когда соединила она свою жизнь с Лузиным. Для чего это было? Разве можно понять? И вообще – можно ли что-нибудь понять?
Вечер опустился над Парижем. Шофер – приятель примчал молодых в Сен-Жермен. Генерал долго, безмолвно сидел у себя в комнатке, смотрел в окно, видел жаненовские каштаны, слегка тронутые уже коричневатым. Эйфелева башня мигала загадочным глазом и не было в небе Юпитера с Марсом: сблизившись, разошлись они, как полагается. На стене висел портрет Машеньки в черном крепе. Пустая бутылка литровая, откуда вынул генерал свои полтинники, медленно покрывалась пылью.
В разных местах происходило разное. Одно в Париже и другое в Сен-Жермене. Мельхиседек собирался в Париж с сердцем не особенно веселым, вышли «скорби» и Никифор отправлял его с докладом к архиепископу.
Генерал стал на вечернюю молитву. Трудящийся Париж засыпал. Над Парижем черная августовская ночь. Эйфелева башня давно мигать перестала. На облаках розоватое отражение огней. Поезд Мельхиседека отходил очень рано, и до станции мерял он пешочком одинокое шоссе – к тому дальнему зареву, полному электрических напряжений, волн радио, трепетаний света, что и есть Париж.
Старый дом в Пасси, с винтовой лестницей, дубовыми ступенями, небольшими квартирами, спал. Все казалось в нем мирным. И особенно тихо было в одной квартирке, занимаемой барышней Капой, которую называла ее подруга «Пароходом Капитолиной». Так тихо, будто никого уже там не было – между тем, Капа вернулась как всегда и легла спать вовремя.
Из щелей же квартирки, наружу, рассеиваясь в холодном предрассветном Париже, а из двери выползая на лестницу, сочился противный запах: светильного газа.
* * *
Смерть всех влечет. Все поспешили заглянуть: и худенький гарсон Робер с гнилыми зубами, и прачка Мари, и газетчица, недавно выдавшая дочь, и приказчик из мясной. Мари ахала. По ее мнению, mademoiselle Сара любила женившегося Leon'a. «Oh, vous savez, il est tres joli, ce garson aux yenx gris! Oh, pauvre mademoiselle, oh, vous savez…» Мари вновь забежала в cafe-tabac, хлопнула un cassis. [71]71
О, вы знаете, он очень красивый, этот мальчик с серыми глазами! О, бедная мадмуазель, вы знаете… (фр.) кафе (фр.). наливки (фр.).
[Закрыть]
Мсье Жанен прибежал в старом, засаленном жакете без воротничка, в домашних туфлях – он только что щупал кур и задавал корм кроликам. Тоже выразил сожаление, но нашел, что покойная поступила неосновательно.
– Можно покончить с собой, – говорил он Роберу. – У меня был племянник, молодой человек как вы, он выпивал по шести литров в день и под конец впал в меланхолию.
Робер несколько обиделся.
– Мсье Жанен, я не выпиваю и двух. Но Жанен не обратил на него внимания.
– Mais il etait sage, mon neven… [72]72
Он был рассудительный, мой племянник… (фр.)
[Закрыть]Он выбросился на мостовую из окна пятого этажа.
И Жанен почти ласково рассказал, как Этьенн проломил себе висок – это ничего не стоило родным.
– Tandis que cette insensee [73]73
Тогда как этот рассудительный человек (фр.)
[Закрыть]– подумать только, всю ночь газ был открыт, сколько это выходит кубических метров? А кто будет платить?
Робер ничего не мог ответить. Он заметил лишь, что русские вообще странные люди.
– Desуquelibres [74]74
Неуравновешенные (фр.)
[Закрыть],– решили оба и направились в бистро: один, чтоб непрерывно наливать и кричать – un bock, un! [75]75
еще кружку, еще! (фр.)
[Закрыть]или в кассу, бросая монету: soixant-quenze sur deux! [76]76
семьдесят пять умножить на два (фр.)
[Закрыть]– другой «освежиться» при помощи un sain autentique Pernot [77]77
бодрящего настоящего Перно (фр.)
[Закрыть].
Комиссар, плотный, хорошо выкормленный человек, напоминавший церемониймейстера на похоронах, управился довольно скоро. Самоубийство очевидное – преступления нет. Смерть установил врач – хоронить можно. На вопрос, есть ли родственники и кто хоронит, сначала получил от консьержки неопределенный ответ, но спустившиеся в ложу дама и военного вида старик, бедно, но аккуратно одетый, заявили, что похороны берут на себя русские, а старик – дальний родственник. Он просит разрешить доступ в квартирку, чтобы отслужить панихиду и читать Псалтырь.
Комиссар не счел нужным мешать этим русским, показавшимся ему приличными.
С той минуты ключ от квартиры и все распоряжение останками соседки перешло к генералу и Доре; ей и пришла мысль назначить генерала родственником.
Комиссар уже уходил, когда новое лицо появилось у входа: маленький старичок в шляпе, с седою бородой, под которой на рясе золотел крест. Un vrai pope russe» [78]78
Настоящий русский поп (фр.)
[Закрыть],– определил комиссар и еще более утвердился в правильности принятого решения. Они станут заниматься своими религиозными суевериями и читать разные заклинания, но в республике давно уже объявлена веротерпимость и ему совершенно безразлично, будут ли бессмысленные, но не нарушающие порядка rites [79]79
обряды (фр.)
[Закрыть]совершаться на русском, еврейском или еще каком языке.
Комиссар откланялся и ушел. Мельхиседеку тут же сообщили о Капе. Он снял шляпу и перекрестился.
– Ах, Боже мой, Боже мой…
Дора очень взволнована, сдерживается. Генерал молчит. У него особенно каменный вид. Ключ перешел к нему. И втроем, медленно они поднимаются.
Любопытные уже разошлись. Генерал не совсем твердой рукой вложил ключ в скважину. У двери стоял Рафа – бледный, черные его глаза бессветны.
В квартирке не совсем выветрился еще запах. Он будто пропитал собою вещи, стены. Рафа прижался к матери. Он никогда еще не видел мертвых. Сердце билось, когда вошли в комнату, которую отлично знал он, обычную, как у него.
Капа лежала на постели очень покойно, навзничь, с закрытыми глазами. Нечеловеческая тишина вокруг. Снаружи, через сад, могли доноситься какие угодно звуки, хоть бы и грохот, стрельба, здешнего безмолвия нельзя было нарушить.
Генерал и Мельхиседек перекрестились. Дора с Рафой стояли в сторонке. Все молчали. Генералу представилось, что вот так же лежала в Москве его Машенька. Он стоял и не мог оторваться от лица Капы, терявшего уже жизненность, переходившего в мир недоступный.
– Самоубийц прежде не отпевали, – сказал Мельхиседек. – Грех это, действительно, тяжелый. Ну… теперь службы разрешаются.
Рафа вспомнил, как она лежала тут больная, на этой же постели, а он сидел и рисовал у стола. Захотелось подойти, погладить ее руку. Но стало страшно.
– Мама, она совсем умерла?
– Совсем.
– И никогда не оживет?
– Никогда.
Дора хотела было прибавить, что есть люди, как Мельхиседек и генерал, которые надеются, что «оживет», но удержалась: понять это невозможно, к чему забивать мальчику голову фантазиями?
Перейдя в кухню, стали говорить о практическом: как хоронить. Мельхиседек предложил – через сестричество. Будет проще, дешевле. Он сейчас едет в церковь, привезет облачение для панихиды, поговорит с сестрами.
Дора взялась достать денег.
– А вы, Михаил Михалыч, – сказал Мельхиседек, – потрудились бы начать чтение Псалтыри.
Генерал поклонился как бы даже с покорностью.
– Принесите Библию, я укажу, что именно.
Генерал вышел и скоро вернулся с книгой. Мельхиседек загнул углы некоторых страниц. Поставили столик, на столик– шкатулку, на шкатулку – Ларусса, – получилось вроде налоя. Консьержка и Дора должны обмыть тело, одеть и приготовить к гробу. Тогда генерал начнет чтение.
Когда Мельхиседек спускался вниз, у входа встретился с веселой француженкой, mademoiselle Denise, приказчицей соседней съестной лавки – у нее в руках была бумажка. Вместе с Женевьевой собирала она среди жильцов, соседей на похороны «бедной маленькой русской».
Рафа же поднялся к генералу. Что-то томило его. Он молчал, хмурился, старался иметь такой вид, что все знает и понимает, но ничего не мог понять. Знал же одно, только с матерью и генералом ему легче. Это свои, у них можно укрыться в привычную милую жизнь, среди ужаса и странности случившегося. И когда генерал сел у окна, Рафа приник к нему, головою к плечу. Генерал вздохнул. Рафа увидел в углу бутылку знакомую темно-зеленого стекла. Она была покрыта пылью.
– А давно мы туда полтинничков не клали… – и вдруг осекся, замолчал.
Генерал гладил его по голове старческими сухими и прокуренными пальцами с рыжими пятнами табака. Ласкал у виска, щеки. Рафа тяжело всхлипнул.
* * *
Началась панихида. В траурной ризе с серебряными цветами Мельхиседек стал торжественней. Бледный свет свечей, желтый и тонкий, был Рафе страшен. Пришла Зоя Андреевна, художник сверху, генерал, консьержка. Капа лежала убранная, с двумя букетами красной гвоздики – лицо ее приняло восковую хладность, с темно-синими провалами у глаз.
– Почему она открыла газ? – спросил Рафа у матери, сжав ее руку, когда панихида кончилась. – Она нездоровая? Почему всегда была такая… немножко вроде сумасшедшая?
– Да, да, нездоровая… – Дора не без волнения, но рассеянно обняла его.
Мельхиседек разоблачался. Она подошла и попросила к ней зайти, если он свободен. Мельхиседек выпрастывал седую голову из-под разреза ризы, оправлял волосы. Взгляд его был спокоен и серьезен.
Через четверть часа он сидел в столовой Доры. Рафу она услала прокатиться на тротинетке – не все же сидеть с панихидами да смертями! Генерал остался читать Псалтырь. Дора предложила Мельхиседеку чай с печеньями.
– Сын спросил меня сегодня, почему она покончила с собой. Я сказала… первое попавшееся. Но меня самое не удовлетворяет…
Дора слегка волновалась, сдерживала полную свою грудь.
– Скажите, ведь она была православная?
Мельхиседек держал в руках блюдечко с чаем и дул на него.
– Православная.
– Я спрашиваю потому, что у меня с ней был очень довольно странный разговор – в тот день, когда она по нечаянности съела несвежей рыбы. Говорили как раз о самоубийстве. Капитолина Александровна двусмысленно выразилась – выходило, что она против самоубийства, т. е. на словах, но грехом как будто не считала, и к жизни относилась презрительно.
Мельхиседек допил чай, поставил блюдечко и обтер белые усы огромным носовым платком – извлек его из глубины рясы.
– Это весьма похоже на ее образ мыслей.
– Но она… исполняла обряды, ходила в церковь?