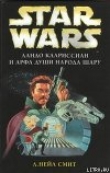Текст книги "Дом в Пасси"
Автор книги: Борис Зайцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
ДЕЛА
Холодно. Город в рыжем тумане. Едва видно солнце – из другого мира – блеклое, розовато-кирпичное. Угольщики не успевают втаскивать мешки по винтообразным лестницам. Мрут немолодые французы от удара. Особенно полны бистро – лицами багровыми, шарфами, каскетками. Вечером, в синеющей мгле, туманны огни и страшны на заиндевелом асфальте автобусы, грозной судьбой проносящиеся.
Город Париж дымит всеми глиняными трубами над черепицами крыш – не надымится. Холодно людям старых домов, среди них и дому в Пасси, русскому. Лишь у Доры Львовны тепло вполне: две саламандры. У Валентины Григорьевны полутепло, мать заведует топкой. У Капы на четверть тепло – после службы затапливает крохотную печурку. О генерале и Леве лучше не говорить: одному не на что, другому некогда. Анатолий Иваныч протапливает последние стаэлевские деньжонки. За годэном следит замечательно. От старичка Жанена научился аккуратно вынимать угольки из пепла – отдельно, и опять в печку, чтобы не пропадали.
Несмотря на холод, много выходит. Правда, у него теплое пальто со скунсовым воротником, гетры, плюшевая шляпа. Это для теплоты и удобства. А для солидности палка с серебряным набалдашником. Оба Жанена – и родовитая жена с белыми буклями, бархоткой на шее, и худенький старичок в старом жакете и туфлях уважают его за скунса, за трость, за любезность. «Это большой русский барин, – говорит мсье Жанен угольщику. – У него в России огромные поместья. Временно ему трудно… но ведь революция! Впрочем, у него есть богатые родственники в Швеции. Ему присылают деньги из Стокгольма».
Когда Анатолий Иваныч идет в три часа по улице Помп, вид у него вполне пассийский: можно подумать, хороший текущий счет, сейф, своя машина… Жена уехала на ней в Канн [32]32
(фр. Cannes, [kan], окс. Canas) – город на юге Франции с населением в 70 тысяч жителей. Является одним из наиболее популярных и известных курортов Лазурного Берега.
[Закрыть], муж садится в первый класс автобуса. Но ведь не так легко отличить и Женевьеву, в эти же часы выходящую на службу, от пассийской честной барышни, тоже с выцвеченными волосами, накрашенными губами и равнодушным холодом глаз.
В один такой день ехал Анатолий Иваныч в первом классе, сидел лицом вперед. Женевьева во втором у окна, лицом назад, и ее левой ноге мешал овальный кожух колес. Перед его глазами торчал на высоте шофер в кожаной куртке с шарфом на шее и обгорелым от холода лицом. Перед ней, за дамой, покачивались на площадке пассажиры. Ни он ее заметил, ни она его. Оба, однако, дышали одним воздухом: смесью бензина с духами. Автобус мягко покачивался, дрожал масляно-бензиновым сердцем.
В самом движении его – теплая, стремительная сила. Как во сне струились Этуали, авеню Фридланд с каменным Бальзаком; вниз стремящаяся к церкви св. Филиппа Рульского узкая улица Фобур Сент-Онорэ. Такие же неслись навстречу автобусы, с такими же мордато-обгорелыми шоферами, звонками, тормозами.
Какие мысли у Женевьевы? Никаких. Иной раз взглянет на фасон шляпки, на собачку с давленою мордочкой… ждет остановки у Мадлэн. И Анатолий Иваныч не решал мировых вопросов, когда по авеню Габриэль мчал его автобус мимо ресторанов Елисейских полей, мимо скверов, садов, мимо дома налево, единственного в Париже, чей фасад в колоннах, как в русской усадьбе. Может быть, вспоминал губы Доры Львовны и бессмысленный ее взгляд – столько взглядов за жизнь, столько губ! Или думал о Капе: «Капочка отличная, но тяжелый характер…» Тоже не редкий случай. Дора очень славная, хорошо, что разумная и не психопатка. Все это мило и симпатично, и никак жизнь не устраивает.
Он слез. Женевьева поехала дальше – тонкое и равнодушное ее лицо до самой Оперы покачивалось за стеклом. Он же шел медленно мимо Вебера международного, мимо taverne Royale [33]33
Королевская таверна (фр.)
[Закрыть], где заседали раньше французы окрестные, перед панно прошлого века с сюжетами увеселяющими. Все эти места выхожены. Все-таки не теряют прелести. Всегда приятно чувствовать за спиной площадь Конкорд с обелиском и стрелами автомобилей – перед собой же тяжеловатые колонны Мадлэн.
У знаменитого ресторана Анатолий Иваныч остановился. Это он уважал. Небольшие зеркальные окна со шторами, красного атласа диваны и кресла, зеркала, несколько всегда сонных лакеев во фраках. Старомодное и неброское, вроде московского Тестова.
Перед фасадом Мадлэн поглазел по обычаю, перешел улицу, когда ажан остановил поток автомобилей, и бессмысленно пошел вдоль левой стороны храма. В небольшую дверь с навесиком на тротуар вошли две дамы. Старушка в черном вышла. «Капелла Антония Падуанского!»
Он когда-то слышал о ней. «Хороший был, Падуанский… с мальчиком всегда изображается». Анатолий Иваныч вдруг почувствовал себя смирным и маленьким. Вот у него этот меховой воротник, трость, десять франков в кармане, комбинации в голове и неизвестность на завтра. А в прошлом? Тоже, может быть, лучше не вспоминать? Но для таких и жили Падуанские. Если бы все были добродетельны, то и святыни бы не надо.
Из низенькой передней повернул он направо – тоже низенькая, узкая и длинная комната со сводами. Горит много свечей. Стоят стульчики. Сразу же слева – розовый св. Антоний на пьедестале с младенцем Иисусом на руках – это и есть «с мальчиком». Яичко золотое. Цветы, медальки, образки – вся нехитрая бутафория католицизма. В стенах плитки с надписями: «Remerciements» [34]34
«Благодарность» (фр.)
[Закрыть]. Анатолий Иваныч по-православному перекрестился и неловко стал прямо против розового Антония, загораживая дорогу. Чувство детскости, смирения и ничтожества возросло. «Ты ведь знаешь, какой я, и что… помоги, святой Антоний, вот я к тебе всею душой… Помоги».
Что имел он в виду? Удачную продажу? Выгодную женитьбу? Возможно. Розовая статуя святого много перед собой перевидала. Ничтожеству ли, слабости ль человеческой удивляться? И может быть, не весьма огорчился святой малому обращению человека в катакомбной крипте.
* * *
В эти же самые часы Женевьева работала с той бессознательной добросовестностью, которая одинакова: в ней, в барышне за прилавком, дактило за машинкой. Она знала, что вялое свое гибкое тело с плавными бедрами – основой заработка – надо в некоторые часы выставлять: как на рынке овощи, фрукты, рыбу. А для этого следует делать круги по бульварам, с видом независимо горделивым: дама, вышедшая за покупками. Потом по неписаному закону зайти в кафе – здесь уже аллюром мисс Вселенной. И над чашкой кофе сидеть долго, в безразличии оцепенения. Впрочем, переводя взор по посетителям. Старику из провинции, с красными жилками на лице, пьющему у окна витель – загадочно улыбнуться. Начать флирт с веселым толстолицым коммивояжером – и как только поднялся он и ушел – зря пропали заряды – вновь омертветь и пустыми глазами глядеть на проходящих гарсонов – единственных людей, с ней разговаривающих по-товарищески: некоторых знает она и ближе, но никого не помнит по именам. И ее все в лицо знают здесь, но никто не знает, кто она.
Женевьева может быть парижанкой, может происходить из Гренобля, Тура или Нанта: никому до этого нет дела и никто этим не интересуется. На своей службе она дельная работница. Прогулов не знает. Обязанности исполняет добросовестно и равнодушно. Когда очередной cheri [35]35
милый, дорогой (фр.)
[Закрыть]спрашивает, есть ли у нее кто близкий, Женевьева покойно отвечает:
– Non, monsieur [36]36
– Нет, господин (фр.)
[Закрыть].
Впрочем, вопросы такие редки.
…Ныне работа не весьма клеилась – из-за холода. Это обычно. Она не огорчалась. Потеплеет, все будет наверстано. Сделала круг мимо магазинов Лафайет, поглазела на световые каскады, на катанье со снеговых гор в окнах, на безликих манекенов, медленно за стеклом вращающихся: ей они очень нравились. Искупалась в зеленом и фиолетовом свете, поочередно сверху насылаемом… Предрождественская толпа – толстые мамаши с детьми, очереди перед панорамами. Долго ей тут не приходится быть. Людской поток, что стремится к Прэнтан – бесчисленное море тел, лиц, взглядов, смывающих, замывающих каждое отдельное лицо – вынес ее, с одним-двумя перебоями у боковых улиц (волны поперечных автомобилей), к улице Троншэ, тоже сверкавшей красной пестротой света – столь изящно дробного, рассыпанного, такого парижского… Тут уж свободнее. Две знакомых товарки подрагивали на углу улицы Матюрен. Женевьева улыбнулась им и кивнула. Они улыбнулись тоже. Как проходящие корабли – Женевьева взяла курс на Мадлэн, а Жоржетта с Денизой на Лафайет. Их дальнейшее плавание в сине-туманном Париже, пронзаемом тысячью острых огней, гудков, скрежетов автобусных, не совсем одинаково. Жоржетта направилась в кафе, Дениза получила ангажемент, Женевьева спокойной своей походкой дошла до Мадлэн, и, когда огибала храм справа, столкнулась с изящным господином в скунсе, выходившим из капеллы Антония Падуанского. По скунсу собралась было выстрелить, но заметила знакомое пассийское лицо – при потушенных огнях прошла мимо. Соседей в клиентуре быть не могло. Анатолий Иваныч при всей рассеянности своей тоже обратил на нее внимание, хотел было поклониться. Но Женевьева уже вдали покачивала на ходу бедрами, оставляя эротическую фосфоресценцию. Это на занимало его сейчас: не без задумчивости брел он к метро – собирался навестить Олимпиаду Николаевну.
А равновесие трех встретившихся девиц быстро восстановилось. Через полчаса Женевьева получила ангажемент, а Дениза сидела в кафе, потом обе делали круги дальнейшие, а выступала со своим номером Жоржетта. Потом все трое в разных кафе сидели, в разных отелях лежали – сочетаний оказалось порядочно. Зимний Париж, холодный, предпраздничный, тасовал их как хотел.
* * *
Олимпиаде Николаевне было под пятьдесят. Но на вид не более тридцати пяти. Она обладала удобным свойством, не столь редким у парижских дам с бюджетом от пятнадцати тысяч в месяц: если не молодеть, то удерживать позиции. Это не так трудно ей и давалось: помогала гигиена, техника и ровный характер. Основное правило жизни ее – не волноваться. Она любила себя спокойной, самоуверенной любовью, твердо верила в свою звезду и со всеми данными этими прожила довольно бурную жизнь. Бурность связана была с красотой. Если Женевьева считала, что бедра кормят ее, то белотелая, могучая Олимпиада с гораздо большим правом могла сказать: «Квартира моя – это я. Платья мои – я, бриллианты тоже я».
Происхождения средненизшего, она рано вышла замуж в Калуге за доктора. Потом ее увез актер, в Нижнем застрелился. На ней женился пароходовладелец. Потом влюбился инженер, потом попала она к крупному картежнику в Москве. Началась война – она в Польше с санитарным поездом. Наряд сестры милосердия весьма шел к ней. И в «малом Париже» познакомилась она с лодзинским фабрикантом – начался развод с судовладельцем. Тот умер вовремя. Олимпиада превратилась в польскую гражданку. По окончании войны много шатались они с мужем по Европе, играли по всем Биаррицам и Довиллям. Муж проигрывал. Олимпиада выигрывала, ей везло. Правда, в случаях ее проигрыша платил он, она же ему своих выигрышей не отдавала, но и проигрывала редко – опять-таки дар характера и некоторый опыт молодости – уроки ушастого игрока из Москвы.
Наступила минута, когда муж окончательно ей надоел. Она устроилась так, чтобы жить в Париже, его же почаще, подольше засылать «на корону» – управлять там делами и именьями. Это давало ей свободу. Польская гражданка из Калуги посещала премьеры, пила чай у Ритца, причесывалась у Антуана и каждое утро Дора Львовна разминала ее все еще прекрасное, с розовеющей нежностью блондинки тело. У ней было много друзей и среди французов – титулованных или промышленников. Называли ее la belle Olympe [37]37
прекрасная Олимпия (ит.).
[Закрыть]. С русскими тоже водилась – без особенного разбора. Что-то русское, почвенное сидело в ней, несмотря ни на какие Парижи: скучно с одними иностранцами. И потому – с неким опасением хлопот и просьб о помощи – перед соотечественниками все же не закрывала она дверей.
Анатолий Иваныч сел в метро на бульваре Османн. Через десять минут сороконожка станции Трокадеро выносила его из глубин. Рядом ахали две мидинетки – вечным аханьем притворного страха – как бы не оступиться при выходе – хохотали, держались друг за дружку. Анатолий Иваныч любил эти лестницы. Поднявшись, оглянулся – нельзя ли опять спуститься и подняться? Но было уже поздно, сонный тип в будке – сзади. Зато выйдя на свет Божий, пересекши синюю в вечерней мгле площадь с золотыми огнями, он на улице Франклэн не сел в подъемник дома Олимпиады, а пошел пешком: насколько любил ползучие гусеницы метро, столь же ненавидел лифты – боялся их. И медленно подымался сейчас по тихой, в ковре, лестнице. Олимпиада жила в четвертом этаже, с балконом, видом на Трокадеро и заречье Парижа. Богатые французы обитали за массивными дверьми… Все здесь – порядок, «благообразие». Шаги не слышны по бобрику. «У консьержки, наверное, les quelques six-sept cents milles francs d'economie [38]38
какие-то шесть-семь сотен тысяч сбереженных франков (фр)
[Закрыть]. Да, у них все прочно, у французов».
Отворила горничная – из тех безразлично послушных парижских существ, что с парадной своей стороны, обращенной к хозяевам и гостям, напоминают летейские тени, в действительности же полны той самой жизни, страстей, зависти и желаний, как и их повелители. Такая тень – нынче Жюльетта, завтра Полина – прошептала, что мадам несколько сейчас занята. У мсье rendez-vous? [39]39
свидание (фр.)
[Закрыть]. И безразличным жестом пригласила в гостиную. Столь же привычно повернула выключатель – в люстре вспыхнул нежный свет, сразу выхвативший комнату из небытия. Мягкий ковер – будто бобрик с лестницы забрел и сюда. Виды Варшавы на стенах, мощный диван ампир из деревенского дома под Кельцами. Карельской березы рояль, узенький, старомодный: не Шопен ли играл на нем некогда? Куст бледной сирени в корзинке.
Летейская тень удалилась. Анатолий Иваныч потушил свет. Комната тотчас угасла, зато другой мир явился: за окнами, дальше решетки балкона, за башней Трокадеро замерцал золотистой чешуей Париж. Мрак синел и туманел. Но дракон шевелился в нем, отливая бесчисленными, огнезлатистыми точками. Анатолий Иваныч сел в кресло. Было тепло, тихо, покойно. Из двери справа узенькая стрела света по ковру. Голоса. Олимпиадин узнал он сразу, другой, мужской, будто тоже знакомый.
Над драконом в окне вознеслась узкая золотая цепочка башен, задрожала, обнаружила над собой красную голову, а на теле выскочила цифра «6», и красная голова заструилась, замигала переливчатым пламенем.
В комнате двинули стулья, встали. Дверь отворилась. Олимпиада вошла плавной, медленной, точно паж должен нести шлейф королевского ее платья.
– Какая тьма…
Опять тайная сила пронеслась в люстру. Мантии на Олимпиаде не оказалось, просто атласный пеньюар с мехом. Сзади Михаил Михайлович.
Анатолий Иваныч подошел к ручке. Давнее знакомство, еще с Польши, баккара с мужем, некие общие предприятия с Олимпиадой, все это установило как бы товарищеские, слегка запанибрата отношения.
– А мы с генералом целые проекты строили… Да, трудные времена.
Все тем же плавным шагом подошла она к сирени, тронула ее у корня. Глаза стали серьезны. Тяжеловатые ноздри раздулись.
– Helene [40]40
Элен! (фр.)
[Закрыть].
Летейская тень вынырнула из глубины.
– Вы не поливаете сирени. Совсем сухая!
– Я поливаю.
– Нет, сухая.
Тень покорно исчезла. В передней раздался звонок. Олимпиада взглянула на ручные часы.
– Это мой адвокат. Дела, дела… Генерал, попробуйте, как я советую. Может, что и выйдет. Я ведь дала вам карточку. Так. Анатоль, чай будет в столовой, мне только несколько слов, да подписать две бумаги. Вот. У вас, разумеется, тоже неважно? Да, поговорим. Михаил Михайлович, если меня не дождетесь, то передайте Доре Львовне, чтобы захватила завтра эту книжку.
И la belle Olympe, положив руль вправо на борт, выплыла в свой кабинет.
Анатолий Иваныч ласково улыбнулся генералу.
– Погодите уходить. Выпьем по чашке чаю. Генерал имел вид несколько подавленный.
– Что же мне здесь чай пить. Я как проситель, с письмом. Анатолий Иваныч взял его за рукав, слегка погладил.
– И я. И я тоже. Это… ничего!
Он серьезно, по-детски расширил глаза.
– Вы на халаты атласные… не обращайте внимания. Это – так полагается. А стесняться… Не надо. Она вам обещала?
– Д-да-да… что-то вроде консьержа в замке под Парижем. Генерал вынул карточку, повертел в руках. Слегка пожал плечами.
– Я могу и консьержем…
– Консьержем, консьержем…
Анатолий Иваныч все улыбался – лукаво и поощрительно. В такое дурацкое, мол, время ничему удивляться не приходится.
Но в столовой внимание его быстро отвлеклось. На столике стояла шхуна, изящно сделанная. Он показал на нее генералу.
– Это… мой подарок. И вместе – реклама! Он хитро улыбнулся.
– У нее здесь бывает немало народу, видят… иной раз и мне заказ перепадет. Есть ведь любители кораблей. Она меня познакомила с одним стареньким французским адмиралом, премилейшим… Два брига заказал и фрегат… А иногда мы с ней и большие дела устраиваем.
Анатолий Иваныч блаженно улыбнулся. Вновь переживал радость хорошей комбинации. Но и генерала несколько подбодрила шхуна.
– Ведь замечательно сработана, действительно… Вы что же, моряком были, что ли? Инженером корабельным?
– Нет! Никогда. И даже боюсь моря. Я по дипломатическому ведомству.
Генерал посмотрел на него пристально. «Со странностями малый. Прямо чудаковат». Когда тень с именем Элен внесла чай, они сели у тяжелого дубового стола с дневной скатертью – добротной красноватой материи. Анатолий Иваныч задумался, побалтывая ложечкой в стакане.
– Я был младшим секретарем посольства, и казалось, все так навсегда, и служба, Россия. А теперь видите… тоже очень нуждаюсь. Пожалуй, не меньше вас. Тоже… борюсь, но иногда падаю духом. – Он помолчал, потом вдруг взял опять генерала за рукав, приветливо и как бы с грустью. – Вот и подумаешь: к чему? Вечно возиться, бороться, бегать, занимать… Я сегодня к Антонию Падуанскому заходил, помолился ему… Это, как вы думаете, поможет?
В комнате тихо, светло. Отопление слегка потрескивает. Иногда по трубам что-то мелодически перебегает. Генерал сидит под струящимся светом, в незнакомой комнате полузнакомой хозяйки, глядит на малознакомого обитателя Пасси – полусоседа, полутоварища. Ему тоже кажется, что приоткрылась некая стена из светло-теплой столовой. Море житейское! Ему ли не знать по нем плаваний?
Но сейчас он бурчит:
– Что ж это к Падуанскому? Вы разве католик?
– Нет, православный.
– Тогда лучше уж к Сергию или Серафиму. Анатолий Иваныч вдруг забеспокоился.
– Напрасно к Падуанскому? Значит, скорее бы вышло, если бы обратился к преподобному Сергию?
Генерал слегка фукнул.
– Опасаетесь, что вместо Маклакова попали к Моро-Джи-аффери?
– Нет, но, конечно, естественнее мне, как православному…
– Ничего, Бог даст и Падуанский поможет.
Генерал помешивал чай ложечкой, задумчиво смотрел на Анатолия Иваныча. Он уже несколько освоился и с местом. Вежливый человек с мигающими глазами, будто чего-то стесняющийся, не раздражал его.
– А по правде говоря, очень многим русским здесь нужна сейчас помощь. Дело серьезное-с, очень серьезное…
– Серьезное, – отозвался почтительно Анатолий Иваныч.
– И не столь в смысле материальном. Разумеется, всем трудно. Приходится вот так пороги околачивать. Но главное не в этом. Мы, военные, отлично знаем, что такое в борьбе моральная сторона. Самый ловкий и правильный маневр может разбиться о духовную стойкость. Вспомните у Толстого, Шенграбенское сражение. Да таких примеров можно и из нынешней войны привести десятки. А так как нынешняя жизнь по напряженности своей очень похожа на войну, то и приходится с опытом войны считаться.
– Конечно, война! Совершенно правильно.
Анатолий Иваныч все сочувственнее на него смотрел. Этот сухощавый старик, бедно одетый, среднее между испанским грандом и аристократическим консьержем, нравился ему все более.
– Я даже скажу вам так: наше положение походит на труднейшую фазу военных действий – на отступление… Как мы в Польше, в пятнадцатом году, летом отступали… Сохранить в отступлении порядок и не пасть духом, не разложиться – это, знаете ли… Здесь не место, разумеется, рассказывать. Но как вспомнишь эти ночи июльские – в темноте полк движения, и с трех сторон зарева. Только узенький коридорчик туда, где Россия. С трех сторон немцы. Как они нас, почти безоружных, вовсе не окружили – удивляюсь.
Генерал помолчал.
– Здесь, в эмиграции, многие не выдерживают, как и у нас на фронте случалось. Выскочит из окопа молоденький прапорщик. Скажем, у него зуб болит. Да из-за зубной боли трах, в лоб себе из нагана. Вы замечаете, как часты стали у нас самоубийства? Газ, веронал, мало ли что. Даже и преступления появились – ослабел народ, оно понятно. Вот где духовная поддержка и нужна-с. Это все равно, разумеется, Сергий или Антоний, важна бодрость в отступлении, чтобы его достойно вынести. На заранее подготовленные позиции! Знаем мы эти позиции. Вроде тогдашних окопишек – бухнешься в них на заре и лежишь целый день. Но что поделать, приходится… и теперь как тогда в младших бодрость поддерживать. В нашем, военном кругу, есть здесь известное товарищество, связь. В некоторой степени крепит. А нужно бы и вообще на всю эмиграцию.
– Вот именно на всю! Вы правильно сказали, совершенно правильно. На всю!
Анатолий Иваныч вполне оживился. У него был такой вид, что он готов сейчас же поддерживать и укреплять не только военных, но и всю эмиграцию. А пожалуй, и весь свет.
* * *
Он это и показал. По его мнению, русские должны были объединиться, устроить содружеские артели, образовать общий фонд и в конце концов избрать себе правительство, в противовес третьему интернационалу. Центр должен быть в Париже, а отделения разбросаны по всему свету.
Генерал допил чай, встал. Ему вдруг стало несколько не по себе. Что-то уж очень того… занеслись. И сам он впал зачем-то в разглагольствования и воспоминания – в чужом месте, куда попал отступая – перед полузнакомым человеком двусмысленного, несолидного тона…
Анатолий Иваныч стал его удерживать – будто был тут хозяином. Генералу это еще меньше понравилось. Он вежливо, но прохладно попрощался и вышел.
…Несколько слов и две бумаги Олимпиады затянулись. Ожидая ее, Анатолий Иваныч подошел к невысокому буфету и достал коньяку. Вид бутылки со звездочками и коричневато-золотистой жидкостью не огорчил его. Первую рюмку он выпил сразу, не отходя, вторую налил до краев, бережно донес к столу и уважительно поставил на серебряный подносик: к этакому коньяку не мог отнестись легкомысленно. Эту вторую выпил уже медленно, заедая кусочком сахара. Но фатально вторая повлекла третью, погружая в коричневато-золотистые фантазии.
В этом состоянии – мечтательной расслабленности – и застала его Олимпиада. Из гостиной выходил адвокат. Она была несколько недовольна, поправляла у зеркала волосы. Светлые глаза глядели хмуро.
– Столько всяких неприятностей. С этой Польшей черт ногу сломит. И еще был бы рядом толковый мужчина… А вы ведь знаете, он там по части скачек да карт. Дела все на мне. Вы, конечно, уже выпиваете. Дайте и мне рюмку. Устала. Толстеешь от коньяка… обращусь в Стаэле. Ну, одну рюмочку.
Анатолий Иваныч налил, она прочно, по-мужски опрокинула. Ноздри слегка раздулись.
– Вот. Теперь тепло.
Она провела рукой по горлу и верхней части груди.
– Анатоль, у вас, конечно, тоже нету денег? Вы потому и пришли? Скажите прямо: занимать или советоваться?
Анатолий Иваныч стал ласково и бессмысленно улыбаться. Олимпиада налила себе вторую.
– Коньяк неплохой, это мне подарок. По вашей улыбке я вижу, что и занимать, и советоваться. Превосходно. Взаймы я вам дам пятьдесят.
Он встал, поцеловал ей ручку.
– Мне нравится в вас эта бессмысленная улыбка и вообще ваша бессмысленность. Я вам ничуточки не доверяю, и все-таки веду с вами дела, потому что у вас приятный характер. А я больше всего не люблю раздражаться, волноваться.
Она села в кресло, вытянула могучие ноги, опершись пятками на низкий пуф, и ее крупное, холеное тело как бы успокоилось в удобном футляре. Полузакрыла глаза, подняла голую руку и опять поправила волосы – низкий завиток знаменитого парикмахера: точно ленивый зверь.
Начался разговор о деле – все о той же картине, которую греку он, разумеется, не продал, и теперь решил без Друцкого попробовать с Олимпиадой. Она сначала посмеивалась. Потом стала серьезней. Фрагонар… да, отказываться нельзя. Были и собственные предложения, но это мельче. Она сделала над собой усилие, встала. Села к столу и в спокойном, деловом тоне принялась обсуждать, к кому обратиться, что спрашивать.