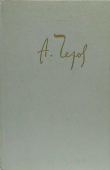Текст книги "Горькие шанежки (Рассказы)"
Автор книги: Борис Машук
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Давясь слезами, Ваня пытался объяснить все сразу, и от этого говорил еще непонятнее.
– Я… Я… А она… заругалася, толкнула… Она…
– Да кто же это? Что за девчонка такая?
– У-уучителка…
Ошеломленная тетка Мария выпростала из-под полы Ванино лицо, заглянула ему в глаза и с недоверием переспросила:
– Учительница?
Ваня только кивнул. Председательша, опять укрыв его полой и придерживая под боком, быстро пошла к школе.
Светлана Яновна все еще стояла перед рядами парт и, раскрасневшись, говорила что-то злое. Увидев председательшу, она онемела. А тетка Мария, войдя в класс, сразу наткнулась на лежавшую у порога сумку, подняла ее, уложила книжки, тетрадки. Передала сумку Ване и тут под стеной увидела еще и раскрытый альбом. Подняла его, отряхнула и в упор посмотрела на Светлану Яновну:
– За что избит мальчик?
Учительница часто заморгала, красивое лицо ее покрылось пятнами.
– Его никто не избивал… Произошел неприятный инцидент, – заторопилась она. – Этот мальчик неосторожно выскочил из-за парты… Все произошло случайно. Может, и я не сдержалась, но виноват он. Он сам признался. Я вот и хотела поговорить с родителями…
– И в чем же он виноват?
– Он нарисовал, понимаете, скабрезность. – Учительница нагнулась к тетке Марии и что-то быстро зашептала ей на ухо. – Вы же понимаете, – уже громко сказала она, – что я не могу этого так оставить. Это компрометирует, и это же все не так…
– Я и вижу, что это не так, – перебила тетка Мария и повернулась к Ване. – Ты на снегу рисовал что-нибудь?
Ваня удивленно смотрел на председательшу, на ребят и растерянно молчал.
– Рисовал или нет? – повторила тетка Мария.
– Зачем – на снегу? Что рисовал? – не понимал Ваня.
Председательша с горечью усмехнулась:
– Его рисунок и на снегу был бы отмечен. – Она раскрыла альбом, который все еще держала в руках и, перелистывая его, стала показывать Светлане Яновне рисунки. – Вот что он рисует, смотрите…
Она перевернула еще один лист и увидела портрет Светланы Яновны. Взглянув на рисунок, на Ваню, покачала головой и опять протянула альбом к лицу учительницы.
– Вот где он вас нарисовал… Видите?
Она шагнула к Ване и, отдавая ему альбом, сказала:
– Не серчай, Ванюш, на этот раз ты ошибся, совсем непохоже человека нарисовал, дорогой наш художник… – И повернулась к Светлане Яновне: – Отпустите ребят и пойдемте со мной. Мне надо позвонить в районо.
В окно было видно, как они спускались от школы к правлению колхоза, где был телефон. Тетка Мария шла спокойно и твердо, а Светлана Яновна семенила чесанками, дергаясь и взмахивая руками.
Ребятишки стали собираться домой. Сопя и отворачивая глаза, Петька Варнаков протянул Ване Колесину его шапку. Тот машинально надел ее, стал было заталкивать в сумку альбом, но остановился, нашел тот рисунок и порвал его.
В школу Светлана Яновна больше не пришла, а на другой день ее и совсем не стало в деревне. И никто о ней не жалел. А потом поправилась Нина Васильевна. И снова ребятишек тянуло в класс, на уроки, а шишка у Вани сошла.
Тут подступил Новый год и встречали его, как всегда, – с елкой, стихами, песенкой в хороводе и с подарками.
КРУШЕНИЕ

Та зимняя ночь начиналась, как многие. С вечера, когда новоселка Чердымова заступила на дежурство по станции, из-за сопок поднялась было луна, но, так и не осветив округу, скоро сама запуталась в темноте. Мороз схватывал все живое и неживое, да так сжимал, что и лед на озере трещал беспрерывно. Полустанок затих до утра. Светилось только окно станции да семафоры глядели вдоль линии то красным, то зеленым глазком, первыми встречая проходящие поезда.
Долго тянется бессонная ночь… А подутренние часы – самое тяжкое время. Чтобы прогнать дремоту, дежурная выходила на мороз, стояла в проеме двери совсем маленькая, как грибок поздней осенью. Тут, на холодном крыльце, она то вспоминала страшные дни, когда с детьми на руках под бомбежками уезжала от немецкой оккупации, то, придерживая дыхание, удивлялась близости звезд, морозной чистоте неба, а сама все слушала шумы на дороге, угадывая подходящий поезд.
Они шли и шли, каждый в свою сторону. Вот и еще один – с запада. Освещая дорогу яркими прожекторами, он катился под уклон легко, быстро. Дежурная заранее спустилась с крыльца, подошла к линии и подняла фонарь. Охваченная снежным вихрем, постояла, слушая колесный перестук, а проводив взглядом красные огни на последнем вагоне, заторопилась в станцию.
Как и положено, она сразу взглянула на часы, отметила в журнале время, позвонила на соседние станции, потом присела к селектору – для связи с диспетчером.
Тут вдруг широко распахнулась дверь и вбежал путевой обходчик Яков Слободкин. Разодрав опушенный инеем рот, он запаленно выдохнул:
– В выемке… крушение!
Лицо дежурной стало белее стенки, в глазах заплескались страх с надеждой вперемежку. Сразу представилось, как падают под откосы вагоны, как легко разламываются платформы, паровоз, как страшно трещит, рвется и звенит умирающее железо… Тут же в мыслях промелькнуло, что вот дорога вышла из строя, а время суровое, когда все и за все отвечают по-особенному… Еще на что-то надеясь, она молчала, глядя на Слободкина. Он ткнул в окаменевшую дежурную рукавицей, сказал почти шепотом:
– Крушение же, говорю… Слышь ли?
Онемевшим пальцем она нажала кнопку селектора, глухо, через силу доложила диспетчеру отделения про катастрофу. И сразу по многим проводам понеслись тревожные звонки и предупреждения. Они останавливали поезда, поднимали людей…
Узнав о крушении на своем околотке, похолодел мастер Шарапов. Через пять минут в окнах путейцев замерцали отсветы ламповых фитилей. Наскоро одевшись, люди по скрипучему снегу торопились к гаражу и, захватив инструмент, бежали к выемке.
…Над сопками только-только прорезалась полоска холодной зари, когда под окнами спящего Семушки снежным целиком вдоль линии к выемке тяжело прошли танки. На полустанок примчались две мотриссы с начальством, врачами, экспертами, энкаведешниками и отделением солдат-автоматчиков. На станции опечатали журналы, велели Калиткину до срока заступить на дежурство. Оглушенная горем тетка Чердымова молчала, делала все, как во сне, и только когда ее повели к мотриссе, повернулась с порога к Калиткину, попросила негромко:
– За моими тут присмотрите…
Тем временем место крушения оцепили автоматчики. Рабочие искали уцелевших из поездной бригады. Кое-как добрались до будки переломившегося надвое паровоза, нашли мертвых кочегара и машиниста, все еще сжимавшего ручку экстренного торможения. Помощник машиниста был еще жив, но едва дышал переломанной грудью.
Не сразу, но обнаружили и кондукторов. Один стонал под ворохом досок, другой подал голос из нагромождения платформ и вагонов, а кондуктор с хвостового тормоза сам выбрался к спасателям, держа у груди изувеченную руку.
Разбирать завал начали на рассвете. Эксперты сперва осматривали колесные пары, буксы и тормоза вагонов и только потом разрешали солдатам цеплять к ним тугие танковые тросы. Сигнальщики взмахивали флажками, и танки, ревя моторами, волокли из места крушения то сплющенный вагон, то искореженную платформу, то смятое, изуродованное звено пути. Но прежде всего оттащили черные, послетавшие с катков цистерны с бензином.
Работа шла быстро, а эксперты все осматривали и переписывали части состава, в котором были вагоны с мануфактурой, солдатскими шинелями, станками, деталями для самолетов… Были тут и полувагоны с блескучим углем, платформы с досками, кирпичом. Среди них оказалась четырехосная платформа, накрытая брезентом. Эта даже устояла на колесах, только перекосило ее, борт развалился у края и брезент лопнул, обнажая куски крупнозернистой соли.
На подмогу танкам подошли мощные подъемные крапы. Посвистывая паром, один начал поднимать части паровоза, смятые вагоны и ставил их на специальные платформы спасательного состава, а другой кран огромным ковшом переносил на откос уголь, обломки досок, балласт… Привезли рабочих с других околотков, пришел студебеккер с солдатами. Работа пошла быстрее.
К обеду, когда потеплело, к выемке от станции заторопилась ватажка ребят – Семушка, Ленька Чалов, братья Калиткины, Загидулла, деревенские – Цезарь и Пронов Тараска.
Шли по линии, слушая Проньку и Толика. Эти с утра торчали у отца на станции, слышали переговоры начальства и теперь рассказывали, как ахнуло, да как стало разваливаться, да хорошо, что, начав кувыркаться, бензиновые цистерны не шарахнулись одна об другую. А то бы взрывом в горловине выемки все в конец изуродовало. Но Семушка Калиткиных почти и не слушал. Скрипя по снегу растоптанными валенками, он прятал нос в ворот шубейки и думал совсем о другом.
Утром, узнав от Варначат про крушение, Семушка заторопился на станцию, к своему приятелю Леньке. У Чаловых за столом сидели ребятишки Чердымовы – и Люся, и Люба, и Славка. Тетка Катерина – Ленькина мать – подливала им в чашки суп-затируху, приговаривая:
– Ешьте, ребята. Хорошо, досыта ешьте…
Девчонки шевелили ложками тихо, помалкивали, испуганно взглядывая и прижимаясь друг к дружке. А Славка охотно хлебал суп, который не каждый день в домах затевали.
Жуя, Славка повертел стриженой головой и вроде бы ни с того, ни с сего объявил:
– А мамку-то нашу, говорили, посодют!
Все вздрогнули, Люся опустила ложку и тихонько заплакала.
Тетка Катерина прижала ее голову к себе, погладила волосы, заплетенные в косички, и с укором посмотрела на Славку:
– Зазря себя не пугайте. Кто ж хотел, чтобы падал состав? Вот разберутся во всем и выпустят вашу мамку… А пока что – есть, играть у нас станете. Да и спать можете тут. У нас с Ленькой и Титком не так тесно. А захочется – к себе убежите. Недалеко же…
И тогда, глядя на девчонок и Славку, Семушка перепугался за них – им ведь без матери ой как худо придется…
Как жить без матери, Семушка хорошо знал: вот уж год, как он сиротствовал. Прошлой весной, ночью, не охнув, не застонав, мать его умерла. Будто уснула с каплями слез в ввалившихся глазах с желтыми полукружьями. Семушка утром подошел к ней, позвал, взял за руку… На всю жизнь запомнил он холод этой руки. Но ни тогда, ни на похоронах он не закричал и не заплакал. «Окаменел хлопчик!» – сказала на кладбище Степанида Слободкина. Другие тетки сочувственно кивали, а на Гаврилу Ломова смотрели с укором.
Глядя, как засыпают могилу, Семушка понял, что никогда теперь не будет в доме его надежного друга, тепла и опоры. Мать и больная помогала ему. Она могла взглядом остановить отчима, задержать его грубое слово…
Воротясь с кладбища, Гаврила сказал:
– Живи тут, хошь и не родной ты мне. Гнать не буду. Но разносолов, шубов-борчаток да пуховиков под бока не обещаю. Брать мне их не за что.
Семушка ничего и не требовал. Спал на жесткой кровати с досками вместо сетки, закрытыми старым матрацем, на котором и умерла мать. Гаврила занимал другой угол, где стояла деревянная кровать, застеленная старым солдатским одеялом.
Варили они не по очереди, а кому было сподручней. Но и сварив, и поставив картошку на стол, Гаврила никогда не звал Семушку. И Семушка, погодя, молча подсаживался с другой стороны.
Так вот и ели – каждый со своим хлебом, со своим молчанием. Лишь иногда, недовольствуя на какие-то свои расчеты, Гаврила начинал выговаривать Семушке за дармоедство, ругал мать-покойницу, от которой ничего хорошего не имел, и все наказывал, чтобы этим летом Семушка в самостоятельные пастухи нанимался вместо Сашка-однорукого и чтобы, кроме оплаты, хозяева коров брали его на свой стол по очереди.
– А то, – говорил он, – жить так мы не договаривались. Расходов много, а об их теперь ты сам должон думать…
Семушка жалел, что еще маленький и не может ответить за мать. А чтобы не замолчаться совсем, уходил к дружкам – то на станцию, то на казарму. Но в каждом доме свои заботы и беды, и как не крутись, сколько ни играй, а ночевать к себе идти. И по дому все делать. Печь натопить, дров приготовить на утро, воды принести. Летом картошку прополоть да окучить, присмотреть за коровой, которая была к нему добрее, чем отчим.
Закончив четвертый класс, Семушка почти два месяца ходил у Сашка в подпасках, часто и по нескольку дней совсем один оставался со стадом, поредевшим за это время. Держали люди одних коров, молодняк приходилось пускать себе на прокорм: на пустых щах в морозы много не наработаешь на линии с кувалдами да ломами…
В конце августа Сашко свозил Семушку в Узловую. Купил ему штаны, рубашку, даже ношеную железнодорожную тужурку и совсем еще крепкие сапоги:
– В школу бегать в самый раз будет.
Он не знал, что отчим уже отказался платить за Семушку в интернат, за учебники.
– Езжай, учись, ежели тебя государство на всем готовом содержать будет, – сказал Гаврила, починяя мешок перед уборкой картошки. – А у меня не банк, у меня грошей не водится.
Семушка мог бы сказать, что деньги – да сколько их надо-то! – можно выручить от продажи картошки и другой огородины, которую он наравне с отчимом сажал, а летом, по жаре, пропалывал и окучивал… Но и тогда он смолчал. Только потом, проводив Юрку Шарапова, Амоса, братьев Слободкнных и других ребят, не стерпел и поплакал у Зорьки в сарае. Корова косилась на него темным глазом и шумно вздыхала.
Вот и на эту зиму остался Семушка в старой шубейке, купленной еще матерью. Рукава уже совсем коротки стали. Он надшил к варежкам раструбы из брезента, чтобы хоть ветер в рукава не цедился.
Но какое там тепло в брезенте… И теперь вот, шагая с дружками, Семушка толкал поглубже руки в карманы, распоровшиеся по краям, думал про ребятишек Чердымовых, про свою жизнь, про крушение… Прислушался было к Пронькиному рассказу и, неизвестно на что, осерчал:
– И чего ты, Пронька, трещишь все? «Ахнуло, закрутило»… Будто радуешься крушению. Ты его сам-то и не видел вовсе.
Ребятишки удивились, посмотрели на Семушку, а Пронька пробурчал:
– Ты, Семка, прямо ляпаешь, не подумав… Чего бы мне радоваться? Я-то при чем, если так на станции говорили?
Разговор прервался, и дальше ватажка двигалась молча.
Вот уже и выемка… но на линии стоял сержант в полушубке и с автоматом. Ребятишки потоптались, не зная, можно ли проходить, а сержант, глядя на них, усмехнулся.
– Та-ак… Иностранные наблюдатели прибыли. – Поправив автомат, торчащий за плечом вверх коротким прикладом, он посоветовал: – Ну-ка, герои, загребайте обратно. Пока к железу соплями не попристыли. Отдалбливать вас пока некогда тут.
Ребятишки дернулись рукавичками к носам. Сержант хотя и с улыбкой смотрел, а все поняли, что по линии дальше хода им нет. Но Семушка уже заметил на вершине откоса, до черноты изрытого гусеницами танков, драную шапку Петьки Варнакова. Размахивая руками, тот крутился около танкистов в темных комбинезонах.
Семушка полез наверх, за ним и остальные.
Увидев дружков, Петька звонко закричал:
– Видал, чего тут наделали!
Но ему никто не ответил. Глядя с высоты откоса, ребята не узнавали выемку, через которую ходили в сопки. Теперь ее закупоривал завал из вагонов, платформ, рельсов, шпал, угля, досок. Все это было искорежено, смято, перемешано. «Это же сколько сил надо и времени для ремонта дороги?» – ужаснулся Семушка. Но Петька, будто угадав его мысли, махнул рукой:
– Ништяк все! В пятнадцать ноль-ноль поезда двинутся!
– А пятнадцать – это во сколько? – не понял Толик.
– В обед, значит, – объяснил Петька.
Ребятишки, сощурясь, посмотрели на солнце, глянули вниз, а потом с недоверием на Петьку.
– Думаете, брешу? – загорячился тот. – Хотите знать, так приказано. А приказы не обсуждаются вовсе…
Хвастаясь знакомством, он подбежал к офицеру-танкисту, следившему за буксировкой.
– Верно я им говорю, дядь? Ну, что в пятнадцать ноль-ноль поезда двинут. Верно?
Лейтенант кивнул, тронув Петькину голову перчаткой. А Семушка, косо глянув на Петьку, подумал: «И чего лезет ко всем да прыгает, как воробей?.. Тут люди поубивались да покалечились, добра сколько нагублено, а ему – пятнадцать ноль-ноль…»
Ребята смотрели сверху, как рабочие торопливо подчищают лопатами да кайлами балласт, выравнивают полотно, сбрасывая за кюветы остатки угля, досок, которые не мог захватить ковш крана. Беспрерывно стучали молотки, с морозным скрипом укладывались новые шпалы, вытягивались рельсы. Рабочие вели к завалу новую линию, а впереди у них что-то ухало, скрипело, ревели дизеля танков, посвистывали паром краны.
Наверху, на откосе, пахло соляркой и дымом от костра, у которого по очереди грелись солдаты. Они собирали рассыпанные ящики, коробки и тюки, сортировали их и то составляли в сторонке, то перегружали в вагоны.
Сменившись с поста, к ребятишкам подошел давешний сержант-автоматчик.
– Ну, патроны, вас-то какая нелегкая тут держит? Ведь посинели уже. – И подтолкнул всех к костру. – Вот погреетесь малость, и на полном газу – домой! Простынете, чертенята… – Сержант отступил в сторону от костра, глянул вниз и громко позвал: – Симанков! Ногами сюда!
На откос взобрался невысокий солдатик в кургузой шинелке, натянутой на телогрейку, с круглым и красным от мороза лицом. Протягивая к костру руки, он выжидающе уставился на сержанта.
– Вон у того вагона, – негромко сказал тот, – видел я разбитый ящик с чернилками. Принеси-ка вот им по штучке.
Солдат кивнул, погрелся минутку и заскрипел валенками вниз. Скоро он вернулся и стал раздавать маленькие штуковины из пластмассы, похожие на бочоночки. Выдавливая замерзшими губами «Спасибо!», ребятишки брали их, разглядывали непонятные подарки.
Сержант усмехнулся, взял из рук Семушки чернилку и быстро открутил крышку с воронкой.
– Вот, видели? Наливаете сюда чернила до половины, закручиваете крышку – и макайте перышко на здоровье! Как чернилку ни положи, ничего из нее не прольется. Она и называется непроливашкой. Понятно?
Семушка кивнул, положил чернилку в карман. И хотя ему, отлученному от школы, она была не нужна, он с благодарностью взглянул на сержанта.
У зимнего костра толком не согреешься, особенно если одежка худа и сам уже насквозь промерз. Лицо жара не терпит, а спина и пальцы в валенках стынут. Но и хотелось же посмотреть, как начнет пробовать дорогу первый состав. Вон уже как длинно протянулся готовый путь. И только на выходе из выемки оставалась еще небольшая куча. Вот уж ушел кран с ковшом. Загрузив платформы спасательного состава, утянулся за горизонт и второй кран. И недолго уж совсем оставалось до поезда, но и терпения больше не стало никакого. Семушке казалось, что даже в пустом его животе все перемерзло. И, прикрывая посинелые лица, засеменили ребята домой.
Еще не доходя до станции, они увидели, как поднялся рычаг семафора, до того дремавший в бездействии. И сразу обрадованно, длинно прогудел паровоз скорого поезда, отправленного на полустанок из Узловой, где не хватало путей для скопившихся поездов. Распустив усы из пара, паровоз медленно потянул состав. Перестукиваясь заснеженными колесами, поезд прошел мимо ребятишек, не верящих, что уже пятнадцать ноль-ноль и что вот началось движение. Ежась от холода, они смотрели, как скорый медленно спускается в выемку и его зеленые вагоны один за другим скрываются за стеною откоса.
Семушка даже вздохнул с облегчением, понимая, что самое страшное позади, что поезда, хоть и с малой скоростью, уже ходят… Вот только-только скрылся один, а к семафору подвигается новый, а с другой стороны, тяжело пыхтя, забирается на подъем нечетный, которому нужно спешить на запад.
К вечеру уладилось многое. Уехали из выемки заиндевелые танки, студебеккер с солдатами. Вместе с уставшими рабочими на полустанок вернулись автоматчики с веселым сержантом. Еще утром тот разместил солдат в пустом зале ожидания. Дневальные установили там железную печку, трубу от нее вывели в окно. Нагрев зал, солдаты вымыли пол, устроили постели. Теперь, меняясь по очереди, они должны были охранять товары и грузы, оставленные на откосах выемки. К месту крушения часовые не пропускали никого постороннего и смотрели, чтобы у грузов не задерживался никто из рабочих.
Поезда шли в обоих направлениях, в график выходили дежурить путевые обходчики, но ремонтные бригады во главе с мастером Сергеем Петровичем Шараповым каждый день уезжали в выемку, где еще многое нужно было сделать для укрепления пути.
Семушка днями пропадал то в дежурке на станции, где собирались на пересменку обходчики, то у дружков на казарме. Там обсуждались события и говорили о новостях. Говорили, будто экспертиза установила, что крушение произошло от скола в бандаже одной из колесных пар. А скололось колесо из-за плохой отливки и раковины в металле. Что тут к чему, и какая такая раковина могла оказаться в железе, Семушка не очень-то понимал, но радовался, что не тетка Чердымиха виновата, и что скоро ее отпустят.
Как-то за разговорами просидел Семушка на казарме до самого заката. Он ждал, когда Ваня Колесин дочитает и передаст ему книжку про Робинзона Крузо, которую привезла в школу Нина Васильевна. Заполучив книжку, он побежал домой, но на переезде увидел идущую по линии бригаду рабочих.
Как всегда, чуть впереди шагал мастер Шарапов с уровнем на плече. А за ним на двухколесном мадароне везли закрытый брезентом короб. Не инструмент, а что-то непонятное, выпиравшее продолговатой горбушкой. Это и удивило Семушку. Куда подевались ломы, лопаты, кайлы и все остальное, что обычно увозила с собой бригада?
Дядька Шарапов махнул Семушке рукой, и тот вслед за бригадой свернул к гаражу… Подъехав туда, рабочие обступили короб, с натугой подняли и тяжело понесли мимо гаража к красному уголку.
– Семка, дверь, двери открой-ка! – хрипло сказал мастер.
Семушка забежал вперед, вытащил из пробоя никогда не замыкающийся замок и распахнул двери. Протискиваясь через проем, мужики внесли короб в темное холодное помещение и поставили прямо у порога. Засветили лампу, кто-то снял брезент, и к еще большему удивлению Семушка увидел в коробе соль. Матово-серую, слежавшуюся в комки и рассыпанную крупными зернами.
Он еще не успел подивиться такому делу, не успел догадаться, как же такая прорва соли попала сюда, а в красный уголок уже стали заходить женщины с мешками в руках. Они останавливались около порога, дыша на руки и пряча их в карманы, затихали, неотрывно глядя на уложенное в короб богатство.
Над солью уже второй год тряслись в каждой семье. Теперь ее почти перестали продавать в магазинах, редко, по маленькой мерке, привозила и вагон-лавка. А бойкие людишки из Узловой, неизвестно где достающие соль, на базаре из-под полы драли вдесятидорога. И брали люди. Нельзя же без соли жить…
Особенно бедствовали по осени, когда запасали на зиму огурцы, помидоры, капусту. Недосолишь, – считай, все пропало: закиснет, заплесневеет. А без овоща одна картошка останется. Без соленого и она в горло не враз пойдет. И вот ради осенней засолки во всех домах и квартирах экономили соль, щепотками измеряли дневной расход, другой раз и не досаливали похлебку.
Мастер Шарапов свернул самокрутку, раскурил ее над лампой и, вывернув фитиль, прибавил света. Оглядев усталых мужиков на скамьях, встормошился:
– Ну чего вы? Чего сели-то, говорю? – Он подступил к Куприяну Колесину. – Достань-ка из шкапа весы, гирьки. Взвешивай и отпускай соль.
Мастер вытащил из кармана список, просмотрел его, вроде отыскивая в нем что-то новое, глянул на соль, на мужиков и вслух прикинул:
– Вкруговую, считай, на семью кило по пять можно выдавать? А?
Куприян Колесин – мужик задумчивый, нахмуренный, с длинным лицом – расставил на столе гирьки по росту, подравнял весы и, тоже посмотрев в короб, кивнул:
– По пять за глаза хватит.
– Тогда так и отпускай. После остатки встряхнем и уж по скольку будет – еще довесим.
Тут от двери выступила тетка Катерина со станции. И у нее под рукою Семушка увидел мешок.
– А движенцам как же, Петрович? Иль не дадите?
Мастер с удивлением посмотрел на Чалову, а мужики нахмурились. Все это тетка Катерина поняла по-своему:
– Чего жадничаете? – Или наши мужики не воюют? Или мы не на железной дороге, как вы? Да у нас, вон, Чердымиха самая пострадавшая есть…
– Ты, Катерина, раньше времени язык свой не тревожь, – осадил ее мастер. – Или не слыхала, что все на круг делить будем? На все обчество!
– Дак это ж про путейцев поди?.. – осеклась тетка Катерина.
– На круг, сказано! – жестко повторил мастер. – На всех, значит. И этого добра все тут хозяева. – Он повернулся к мужикам, уже ссыпающим соль с весовой чашки в чей-то мешок. – Чердымихину семью не пропустите… А ты, Катерина, садись вот рядом с Колесиным и отмечай всех, кто получил по списку. Не забудьте стариков Орловых, других залинейных…
Ожидая очереди, женщины готовили мешочки, мужики дымили самосадом и, наблюдая, как убывает соль из короба, негромко переговаривались. Затаясь на краешке скамьи, в самом углу, из их разговоров Семушка узнал, что про эту соль дядька Шарапов еще раньше договорился с лейтенантом – самым старшим над всеми автоматчиками. Сергей Петрович объяснил, как страдает народ из-за соли и что просит он немного, чтобы выдать как премию за авральную работу на ремонте пути. Лейтенант взял это на себя. А сегодня сержант, вроде бы, и не заметил, что нагрузили соли поболе центнера. Остальную соль аккуратно собрали, смели под веник на другую платформу и увезли. В тот же день сняли охрану из выемки, и автоматчики с веселым сержантом уехали в свою часть.
Рассуждая, мужики потихоньку хвалили заботливого мастера. Семушка тоже поглядывал на Сергея Петровича – худого и заросшего, совсем почерневшего за эти беспокойные дни. А еще больше смотрел на теток. И станционных, и казарменских. Они бережно подставляли мешки под железную чашу весов, казалось, совсем маленькую в клешнястых руках Колесина. Но чашка переворачивалась, и мешки тяжелели. Каждой хозяйке сразу по пять кило! Да еще потом, по всему видать, килограмма по два отломится. И, замирая в углу с книжкой за пазухой, Семушка тоже тихонько радовался, зная, что и завтра хорошо будет всем, легче станет во всех домах.
– Так, Ломовы, – поднимая голову от бумажки, проговорила тетка Катерина, щуря глаза в полумрак. – А где-то тут Семушка вроде был. Или убежал уже?
– Да здесь он, здесь, – отозвалась Варначиха и подтолкнула Семушку. – Чего прячешься? Иди, получай пай на семью.
Семушка вышел из своего угла и, не зная, как быть, сунул руки в карманы шубейки.
– Получай, Семен, твой черед, – поторопил его Колесин.
– A-а, куда ее… сыпать? – растерялся Семушка. – Я же не знал…
Колесин вытащил из шкапа большой холщовый мешок, в котором носили хлеб от развозки.
– Вот тебе тара. Завтра вернешь. А от соли мешку ничего не поделается. Хлеб да соль никогда не мешали друг другу…
Приняв мешок с приятной тяжестью, Семушка опять пробрался в угол и затих с ликующим сердчишком. Это же настоящая соль! Ее-то совсем мало оставалось в его берестяном туеске. А теперь он молотком растолчет эти комочки, разотрет до самой мелкости, и все-то хорошо у него получится…
Когда взвешивали остатки, на пай вышло еще по кило семьсот. Получив их, вслед за соседкой – теткой Варначихой – Семушка вышел под голубой лунный свет.
Гаврилы в тот вечер дома не было: до утра он заступил на дежурство по околотку. Семушка засыпал в печку ведро угля, вымыл руки, из шкапчика, где когда-то хранились материны лекарства, достал остаток своей иждивенческой нормы хлеба. Покрутил-покрутил его, подумал, что привезут-то хлеб только завтра вечером, но не удержался, отрезал кусочек. Ущипнув в глубине мешка щепотку соли помельче, посыпал хлеб и съел, часто запивая холодной водой. Принесенную соль он тут же пересыпал в большую чашку, поставил в угол и накрыл мешком.
Торопливо раздевшись, он забрался в постель. Хотел книжку почитать, но Гаврила всегда ругался из-за керосина. Быстро посмотрев картинки, Семушка погасил лампу. Но ему не спалось, он ворочался, вздыхал под стареньким одеялом, и мысли его тянулись разнобойно – то о малых приятностях, то об огорчениях, которых хватало в его непонятной жизни рядом с Гаврилой.
Теперь Семушка лучше других видел то, о чем прежде ни говорить не хотел, ни слышать; Совсем заматерел Гаврила в нелюдимости и жадности. Семушка стыдился, когда отчим перемеривал надоенное им молоко, – боялся, как бы он не выпил лишнюю кружку… А сам в то молоко, что по налогу в колхоз сдавали, всегда воды подливал. С водой намораживал он молочных кружков, которое отвозил на базар в Узловую. Разбавленным молоком поил и танкистов, иногда заезжавших по дороге на полигон. Но не только тем был противен Гаврила. Перед военными становился он покорно-торопливым, вроде бы рад был приходу гостей. Выгибая спину горбом, приговаривал: «Счас, товарищи, счас… Для дорогих защитников нам не жалко…» А когда танкисты, заплатив, уходили, Гаврила смотрел им вслед тягучим, злым взглядом.
В такие дни до боли ненавидел Семушка отчима. Его щетину на скулах, пальцы с торчащими на них рыжими волосками и глаза – льдистые, что-то таящие в холодной своей глубине.
Семушка знал, что бабка Орлова, да и другие хозяйки с военных денег не брали. А к бабке танкисты заворачивали частенько: дом стариков ближе всех к дороге стоял. Вот и заезжали к старухе выпить по кружке парного молочка, а нет – хотя бы простокваши холодной, пусть и без хлебушка… Танкистам не густо жилось на тыловой норме. Бабка угощала их, чем могла, вздыхая и говоря, что, может, и ее сыночков кто-то так же покормит. Провожая гостей, она совала им то вареную кукурузу, то шляпки подсолнухов или огурцы. А если они заикались про деньги, она испуганно отмахивалась: «Осподь с вами, сыночки… Идите уж, идите». Но танкисты по-своему отблагодарили стариков. Двумя танками приволокли к дому кучу сухих деревьев, таких, что дед и не знал, как к ним подступиться. Брал пилу и вместе с Шуркой отпиливал пока крайние ветки.
Вздыхая под одеялом, Семушка позавидовал Шурке… Ему-то хорошо с такими стариками жить. В их доме деньги не прячут, когда они есть. А Гаврила, оставляя на хлеб, старательно пересчитывал бумажки, подгадывал так, чтоб вышло без сдачи.
– Как вода текут, – горбясь у стола, вздыхал он. – С двумя руками их много не заработаешь…
В такие минуты, глядя на вытянутое лицо отчима, одетого в латаный пиджачишко, Семушка чувствовал в нем непонятную обреченность, вызывавшую жалость. И детским своим сердечком все надеялся на добрые перемены, все ждал, что, может, встряхнется Гаврила, раскроются у него глаза на людей… И в этот вечер, уже засыпая, в самый последний момент Семушка вспомнил про чашку соли в углу у кровати и улыбнулся, будто задетый теплым лучом…
Гаврила пришел утром. Обычно он мрачно пожует картошку, придирчиво осматривая свою долю хлеба, потом покурит у печки, закутается в лохмотья и начинает храпеть. Но в этот раз, глянув на отчима, Семушка почувствовал в нем какую-то размороженность, даже довольство, скрытое под рыжей щетиной. И когда Гаврила сел есть, он поставил на стол чашку с солью: