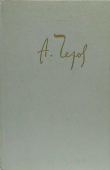Текст книги "Горькие шанежки (Рассказы)"
Автор книги: Борис Машук
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
ЖАРКИЙ ДЕНЬ

Июль – безветренный, сухой, знойный…
Солнце печет так, что утром скошенную траву после обеда уже собирают в валки и укладывают в копны. Над железной дорогой переливается дрожащее марево, а воздух густеет от запахов мазута, горячего балласта и шпальной пропитки.
Жара целыми днями держит ребятню полустанка и деревни на озере. До самого заката с воды доносятся крики, смех, всплески…
На утоптанном травяном берегу, в сторонке от купающихся, животами вниз лежат неразлучные Цезарь и Матвей из деревни. Одному уже семь лет, другому – десять. Оба загорели до черноты, оба с облупленными носами.
Ребятишки лежат голова к голове, задумчиво покусывая травинки и вяло переговариваясь. Вот Цезарь увидел среди разъездовских купальщиков белобрысого мальчишку и сообщает другу:
– А на станцию тетка-новоселка приехала…
– Знаю, – отзывается Матвей.
– Знавала…
– Вот и знаю! Она с запада приехала, где немцы сейчас. А тут будет дежурить по станции.
– А с кем она приехала, знаешь?
– Две девчонки с ней и мальчишка. Да он, вроде, здесь со всеми купается.
Цезарь обескуражен осведомленностью друга.
– Зато их фамилию не знаешь, – помолчав, говорит он.
– А зачем она мне?
– То-то, – оживляется младший. – А фамилия их – Чердымовы, вот! Эта тетка записывала своих гавриков в школу, я и слышал, как она Нине Васильевне говорила…
Не отрывая подбородка от сложенных кулаков, Матвей покосился на довольного Цезаря, но промолчал.
И опять мальчуганы лежат тихо, спинами и пятками чувствуя жар солнечных лучей. Но Цезарь не может долго лежать просто так. Сморщив нос, он щурится в дальний конец озера, на широкое зеркало воды и, не отрывая взгляда, резко опускает голову к траве. Полежав так, опять поднимается, смотрит и снова резко опускается, улыбаясь. Матвей смотрит на него.
– Ты чего?
– А небо в озеро падает.
– Как… падает?
– Смотри. – Цезарь опять опускает мордашку, морща лоб, целится взглядом вдаль. – Если вот так глядеть, небо совсем близко становится, и там вон, в конце, в воду падает. Теперь и облако из озера выпирается… Как копна из покоса.
– Ну?
Цезарь поднял голову и лицо его посветлело.
– А вот так смотреть, все не так получается. Вода уже не сходится с небом. Теперь оно аж за тем берегом, далеко…
Матвей тоже смотрит на озеро. Но он лежит лицом к его ближнему концу, и в воде с этой стороны торчат головы ребятишек. Тут взбиваются фонтаны брызг и вообще вода неспокойна. Матвей опускает голову, нехотя говорит:
– Это только обман зрения…
– Знавала-задавала… – Цезарю хочется расшевелить друга. – Обма-ан… А скажи, куда туманы деваются?
– Какие туманы? – не понимает Матвей.
– Наши, какие… Вот вечером над озером, над всей Безымянкой туман собирается. Густой, белый, как молоко. А утром встанешь – его не видать…
– Пораньше вставать надо, – усмехается Матвей. – А то храпишь, пока бабка с кровати не стащит.
– Вста-авать… – тянет Цезарь с обидой. – Скажи, сам не знаешь…
– Я-то знаю. – Матвей некоторое время молчит, разжигая нетерпение Цезаря. – Туман вверх уходит и становится облаками.
Цезарь смотрит на Матвея, на небо, по которому высоко и вольно передвигаются большие белые облака. Они толсты, взбиты клубами, отчего кажутся тяжелыми, крепкими.
– Не-ет, Матюш, – сомневается Цезарь. – Туман толстым таким не бывает. Ты придумал, что он поднимается?
– Ничего я не придумывал. Про это даже примета есть. Если туман вверх пошел, значит погода будет хорошая, а если на землю ляжет – польет дождь. Нам про туман и Нина Васильевна рассказывала.
– Че же она рассказывала? Ты сам посмотрел бы. Вот вечером туман далеко-далеко над падью тянется, ровненько… А наверху что? Кто же его в такие кучи сгребает?
– Хто-хто… Дед Пихто, – отбивается Матвей. – Он сам, когда поднимается, на куски рвется.
Младший слушает, все еще разглядывая облака, и в их очертаниях видит драконов, сказочные замки, дворцы… Смотрит пристально, будто ждет, не покажется ли из-за темноватой кромки облака чья-нибудь голова.
– А по ним ходить можно? – тихо спрашивает он.
– Залезь да и ходи, – советует Матвей.
Цезарь морщится, опускает голову с выгоревшими волосами и сосредоточенно рассматривает белые корни травинок. Потом с тем же скучным выражением смотрит на ребятишек, которые купаются, загорают.
– Глянь-ка, Матюш, – говорит он. – Петька Варнак глиной под индейца разрисовался.
– Ему только в индейцах и ходить, – не поднимая головы, глубокомысленно замечает Матвей.
– А давай в старые сады за малиной?
– Что ли сейчас?
Цезарь и сам понимает, что в такую жару умные люди не шарашатся по старым садам, хотя в них полно черемухи и малины. Тут, на берегу, и вода рядом, и ветерок хоть чуть-чуть продувает, а вот хоть снова ныряй. Жарко… А там, среди высокой полыни да густоты запущенных садов, духота нестерпимая. Пока котелок ягод наберешь – весь изопреешь. Но ведь сегодня у них с Матвеем весь день свободный. Ни телят не надо пасти, ни с сестренками нянчиться. Редкий случай! Так что же, весь день только и загорать?
Цезарь садится, вытягивает ноги. Тут он замечает бегущую от озера дворняжку Дамку со станции. Провожая ее взглядом, спрашивает:
– Матюш, а собаки как думают?
– Никак… У них инстинкт.
– Это кто?
– Не кто, а что… Привычка, значит. Вот приучат собаку сидеть, уток из воды вытаскивать, лежать, коз находить. Она это и делает. Знает, что хозяин за такую работу хвалить ее будет…
Словно устав от длинного объяснения, Матвей закрыл глаза. Цезарь смотрит на его спину, берет травинку и проводит ею по коже. Матвей, не открывая глаз, обещает:
– По шее получишь!
Цезарь отбрасывает травинку, вытянувшись, поглядывает на покос деда Орлова и уже далеко опять видит Дамку, убегающую по тропинке к линии.
– Нет, Матюш, собаки думают, – твердо говорит он, надеясь задеть приятеля. – Инстинкт твой тут ни при чем. Вот никто же не говорил Дамке, чтоб она на озеро прибегала, чтоб опять домой торопилась.
– Х-ха, – хмыкает Матвей. – Искупалась вот – побежала назад…
– А кто, кто ее купаться заставил? – подхватывает обрадованный Цезарь.
– Жара заставила.
– Это, Матвей, тебе жара. А разве Дамка понимает, что это жара?
– Не понимает, так чувствует.
– Так ей же никто не командовал, чтобы она вот… Чтоб окунуться сбегала? Не командовал же, правда? А она взяла и пришла к озеру. Искупалась и домой побежала! И смотри, не напрямую через покос, а по дорожке бежит, как мы с тобой бегаем!
– И что тут такого? – не понимает Матвей.
– Так кто ей сказал, чтобы она по дорожке ходила? Наша бабка говорит, что не думают только дураки. А Дамка же не дурная? Вот и выходит, что она думает. И не бегает прямо по скошенному, знает, что там ей лапы будет колоть…
– Она этого не знает.
– Почему тогда по дорожке бежит?
Матвей тоже задумывается. Почему, в самом деле, собака бежит по дорожке, как люди? Ведь не чешет напрямую через огород деда Орлова. И как она узнает, что в воде ей будет лучше, прохладней?.. А Цезарь наседает:
– Почему Дамка по дорожке бежит?
– Потому, – нехотя отзывается Матвей, – что зануда ты…
Но Цезаря это нисколько не трогает. Он даже доволен, что Матвей не все может объяснить.
– Нет, Матюш, они все же думают. Я вот тебе счас расскажу, как я споткнулся…
– Ты на дню десять раз спотыкаешься.
– То я просто так спотыкаюся, а то с нашим Жуком было… Бежал я с ним повдоль заплота, а там корень торчал. Вот я за него и запнулся. А Жук увидел, что я чуть не упал, насторожился сразу, голову поднял и давай по сторонам глазами-то шарить. Порычал даже. А потом понял, что это я сам споткнулся, что никто меня не толкал, – успокоился враз. Даже сказал мне, что, мол, понятно, это ты, Цезарь, просто так тут споткнулся…
Матвей вскинул голову.
– Сказал?
– Ну, это по-своему сказал… Он уши опустил, а глазами вроде как улыбнулся и хвостом повилял. Мол, понимаем, а в другой раз под ноги смотри…
Матвей хмыкнул, опять опустил голову на руки.
– Выдумщик ты… Брехун!
– И ничего не брехун, – заупорствовал Цезарь. – Не-ет, Матюш, они все же думают, Знаешь, какой Жук у нас умный!
– Ага, – согласился Матвей. – У Проновых, вон, цыпленка упер.
– Так это он вгорячах… Эти цыплята в наш огород больно повадились. А Жук понимает, что это наш огород, отгоняет чужих. Он и тогда, как цыпленка стащил, до вечера на дворе не показывался.
– Чтоб не лупили.
– Во-во… А кто ж ему сказал, что это он чужого цыпленка схватил? Разве он знал про это? Знал, что его лупить будут? – Не дождавшись ответа, Цезарь продолжает свою мысль: – То-то и оно, что он думает… Вот скажи, почему он сам, когда видит, что теленок от стада отошел, бежит и назад его заворачивает, почему?
– Думает, что ты ему кусок мяса дашь.
– Мяса? – изумляется Цезарь. – Откуда оно у нас? А за физкультуру он, что ли, тоже мяса ждет?
– Какую еще физкультуру?
– А вот Жук утром как встанет – прыгает да кувыркается, хвост свой ловит. Прямо, как юла, вертится.
– Физзарядку, что ль, делает?
– Ага! Ему же бегать целый день надо, а если лежать – так и ноги перестанут ходить. Вот он и готовится. А про это кто ему говорил? Никто. Значит, сам он додумался!
Матвей совсем сбит с толку. Шут его знает, может, и вправду собаки думать умеют? Есть же в них что-то понятливое… «Надо у Нины Васильевны расспросить», – решает он. Но сейчас, не желая сдаваться, пробует перевести разговор в шутку:
– Ты, Цезарь, своему Жуку за такое поведение еще одного цыпленка подсунь.
Но Цезаря этим не зацепить. Он считает себя победителем.
– И ничего-то ты, Матюша, не знаешь. Потому и ерунду говоришь…
Усмехнувшись, Матвей переворачивается на спину, поджимает колени и, рывком выбросив ноги, резко встает. Посмотрев на берег с играющей малышней, мельком взглядывает на солнце, замечает:
– Часа четыре уже… Еще раза два окунемся – и домой надо. Пошли, Цезарь!
Но тот сидит, не шевелясь… Опустив голову, внимательно следит за муравьем, который суетится среди травинок с крохотным кусочком соломинки. Муравьишка тычется в корни, возвращается, отыскивая проход, и упорно пробивается в одну сторону – к своей куче, торчащей шагах в десяти от ребят на выкошенном месте.
Матвей стоит уже у воды.
– Ну, пошли купаться, Цезарь! Или опять обо что споткнулся?
Невидящим взглядом Цезарь смотрит на Матвея, потом опять опускает глаза на трудягу-муравья. Сорвав листок, подставляет его муравью, и когда тот забирается на гладкую зелень вместе с соломинкой, Цезарь вскакивает и несет муравьишку к его куче. Положив лист около муравейника, вспрыгивает, дурашливо кричит: «Споткнулся – окунулся!» и, раскинув руки, бежит к воде. Не останавливаясь, с разбегу ныряет, взбив фонтан брызг. Матвей бросается следом, стараясь поймать друга за пятку. Над озером вскрики, смех, всплески.
Июль… Жара несусветная.
ВЕЧЕРОМ, ПОД ПРАЗДНИК

В этот день с утра потеплело, наползли тучи, и после обеда в мягком безветрии пошел первый снег. Большие снежинки плавно опускались на землю, на крыши домов деревни и полустанка, на стога сена, делая их похожими на головки сахара. Все вокруг подновилось, стало светлее и чище, а снег падал и падал, радуя ребятню, с нетерпением ждущую последнего звонка.
Едва он раздался, школьный двор наполнился шумом. Набрасывая на себя телогрейки, шубенки, куртки из старых шинелей, в пилотках и шапках ребятишки выбегали во двор, белый и незатоптанный. Спускаясь с пригорка, на котором стояла школа, они разделялись на два табунка. Один сворачивал в деревенскую улицу, а другой скатывался под косогор на дорогу, ведущую к разъезду.
Дойдя до пади с кочками и кустарником, Петька Варнаков натянул до ушей бескозырку, предложил:
– Ребя, айда-ка в войну? Снежками-то, как гранатами, можно!
Девчонки опасливо заторопились дальше. Вслед им полетело несколько снежков, но тут же, делясь на два лагеря, мальчишки гурьбой окружили Петьку. И только Шурка Орлов – коренастый, крепенький, как гриб-боровик, – продолжал шагать по чистому и влажному снегу.
– Ты че, Шурк? – удивился Петька. – Не будешь?
Шурка остановился было, но упрямо крутнул головой:
– Не, мне домой надо… У нас дедушка с утра нонче хворый.
И пошел дальше, придерживая висящую на плече противогазную сумку с книжками. Торопился Шурка не зря. Дома была одна бабка, а деда на поезде отвезли в Узловую, в больницу. Шурка остался единственным мужиком в доме и главным работником по хозяйству.
Когда круглый бок солнца приблизился к линии горизонта, Шурка начал управляться с делами. Снег к тому времени перестал падать, небо очистилось, и в закатной стороне разливалась багряная полоса. Закат обещал мороз и ветер, сумерки густели по-осеннему быстро, и нужно было поторапливаться.
Для начала Шурка провел след по дорожке за линию, к колодцу с бездонным срубом, под кособокой крышей на двух столбах. Два ведра воды он принес в дом, а два Белянке – низенькой, пузатой и комолой коровенке. Напоив корову и подложив в ясли объедьев, вычистил стайку, принес от стожка два навильника свежего сена – Белянке на ночь. Потом загнал в клетушку четырех бестолковых куриц и трусоватого петушка, за делами утаптывая снег тяжелыми, на три портянки обутыми, но все равно спадавшими с ног мужскими сапогами.
Шурка уже колол дрова, когда из дома вышла бабка с подойником на руке. Мелкими шагами полузрячего человека она прошла к стайке, и скоро оттуда послышались напевы тугих нитей молока, ударяющих в дно ведра. Эти звуки напомнили Шурке об ужине, и он стал работать с пущей старательностью. К бабкиному возвращению успел перетаскать дрова в избу, затопил печь, а на косяке окна повесил зажженную семилинейную лампу.
За ужином бабка дала Шурке стакан молока. Себе и того меньше плеснула, только чай забелить. Остальное слила в бидон – снести в колхоз в счет налога. Бережливо прибрала несъеденные картофелины и горстку капусты, а редкие крошки смахнула в Белянкино пойло.
Еще крепкая на ноги, с руками, и в старости не отвыкшими от тяжелой работы, бабка мучилась глазами: плохо видела из-за перенесенной когда-то болезни. Почти всю работу делала она ощупью, не ошибаясь лишь по привычке. Сначала прикрыла трубу, потом плотнее прихлопнула отходившую дверь и бросила у порога старую телогрейку. Закрываясь от ветра и холода, она на целую ночь отделяла себя и внука от мира, зная, что с плохой вестью соседи до утра спешить не станут, а с хорошей и в окна постучать можно.
Неторопливо и привычно бабка сияла с гвоздика чистую тряпку, держа руку по краю стола, протерла клеенку, вздохнула и проговорила, глядя на Шурку:
– Теперь вот садись… Сегодня Климу напишем, а завтра письмецо и отправим.
Шурка снял лампу с косяка, поставил ее на стол. Из темной комнаты принес школьную сумку, достал из нее пузырек с чернилами и тетрадку – согнутые пополам и сшитые нитками листы серой бумаги. Раньше у него и такой не было. Как и все, писал он в тетрадках, из старых газет. А бумагу принес в школу продавец дед. Колотилкин. Она осталась в магазине со старых, довоенных времен. В нее бывало заворачивали покупки. На дед рассудил, что селедку, если ее привезут, бабы и в руках разнести могут, а ребятишкам бумага в самый раз придется. Обрадованная учительница разделила подарок деда на всех, бумагу порезали, сшили, разлиновали, и получились хорошие тетрадки.
Пока Шурка собирался, бабка достала из сундука мешочек с отходами пшеницы и выдвинула к печке мельницу, сделанную дедом из толстого березового чурбака. Летом дед долго сушил этот чурбак под навесом, потом: вместе с Шуркой ровно распилил его пополам и в свежие торцы вбил множество кусочков железа. Поставив половинки одна на другую, дед проворачивал верхнюю и крутил до тех пор, пока железки не сгладились и не заблестели. После этого в середине одной чурки дед выдолбил дырку и с края приделал ручку. Получился верхний жернов мельницы, или, как называл ее дед, крупорушки. А нижний чурбак он оббил выступавшей над краем жестью, оставив узкую щелку с приделанным под ней желобком. Закончив работу, дед насыпал в дырку горсть кукурузы, покрутил жернов за ручку, и по желобку потекла желтоватая струйка почти настоящей муки.
Такие мельницы-крупорушки делали и в деревне, и на разъезде, – чтобы не бегать по соседям, не таскаться с тяжестью, когда в доме появятся отходы овса или пшеницы, соя или кукурузные зерна…
Бабка села на низенькую скамеечку с растопыренными, как у теленка, ножками, сыпанула в дыру горсть отходов, поправила на голове платок, спрятав под него седую прядку, и, сердясь, спросила молчавшего внука:
– Ты готов, нет ли? Чего копаешься?
– И не копаюсь я вовсе, – неторопливо поскребывая перышко ножом, отозвался Шурка. Он хорошо знал, что вечерами бабка совсем плохо видит, а читать и писать она не умеет вовсе. – Говори, чего писать-то… Поди, опять с приветов начнешь?
– Ну, а как же? – удивилась бабка, всегда робевшая перед ученостью внука. – Люди же со здоровканья день начинают…
Но Шурка и без объяснений знал, с чего начнется письмо, и в верхнем углу листа вывел: «Писано 6 ноября 1943 года». А бабка, проворачивая жернов, уже диктовала, немного растягивая слова:
– Здравствуй, дорогой наш сынок Климентий. Низко кланяемся тебе и шлем привет – тятя и мама, племянник твой Шурка…
Поскрипывая пером, Шурка спешил за бабкиными словами, пропустив привет от племянника. Буквы у него получались еще не так быстро, перо зацеплялось о шероховатинки на бумаге, к тому же о себе он всегда упоминал в конце: «Писано вашим дорогим племянником Шуркой». Писал он это всякий раз, хотя над такими словами дядьки в ответных письмах подшучивали. «А пущай смеются, – думал Шурка. – Сами же вот и пишут: „Здравствуй, дорогой наш племянник Шурка“. Им чего… Смеяться им не впервой».
И в Шуркиной памяти, по-детски цепкой, оживали картины жизни в старом доме с дедом, бабкой и тремя их сыновьями. Молодые и смешливые, они все уезжали и уходили по своим делам, а потом опять собирались вместе, принося с собой запахи мороза и вольного ветра, а заодно игрушки, конфеты и пакеты с печеньем. Сладости они, по молодости, вместе с Шуркой же и съедали, уча его заталкивать в рот целые печенюшки. И лучше всех это как раз у дяди Клима получалось.
Привыкнув к дядькам, Шурка без них потихоньку скучал. Тогда вспоминалось ему только грустное.
…Их двор около большого дома на улице районного центра – в Узловой. Снег вьюжит, по-вечернему холодно, а со двора выезжают сани, запряженные парой коней. В передке дедушка с дядькой Федором – своим старшим сыном, – а за ними гроб с Шуркиной матерью. Ее увозили, чтобы похоронить на деревенском кладбище, рядом с родным домом. Шурка с бабушкой ехали отдельно – в переполненном вагоне поезда. К их приезду гроб уже стоял на столе, вокруг горели свечи. Хмурые, насупленные дядьки обступили Шурку, молча раздели, раскутали. Дядя Федор погладил его по голове: «Ничего, Шурка… Проживем!»
С того времени и остался Шурка в приземистом, самим дедом ставленном доме, вместе с дядьками – сильными и здоровыми. Под дверным косяком каждому приходилось нагибаться. Но выше всех был дядя Клим. «Средненький», говорила бабка. Тогда он уже на паровозе кочегаром работал. Бывало, как едет в Узловую, в депо, – не раз гуднет. Мол, заводите блины, скоро дома буду.
Дядька Клим был и озороватее всех. Не то что Федор. Тот хотя и старший, а от рождения тихий. Может, потому и пошел на колхозную конюшню, к лошадям, чем крепко рассердил деда. Дед-то хотел, чтобы сыны по его линии, в железнодорожники шли. И самому младшему – дяде Виктору, который десятилетку кончал, он все советовал подаваться в машинисты или путевые мастера.
Про Виктора говорили, что он в дедову кость пошел – коренастый, широкоплечий, смуглый, за что его «гураном» дразнили. А еще – «академиком»: читал он больше всех и все мудрил над разными штуковинами. Шурке то пистолет самовзводный смастерит, то самолет с гудящим пропеллером. А в одно лето, еще до войны, такое придумал, что все ахнули. Сделал дядька пароход. Как настоящий, – с мачтами, каютами, трубой и топкой. В топке зажигался фитилек, и тогда из трубы шел дым, колеса начинали крутиться, загребая воду, и пароход плыл по озеру против волны и ветра.
Смотреть на первый пуск собрались все Орловы. Клим, в аккурат, был свободен от поездки, а Федор пригнал коней – напоить. Смотрели они, смотрели – надоело. Сами попрыгали в воду и такую возню устроили, что пароход едва не утопили. И Шурку, как кутенка, тоже на глубину закинули – плавать учили. Он и теперь вздрагивал, вспоминая, как от страха колотил по воде руками и ногами, взбивая брызги и гребя к берегу.
…– А еще сообчаю тебе, дорогой сынок, – крутя жернов, продолжала бабка, – что младший брат твой Виктор по морю плавает, где много льда. Но они под лед-то ныряют и потом топят германские пароходы…
– И не пароходы, а корабли, – поправил Шурка, довольный таким упоминанием о дядьке, недавно приславшем фотокарточку. Был он снят в морской командирской форме, в фуражке и с биноклем, а за его спиной виднелись подводная лодка и широкое море.
– Прописывал он, что паек им дают хороший, – продолжала бабка, не обратив внимания на поправку, – и чтобы мы об ем шибко не беспокоились… А еще тебе шлют поклон Варнаковы Поликарп Емельянович и Серафима Петровна да еще Чалова Катерина со станции. От мужика ее письма так и нет…
Бабка всегда диктовала без разбора, что вспоминала. Особенно много наговаривала она приветов, но Шурка наловчился обходить их. Слушая бабкин рассказ про жизнь соседей, он и теперь задержал руку и, повернув коротко стриженную голову, затих, наблюдая, как бережно бабка засыпает в крупорушку новую горсть отходов.
Жидкая струйка напомнила Шурке о недавнем приходе колхозного председателя Фрола Чеботарова. Шурка тогда еще подивился, как это Фрол с одной рукой и ногой на култышке донес до их дома большое цинковое ведро. Видно было, что председатель упарился. В распахнутой телогрейке и солдатской, откинутой на затылок шапке с щербатой жестяной звездочкой долго сидел он на лавке, выставив деревяшку и смахивая со лба пот. Помолчал, потом проговорил, будто стыдясь:
– Озадки вот к празднику вам приволок. В амбарах-то одни семена остались, и те считанные…
Хотел председатель еще что-то сказать, да запнулся и попросил деда свернуть ему самокрутку. Они закурили и стали говорить о скорой зиме, о дровах для школы, о сене и слабом тягле… А как войны коснулись, председатель опять замолчал, глядя в угол, и только уходя махнул рукой с мокрым платком в кулаке:
– Побьем его, старики… Побьем, гада ползучего! Гнулись мы, да не сломались, а теперь распрямляться начали. Не сегодня-завтра Киев опять нашим будет! Побьем его, падлу, помяните мое слово!
С тем и ушел тогда председатель.
Задумавшийся Шурка, уловив в бабкином рассказе короткую паузу, неосторожно спросил:
– Баб, а ты лепешки с утра печь станешь?
– Да ты чего не пишешь, окаянный! – рассердилась бабка. – Я ему говорю, говорю, а он сидит, про лепешки думает. Потом, гляди, спать захочет… Когда же письмо кончим?
Шурка сглотнул слюну и торопливо стал писать. Но: и теперь не перестал думать о лепешке. Он просто не мог не думать о ней. И о хлебе – белом, с дырочками в податливом мякише и хрустящей на зубах корочкой.
Последний раз такой хлеб Шурка видел перед самой войной, когда за ним отец приезжал. Широкоплечий, с выпиравшим животом, он выложил на стол белый хлеб, колбасу, конфеты, водку поставил. Располосовал буханку ножом, и Шурка потянулся к куску, но, перехватив прищуренный взгляд дяди Клима, отдернул руку. И только тогда увидел, что ни дядьки, ни дед с бабкой не придвинулись к столу, остались на своих местах – затаенно-молчаливые, какими были у гроба Шуркиной матери. Оробев, Шурка тихонько отошел от стола, потом и вовсе убежал в сад, а следом за ним дядьки вышли.
– Дурачок-дуралей! – несердито сказал ему Федор. – Он же приманивает тебя гостинцами. А увезет – и бросит, как мамку твою бросил. Вот вместе нам и черт не страшен. Соображаешь?
Шурка тогда еще не понимал, как это можно «бросить» его или мать, на могилке которой бабушка весной раздавала крашеные яички и рисовую кашу с конфетками.
Но ехать отказался наотрез и вместе с дядьками молча, насупленным взглядом проводил отца, широкими шагами уходящего к станции. Отец с тех пор как в воду канул, и никто о нем не жалел.
А вот когда уезжали дядьки, Шурке было горько до слез. Уезжали они в воинском эшелоне из Узловой, и все в один день. Провожая их, бабка плакала, дед хмурился и покашливал. А дядьки смеялись, пошучивали с отправлявшимся тем же эшелоном Фролом Чеботаровым – бригадиром трактористов – из деревни. Тот был выпивши, пел под гармошку песни и все жену свою по плечу гладил. Потом подцепился к составу паровоз и увез Шуркиных дядек на фронт. Перрон опустел, нагоняя безлюдьем тоску.
С того лета бабушка и перестала топить русскую печь, где выпекала калачи, разные кренделя и хлеб. Получался он чуть кисловатый, но очень вкусный. И всегда его было много. А теперь на карточку деда-пенсионера им дают на два дня чуть меньше буханки, похожей на кирпич. Бабка хлеб прячет и делит его перед едой. Деду и себе кладет поровну, а Шурке всегда чуток больше. И лишь на праздники она мелет кукурузу или озадки, печет лепешки – без ничего, прямо на плите. Получаются они малость подгорелыми, пахнут дымом, но все равно вкусные.
– …Тяжелей нам теперь без Пушкаря жить, – продолжала бабка. – Но на две головы скота уж больно большой налог. Спасибо, что молодой инспектор присоветовал сдать быка на мясопоставку. Вот мы старый-то долг и покрыли… Все бы ничего, да тут Белянка молоко убавила, а с чего и не знаю, сынок…
Бабка замолчала, нагнувшись, пощупала горушку муки под желобком. Подняла чашку с пола и ссыпала муку на железный лист. Смахнула с ладоней пыльцу и, опять садясь на скамеечку, проговорила:
– Еще столько же намелю, и нам хватит.
– Давай, баб, про что дальше писать, – поторопил ее Шурка. – А то я уже от себя начну.
– Торопишься-то чего? – нахмурилась бабка. – Завтра целую лепешку получишь. А пока пиши что говорят.
– Чего бы! – обиделся Шурка. – Я что, за лепешку пишу?..
В темной половине дома высветились крестовины рам, по стене и по потолку поползли узорчатые тени от растущих в саду деревьев. Их высвечивал луч паровозного прожектора: по линии на запад шел поезд. Язычок пламени за ламповым стеклом начал мелко вздрагивать, в избу через стены доносился грохот тяжелого состава.
Дожидаясь, когда поезд пройдет, сердитый Шурка отложил ручку и уставился в темное окно, за которым ничего не мог разглядеть. «Лепешку, говорит, дам… Вот бабушка!» – вертя головой, думал он, не понимая, как можно такое сказать. Пишет же он не кому-нибудь, а дядьке Климу. Тот хотя и задирал, бывало, Шурку и щелбанов отваливал за дразнилки невестами, а был веселей других. Бывало, затеет игру в карусель. Сложит руки на голове, сцепит пальцы, присядет, и Шурка, а с ним приятели – Семушка, Варначата или Ленька со станции – подцепляются, обхватывая бугры дядькиных мускулов. Выпрямится дядька в рост и медленно начинает крутиться на одном месте, а потом все быстрей, быстрей – и тогда только держись. Смешаются в глазах земля, небо, не выдержит, замрет сердце, расцепятся пальцы, и летят ребятишки кубарем по мягкой луговине. А уж когда дядьки между собою борьбу затеют – близко не подходи. Земля ошметьями кверху летит. Дед, видя такое, ворчал, пряча в бороде усмешку: «Повырастали, поганые… Рельсы гнут, а ума – с горошину…» Но Шурка-то видел, что дед совсем не сердится, а наоборот, доволен, что такие большие, веселые у него сыновья.
Вспомнив былое, Шурка вздохнул. Показалась ему очень давней эта его жизнь с дядьками. За лето перед войной он только в школу готовился. Дядя Виктор ему книги купил, Федор привез пенал, а Клим – цветных карандашей и коробку красок… Теперь Шурка уже третий класс осиливает, десятый год ему миновал. Многое переменилось за это время. Нету уж в их стайке добродушного быка Пушкаря, нет парохода с трубой и каютами. И дядьки Федора нет…
Весной почтальонка Варька в их дом принесла письмо. Не треугольничком, как всегда, а в сером конверте. Дед распечатал, подал Шурке листок. Шурка сразу узнал дядькину руку, но подивился, почему это дядька Федор отправил письмо надорванным и запачканным чем-то бурым.
– «Дорогие тятя и мама, племянник дорогой Шура! – начал Шурка читать вслух. – Сегодня у нас шумно, и буквы получаются плохо, а я тороплюсь, чтобы успеть послать весточку и вас успокоить. Сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам всем желаю. Знаю, что вы, мама, все плачете и за нас молитесь. Но я уже писал, что в бои не хожу, служу при штабе и работа у меня неопасная…»
На этом-то месте письмо обрывалось и было залито так, что Шурка не смог разобрать ни слова. Пока он старался, дед нашел в конверте еще листок и протянул внуку. Написано письмо было от руки, но разборчиво.
– «Здравствуйте, дорогие отец и мать! – бойко начал Шурка. – Горько писать эти строки, посылать вам печальную весть с неотправленным письмом нашего боевого товарища, но вы должны знать правду. Ваш сын Федор Орлов был лучшим разведчиком артиллерийского полка и погиб при корректировке огня батарей у местечка…»
Страшная весть еще не дошла до Шуркиного сознания, а бабка уже зашлась криком. Тогда и Шурка не выдержал – заревел. Дед отпаивал их водой, гладил тяжелой рукой Шуркину голову и говорил глухо:
– Поплачь, внучек, поплачь… Жить-то надо…
А сам дед не плакал, только с лица почернел. И борода у деда вроде бы тяжелее стала, клонила голову книзу, гнула его, и без того уже согнутого. Шутка ли – две войны отвоевал дед. Империалистическую, гражданскую. Потом до старости на железной дороге работал. Отдыхать бы ему теперь в спокойствии, да тут еще и эта война пришла, опустошила дом, принесла горе, подлая…
– …Сообчаю тебе, что приходил к нам в гости Фрол Чеботаров, – под ровное горготание крупорушки говорила бабка. – Теперь он новый колхозный голова. Мы уж прописывали, что с фронта он пришел шибко скалеченный – без ноги, и рука обожженная у него сохнет…
– Погоди-ка, баб, – сказал Шурка. – Листок переворачивать нужно… Пускай чернила просохнут.
– Пускай, – согласилась бабка. – И ты отдохни.
Перечитывая написанное, Шурка запнулся на непонятных словах «колхозный голова» и, задумавшись, вспомнил свою первую встречу с нынешним председателем.
С фронта Фрол Чеботаров вернулся в покос. Встречавшие его, особенно деревенские пацаны, говорили, что у него орденов на всю грудь и еще медалей с горсть. Шурки тогда не было, а посмотреть на веселого Фрола, уезжавшего с его дядьками, ему хотелось. Но когда они встретились, никаких орденов он не разглядел. Фрол лежал на земле рядом с магазином. На крыльце сидел выпивший дед Колотилкин, еще весной получивший похоронку на своего Кольку-танкиста. Дед плакал, глядя на Фрола. Сапог на единственной ноге Чеботарова скалился гвоздями, а самодельная култышка была неумело затянута сыромятными ремнями. Напрягаясь так, что на шее вздувались жилы, пытался Фрол подняться с земли, да нога скользила, а второй не было, и он снова валился на бок, ругаясь вовсю.