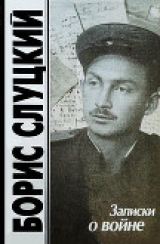
Текст книги "Записки о войне. Стихотворения и баллады"
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Однажды утром нас разбудили разведчики. Они были мертвецки пьяны – сложным четырехчленным ершом[141]141
«Четырехчленным ершом». – Имеется в виду смешение пива, водки и вина двух марок.
[Закрыть]. Их командир взвода требовал немедленных реляций. В доказательство предъявлялись два пленных – первый трофей взвода за всю венгерскую зиму. Я заметил, что один из пленных ухмыляется в кулак. Мужицкий сарказм его улыбки показался мне таким земляческим, що я спытав: «Чи не з Ужгороду будеш, друже?» – «Та ни, пане майоре, я сам мукачевский»[142]142
Ужгород, Мукачево – закарпатские города с преимущественно украинским населением; отошли к СССР после второй мировой войны.
[Закрыть]. И вот мы сидим в столовой, земляк хозяйственно, с двойным перехилом[143]143
«…с двойным перехилом рюмки…». – Перехил (укр.) – перелив.
[Закрыть] рюмки глотает спирт, рассказывает.
Сегодня ночью их дозоры поймали трех разведчиков. Привели к командиру роты. Его, Гусака Василя, вызвали переводить. Капитан сразу повел себя как-то странно – был вежлив, даже услужлив, предложил пленным молока с хлебом, извинился, что другого ничего нет. Русские выпили по кружке, осмелели, попросили еще. Тогда, выгнав из землянки всех посторонних, капитан дал Гусаку секретное поручение чрезвычайной важности: переправиться через канал, пройти в русский штаб и передать, что наступать на этом участке можно. Он, капитан Кираи, и вверенная ему рота стрелять не будут. Сейчас они боятся немцев, но, если русские придут в их расположение, все до одного сдадутся в плен.
В помощь Гусаку был дан личный ординарец капитана и один из пленных.
В то время линия фронта носила странный характер. По сю сторону канала тянулись наши окопы. Солдаты дежурили там по двенадцать часов, а потом отсыпались в ближней деревне. По немецкому берегу канала осторожно ползали бронетранспортеры. Главной их задачей было не пропускать через канал мадьярских перебежчиков.
Военный Совет в штабе полка с негодованием отверг всякие экскурсии за пять километров в тыл противника. Их, конечно, сочли «провокацией» и «дезинформацией». Решили: пусть мадьяры сами ходят мимо бронетранспортеров. На эту тему было составлено письмо с торжественным обещанием сохранить жизнь для всех и холодное оружие для офицеров. Оно было отлично написано, я до сих пор вспоминаю с удовольствием его энергический и в то же время великодушный тон. Позже, кажется, все маршалы переписывали с него свои ультиматумы.
Письмо понес все тот же Гусак. Он отнекивался. Отнекивания по-украински звучат куда убедительнее, чем если бы они были произнесены по-мадьярски – через переводчика. Я компенсировал Гусака пачкой сигарет и обещанием отпустить домой в первую очередь.
Василь благополучно добрался до своего капитана. Тот прочитал письмо, повздыхал немного и поднял по тревоге всю роту. В штаб батальона он донес, что выступает для отражения переправившихся через канал большевиков. Кухни с поварами были предусмотрительно оставлены на месте – для маскировки. Один из взводов – шестнадцать человек – был расположен в трех километрах, и Кираи побоялся ждать его прихода.
Двенадцать часов ночи. Темно. Грязно. Солдаты потихоньку ругались по поводу наступательных планов своего командира.
В полукилометре от канала капитан остановил и построил свое войско. Объявил, что договорился с русскими о переходе. Ничем не мотивировал свой поступок – он был слишком уверен в боевом духе солдат. Сказал, что не будет препятствовать нежелающим остаться на берегу. В немецкой армии, в аналогичном положении, нежелающих пристрелили бы как собак.
На нашем берегу роту уже поджидали разведчики. Пришли все восемьдесят человек – на двух нежелающих злобно зашикали, и они пошли вместе со всеми.
Мосток был очень шаткий – пожарная лестничка, и переправа затянулась на полтора часа. Около восьми часов утра мы возвратились в ликующий штаб полка. Предупрежденный комендант поднял среди ночи поваров, и нас ожидал царский пир.
Офицеров угощал я сам – на манер Петра Великого[144]144
«…угощал… на манер Петра Великого». – Автор имеет в виду рассказ о том, как Петр I угощал пленных шведов.
[Закрыть]. Им гостеприимно подносили стаканчики с лояльного цвета жидкостью – ром, разведенный спиртом. Они пили и замирали. Их дружески били по плечу – они казались чертовски симпатичными в эту минуту. И вообще вся война казалась симпатичным, интересным, не очень утомительным занятием.
В соседней комнате – у разведчиков – шла совместная солдатская трапеза. Наши проявляли благородство бескорыстия. Мадьярам оставили даже часы. Сняли с них только овчинные поддевки, вразумительно пояснив, что вам в теплом лагере сидеть, а нам еще придется в окопах померзнуть.
В разгаре пиршества я отозвал в сторону пьяненького капитана. Хмель мгновенно соскочил с него. Это был типичный «приписник»[145]145
«Приписник» – военнообязанный запаса, призванный в Вооруженные Силы; военнообязанные, приписанные к воинским частям и направляемые на их укомплектование при мобилизации.
[Закрыть] инженер, семьянин, член муниципального совета своего городишки. А ему предлагалось: вернуться в бывшее расположение роты и привести недостающий взвод. Мотивация была убедительная, кадровая, военная. Командир роты отвечает за всю роту, и нечего забывать целые взводы, принимая ответственное решение. При этом мои ассистенты выкрикивали лозунги вроде: «как стрелять в русских – так всей ротой, а как переходить к русским – так взвод оставляете». Запуганный Кираи поторговался немного. Потом вызвал младшего лейтенанта и под козырьком приказал ему на следующую же ночь отправиться за взводом.
В этот раз усталость моя и странная уверенность в успехе были так велики, что я не пошел на передовую и преспокойно лег слать в штабе полка.
В шесть часов утра меня разбудили – пятнадцать мадьяр дожидались моего решения.
В лагерь они шли солидной колонной, в полной форме, с раздутыми вещевыми мешками за плечами. Их конвоировало двое автоматчиков. Сзади ехали телеги с их вооружением. Со всей округи сбегались венгерские бабы – посмотреть на необычайную процессию, всунуть хлебец или ком сыру. Солдаты корректно отказывались. В полку им надавали на дорогу – жареной свинины, мармеладу, сухарей.
* * *
Вскоре мне пришлось участвовать в истории, которая может служить косвенным продолжением вышеописанного.
Военный Совет решил распустить по домам сотню-другую пленных мадьяр. Можно было не сомневаться, что слух об этом пройдет сквозь ноздреватый, пунктирный фронт и серьезно повлияет на противника. С этой целью я посетил небольшой пересыльный лагерь. В кармане у меня лежало двадцать удостоверений. Их лаконичность и определенность напоминали справку: «Разрешается жить на белом свете». Такие справки атаман Григорьев[146]146
Атаман Григорьев – буржуазный националист, служивший в отрядах украинских националистов до февраля 1919 г. Затем командовал 6-й дивизией Красной Армии. В мае 1919 г., отказавшись выполнить приказ советского командования, поднял вооруженный мятеж на юге Украины. После разгрома его отряда атаман бежал к махновцам. В июле 1919 г. Григорьев был убит Махно, видевшем в нем соперника.
[Закрыть] выдавал, отпуская задержанных, которые оказывались не коммунистами, не махновцами и не евреями. Надлежало подыскать двадцать фамилий для простановки в удостоверении.
Я подобрал потребное количество пленных. Это были, главным образом, отцы семейств, уроженцы областей, уже занятых Красной Армией. Вызывал их по двое – по трое, опрашивал, торжественно вручал документы, жал руки. Форменное вытягивание во фрунт быстро сменилось у них чувствами человеческими. Иные тихо, стыдливо плакали, здесь же, отойдя в уголок. Один пытался поцеловать мне руку. Другой троекратно прокричал: «Да здравствует Красная Армия!»
Под самый конец разыгралась трагедия. В комнату, где шло вручение документов, вбежал пожилой солдат, с мозолистыми крестьянскими руками и отчаянием в глазах. Это был земляк, однодеревенец, сосед двадцатого номера. По всем пунктам он не уступал своему приятелю, которого мне подсунул писарь. Однако удостоверений было всего двадцать. Отбирать же документ одного из отпущенных – через полчаса после торжественного вручения – было еще труднее, чем отказывать новому просителю.
И я прогнал солдата.
Потом начались сборы. Политичные повара подзывали мадьяр к весам, заставляли свидетельствовать точность выдаваемой им трехдневной нормы. Когда разделили буханки и увязали мешки, я выстроил всех двадцать в лагерном дворе – на предмет выслушивания моей напутственной речи. У стен безличным греческим хором стояли не вошедшие в число.
Я сказал:
– Ну что, увидели, как воевать против России? Надо было вам уходить из деревень? Так знайте же: сейчас мы отпускаем вас, но ваши росписи остаются нашим документом и ваши фамилии тоже записаны. Если через двадцать лет, через тридцать кого-нибудь из вас опять возьмут в плен – висеть ему на виселице, поверьте мне на слово!
Мадьяры заорали:
– Правильно! Спасибо! Так ему и надо, собаке! – И потом – с неслыханной искренностью: – Да здравствует господин товарищ майор! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Россия!
Это была отличная речь, одна из лучших моих речей за всю войну – по краткости и выразительности. Я до сих пор верю, что этих мадьяр больше воевать с Россией не заставишь – ни за какие коврижки!
И еще я сказал им:
– Сейчас вы можете идти. Разбейтесь на двойки. Пройдите по деревням. В городе ходите по самым людным улицам. На станциях смешивайтесь во все очереди – на посадку, на перрон, в кассы. Говорите всем: немцы заставили нас воевать против России, а Россия отпустила нас домой и дала нам этот хлеб на дорогу.
Мои мадьяры поспешно, словно боялись, чтобы их не вернули, кинулись к театрально распахнутым воротам.
И на них молча смотрели не вошедшие в число.
Семья Бетлен[147]147
Бетлен – см. примеч. 74 к главе «Болгария».
[Закрыть]
В начале декабря 1944 года в штаб 61-й гвардейской дивизии явился капитан, документально доказавший, что он является адъютантом графа Бетлена. Бетлен просил вывезти его с семьей из имения, где они скрывались от немцев и переправить их через фронт.
Немецкое отступление уже заканчивалось, но фронт еще не стабилизировался. Майор Розенцвейг с десятком конников вывез Бетлена, адъютанта и тяжеленький чемодан, успел даже позавтракать в его имении. Семья выехала позднее и также спокойно достигла нашей зоны.
Неделю спустя я написал биографию Бетлена.
Друг, советник, соперник Хорти, он до сих пор остается одним из виднейших политиков Центральной Европы. Трансильванец, как и Маниу, он лишен демагогичности последнего, более бесспорен. У него те самые джентльменские манеры, о которых говорил английский журналист. Потомок двух правителей Семиградья, он потерял состояние после аграрной реформы в Румынии. На допросе нервно спрашивал о судьбах своей провинции. За десять лет премьерства он не потерял популярности, прослыл либералом, патриотом, позднее антифашистом. Крупный деятель, завсегдатай Лиги Наций, он ехал к нам на премьерское кресло. Знал, что с коммунистами не поработаешь в белых перчатках. Предлагал свои услуги для черной и черновой работы, взялся бы и за грязную работу. На допросе рассказал о тайном совещании у Хорти, где все бывшие премьеры Венгрии, целые эпохи ее бытия, решали (каждая эпоха по-своему), выходить ли из войны и решили: выходить.
От плохо проведенного допроса все же пахнет всемирной историей.
Бетлен был увезен в Печ, жил там под неусыпным надзором Военного Совета, ублажался всячески, охранялся основательно. В правительство его не ввели: во-первых, был слишком правым, притом с выраженной ориентацией на палату лордов, во-вторых, был слишком крупным – его присутствие в правительстве Миклоша не только подчинило бы ему прочих министров, но и санкционировало бытие этого правительства перед Европой. Тогда это было нежелательно.
Невведение Бетлена в правительство повлекло за собой неиспользование его имени в нашей пропаганде.
В январе 1945 года Бетлен попросил сообщить ему, как живет его семья. Незадолго до этого наш переводчик Зайцев вывез его семью в Капошвар и поселил ее в губернаторском доме, за что был вознагражден золотой зажигалкой из ручек самой графини. Мне дали легковую, пятнадцать минут сроку и поручили выяснить, не удрала ли куда-нибудь графиня с домочадцами. Я выговорил право объяснить свой визит беспокойством командования о нуждах и т. п. Семья Бетлена состояла из графини Сечени, его многолетней, известной всей Венгрии, фаворитки, ее дочери – графини Болза, мужа дочери – графа Болза и двух детишек.
В дороге я поспешно решал, целовать или не целовать графинины ручки – с этой категорией человечества я сталкивался впервые. Графиня приняла меня, и все сомнения рассеялись. Она оказалась ссохшейся щеколдой, без следов былой красоты. Ее ручка не вызывала больше никаких желаний. Я наскоро (пятнадцать минут кончались) выразил благочестивую тревогу командования. Графиня попросила пятнадцать килограммов сахару и пятьдесят килограммов масла. «Фюнфциг одер Фюнфцен, мадам?)» – спросил я и несколько окосел: в те времена масло нельзя было достать ни за какие деньги, а в килограмм сахара женщины, не в пример графине, добальзаковского возраста, оценивали ночь любви.
– Пятьдесят, пятьдесят, господин майор! У меня двое маленьких детей. – И она сделала соответствующий жест.
Я откланялся. Начальство посердилось в связи с аппетитами старухи, но смирилось: в Капошваре на нас работал сахарный завод с 600 рабочими.
Замок Вексельхаймб
В январе 1945 года, проездом, я прожил день в замке графа Вексельхаймб.
Сто лет назад один из офицеров карательной армии Виндишгреца получил в награду за усердие земли в районе местечка Таб. Он построил дворец со стенами, выдерживающими огонь корпусной артиллерии. Внутри замок напоминал музей гравюры и акварели – триста лет подряд плотные листы с батальными и жанровыми сценами обрамлялись, развешивались симметрично, медленно коробились и желтели. В простенках между окнами стоят кресла. Они основательно ободраны, хотя кожа на них слишком тонка для обуви. Над каждым креслом – веер из слоновой кости и японского шелка. Тонкий налет пыли окончательно тусклит вялые краски шелка. Веера повертели в руках и повесили – как не имеющие практического значения. Это направление мародерства очень типично. Во времена Кишиневской операции и в более древние брали часы, кольца, компасы, пару-другую белья. Ограничивали аппетиты лимитами вещевого мешка. В Румынии начали брать деньги и отрезы (блеснула надежда на скорый конец войны). Ковры стали брать только тогда, когда представилась возможность перевозить их, т. е. после захвата австрийского автотранспорта. Революционный скачок в этой области произошел после разрешения посылок.
Я перещупал библиотеку графов. Ее запыленная часть странным образом напомнила библиотеку Пушкина – те же огромные, неудобные тома энциклопедии. Недаром перечень подписчиков этой последней совпадал с оглавлением «Готского альманаха»[148]148
«Готского альманаха». – Имеется в виду дипломатический и статистический ежегодник, издаваемый в Готе (Германия) с 1763 г. С 1832 г. включает генеалогическую часть (состав царствовавших домов, княжеских родов и т. п.).
[Закрыть].
Вексельхаймбы бежали еще в ноябре, сдав акварели по описи переехавшей сюда больнице.
Больница интересна в двух отношениях. Директор показал мне женские палаты – здесь скрывались от прохожих солдат одиннадцать молодых женщин. Они поуспокоились за последние два месяца и с любопытством рассматривают нового человека.
Вторая достопримечательность – русская комната. Здесь два раненых, забытых частями, два больных – совсем юные сержанты. Они пьют спирт с врачами, спят с сестрами и защищают спасающихся буржуазок от захожих буянов, жестоко избивая их подкованными прикладами автоматов. Директор приемлет этот модус вивенди. Он, как и многие европейцы, сводит свою россику к мнению, что русский человек хорош, пока трезв.
На прощанье он доверительно сообщает мне, что у него лечатся от триппера (совсем бесплатно!) несколько окрестных офицеров.
Ассимиляционная способность
Удивительна ассимиляционная потенция мадьяр. С чем связана она – с высоким стандартом жизни или с экспансионным характером молодой цивилизации? Мадьярские евреи считали себя мадьярами Моисеева закона, мадьярский язык – родным языком, усердно крестились. Мадьярские славяне утрачивали свою национальность в три-четыре поколения. От сербских массивов Центральной Венгрии сохранился только православный епископ в Будапеште и лингвистическая археология типа «Печ», «Балатон)» (Блатноозеро).
Сыновья швабов прибавляли к своей немецкой фамилии мадьярскую. Внуки вовсе отбрасывали немецкую часть фамилии. Имели успех такие вещи, как объявление буневцев «нацией, говорящей по-хорватски, но ощущающей себя мадьярами».
Народ, про который острили: «У вас королевство без короля, у вас адмирал без флота, ваш национальный поэт Петефи[149]149
Петефи Ш. – см. примеч. 93 к главе «Югославия».
[Закрыть] – серб по крови». Этот народ всасывал и переваривал деревни, области, целые племена. И все это – прямым насилием, запрещением школ, богослужений на родном языке, иногда резней.
Памятники
В каждом городе Венгрии, – памятник Кошуту[150]150
Кошут Лайош (1802–1894) – венгерский политический деятель, организатор борьбы венгерского народа во время революции 1848–1849 гг. в Венгрии. Андраши Дьюла Старший (1823–1890) – государственный деятель Австро-Венгрии. Участник венгерской революции 1848–1849 гг. Министр иностранных дел Австро-Венгрии (1871–1879 гг.).
[Закрыть], площадь Хорти, улицы Андраши, Петефи.
Национальная история бедна – два десятка имен, но ее усердно и успешно пропагандируют камнем и бронзой.
Больше всего мне запомнился памятничек в Байе: земной шар из серого булыжника, на нем юноша в крестьянской одежде – говорят, что двести лет тому назад он пешком обошел кругом света.
Австрия
Здесь начиналась 3-я империя
Когда весной 1945 года мы ворвались в Австрию, когда капитулировали первые деревни и потащили в амбары первых фольксштурмистов[151]151
Фольксштурм (нем.) – народное ополчение. В конце войны, когда людские резервы гитлеровской Германии иссякли, в фольксштурм призывались юнцы и старики.
[Закрыть], наш солдат окончательно понял, что война вступила в период воздаяния. Армия учуяла немца. Мы слишком плохо знали немецкий язык, чтобы различать, где прусский говор, а где штирийский[152]152
«…различать, где прусский говор, а где штирийский». – Пруссия – оплот германского империализма. Штирия – мирная крестьянская Австрия.
[Закрыть]. Мы недостаточно ориентировались во всеобщей истории, чтобы оценить автономность Австрии внутри великогерманской системы.
Но эстетика Отечественной войны отнесла к разряду «уродливое» голенастых и белобрысых девок, зобастых мужчин и черепичные крыши над фермами. Но политика Отечественной войны работой тысяч своих политработников приучила ненавидеть немца во всех его вариантах. Но лингвистика Отечественной войны установила: 3-й империал начинается именно здесь, за поваленными наземь пограничными столбами с черно-желтыми надписями. До сих пор мы наблюдали случаи единичной, приватной капитуляции. В Венгрии дома выкидывали белые флаги и полицейские чиновники надевали повязки «Красного Креста».
Здесь мы столкнулись с повальной капитуляцией. Целые деревни оглавлялись белыми тряпками. Пожилые женщины поднимали кверху руки при встрече с человеком в красноармейской форме.
Солдаты внимательно слушали увещевания на тему о различии между Германией и Австрией и не верили им ни на йоту. Война приняла выпуклые, личные формы. Немец был немцем. Ему надо было «дать». И вот начали «давать» немцу.
В каждом селе навстречу нашим танкам выходили русские, украинцы, поляки – десять-двенадцать-пятнадцать человек. Девушки искали земляков, и многие из них еще долго ездили в повозках комбатов и командиров рот.
В Штирии торжествовала справедливость, и каждый солдат ощущал себя ее вершителем и стражем. Древний принцип «око за око» исключил кровомщение. За редкими исключениями, австрийские крестьяне обращались со своими рабочими человечно.
Поэтому работник по-хорошему прощался с хозяином, запрягал пару хозяйских коней в хозяйскую бричку, грузил туда пару хозяйских чемоданов и такое количество продовольствия, что не спеша можно было доехать не только до Полтавской, но и до Тобольской губернии. Не спеша двигался в путь.
Убийства были очень редки, и когда какой-то кулак спятил с ума и оказал сопротивление, все село помогало работнику-украинцу изловить его и добить.
В Граце ленинградская девушка, студентка, избила хозяйку ресторана, на которую она работала.
Зато по всем дорогам двигались караваны бричек, тачек, телег, возвращающихся на родину. Шли землячества. Случайные полицаи, по которым уже томилась отечественная веревка, шагали вперемешку с пленными и вывезенными. В Фельдбахе, в двухстах километрах от Вены, итальянская семья спрашивала меня, можно ли пробраться в Италию через Марбург и Триест.
В то время и Марбург, и Триест были заняты немцами, но они упрямо протаскивались к фронту, толкая перед собою тачку с нехитрым барахлом. Установился неписаный закон: возвращающихся кормят австрийцы, – и все придорожные деревни были объедены до последнего петуха.
В Вене было две тысячи одних бельгийцев, триста тысяч советских граждан, более миллиона иных ауслендеров[153]153
Ауслендер (нем.) – иностранец.
[Закрыть].
Вавилон встал на колеса и двинулся из голодающей столицы к хлебным венгерским местам – на распределительные пункты и железнодорожные станции.
В то время в армии уже выделилась группка профессиональных кадровых насильников и мародеров. Это были люди с относительной свободой передвижения: резервисты, старшины, тыловики.
В Румынии они еще не успели развернуться как следует. В Болгарии их связывала настороженность народа, болезненность, с которой заступались за женщин. В Югославии вся армия дружно осуждала насильников. В Венгрии дисциплина дрогнула, но только здесь, в 3-й империи, они по-настоящему дорвались до белобрысых баб, до их кожаных чемоданов, до их старых бочек с вином и сидром.
Целый ряд важных факторов благоприятствовал насилию. Большие на карте, австрийские деревни на местности оказывались собраниями разбросанных по холмам домов, отделенных друг от друга лесом и оврагами. Из дома в дом зачастую нельзя было услышать женский крик. В большую часть хуторов нельзя было поставить ни гарнизона, ни комендатуры. Следовательно, законодательная и исполнительная власть была здесь сосредоточена в руках первого проезжего старшины.
С другой стороны, австрийки не оказались чрезмерно неподатливыми. Подавляющее большинство крестьянских девушек выходило замуж «испорченными». Солдаты-отпускники чувствовали себя, как у Христа за пазухой. В Вене наш гид, банковский чиновник, удивлялся настойчивости и нетерпеливости русских. Он полагая, что галантности достаточно, чтобы добиться у венки всего, чего захочется.
В большинстве деревень почти не было мужчин. Тотальная мобилизация была дополнена арестом или бегством многих фольксштурмистов.
Но впереди всех факторов шествовал страх – всеобщий и беспросветный, заставлявший женщин поднимать руки кверху при встрече с солдатом, вынуждавший мужей стоять у дверей, когда насиловали их жен.
Я основательно ознакомился со всем этим в хуторке Зихауер, стоящем на проселочной дороге Кальх – Санкт-Анна, на границе Штирии и Бургенланда.
Вдвоем с Барбье[154]154
Барбье. – См. главу «Разложение войск противника», Себастиан Барбье.
[Закрыть] мы возвращались из командировки на передовую – «для изучения настроений местного австрийского населения».
Полдня нас промурыжил бургомистр Санкт-Анны – хитрый старикашка. Он побывал в русском плену, и суждения его отличались хохлацкой медлительной раздумчивостью.
Сначала он побожился нам в своей беспартийности, а потом заметил: «Ведь вы же сами знаете, что все чиновники обязаны быть членами национал-социалистической партии».
Сейчас мы шли назад по запущенному проселку. Было очень жарко, и погребок у придорожной избушки обещал холодный яблочный сидр.
В доме нас поразило обилие женщин. На стульях, кроватях, подоконниках их сидело девять-десять – все в «опасном возрасте», точнее, в угрожаемом возрасте – от шестнадцати до сорока пяти лет. Некоторые из них тихо плакали. Другие тщетно пытались договориться с сержантом-связистом, ковырявшим дырку в оконнице, чтобы протащить сквозь нее провод.
В Австрии знание языка не производило столь решительного действия, как в Венгрии. Все же, когда заговорил мой «солдат» с великолепным швабским акцентом, когда товарищ майор тоже оказался понимающим по-немецки – сержанта забыли и все сгрудились вокруг нас.
Подали сидр, и женщины с крестьянской вежливостью дожидались, пока мы не выпили по две кружки. Плакать начали только тогда, когда мы поблагодарили и хотели прощаться.
Я собрал в комнате десяток солдат из окрестных домов. Они стояли бледные-бледные, прямо как на допросе. За два часа я допросил шесть девушек – необходимость переводить каждое слово замедляла работу. Остальных пришлось отправить.
Где-то в старых тетрадях у меня сохранились их имена, отдающие нескладной эстетикой сельских попов, всякие католические Параскевы и Олимпиады.
Здесь была девушка, которую изнасиловали шесть раз за последние три дня. Это была неуклюжая деревенщина – она совсем не умела прятаться. В ее тусклом взгляде я не нашел ни страдания, ни стыдливости. Все это прошло. Осталась одна усталость.
После нее допрашивалась восемнадцатилетняя вертушка. Ее настигли всего один раз. У нее есть такие места на огородах, где ее не нашла бы и родная сестра.
И она засмеялась испуганным коротким смехом. Одни отчитывались обстоятельно и толково – не как на исповеди, а как перед доктором. Другие плакали навзрыд, тосковали об окончательности, необратимости происшедшего.
Но больше всего мне запомнилась одна фраза. Ее сказала вертушка Анжелика. Это были слова: «Нас гоняют как зайцев!»
Да, именно, как зайцев – все обрадованно закивали головами. Они были слишком измучены, чтобы осмыслять происшедшее, но его эстетическая формула была уже найдена. И какая точная – нас гоняют, как зайцев.
Приходят в два часа ночи, в три, в четыре. Стучат в дверь: «Давай! Открой!»
Потом выбивают оконные стекла, влезают вовнутрь. Набрасываются на нас тут же в общей спальне. Хоть бы выгоняли стариков в другую комнату.
«Мы теперь совсем не спим дома. Выкопали себе ямки в стогах. Пока тепло, хорошо, а как же будет осенью?»
Уходя, я не давал никаких обещаний, но меня провожали всем хутором, до околицы.
Солдатам я сказал не по закону, а по человечеству: «Ну что, стыдно? Смотрите же».
И скептик Барбье говорил мне потом, что эти солдаты уже не позволят никому обижать девушек в Зихауере.
Через два дня я докладывал начальству о женщинах Зихауера. Генералы сидели внимательные и серьезные, слушали каждое слово.
Прошло время, когда мой сигнал о попытке изнасилования истолковывался как клевета на Красную Армию. Дело шло о политическом проигрыше Австрии.
Из Москвы поступали телеграммы – жестокие, определенные. Но и без них накипали самые сокровенные элементы партийности, выработанного интернационализма, от которого не отделаешься, человечности.
По этому докладу были приняты серьезные меры.
Чистка
В начале июня мы уже выключились из государственной деятельности и ждали отъезда. Стояла хорошая погода. Местные гурманы ликовали. Открылись кафе, отлично отделанные – мрамором, орехом, зеркалами. Временно в них подавали только продукты неорганического происхождения – черный кофе без сахара, минеральную воду из окрестных гор.
В то время Грац был одним из многих европейских городов, сочетавших изобилие асфальтированных улиц с отсутствием автомобильного движения. Ежедневно я час-два фланировал на велосипеде по пустым улицам, слегка заглядывал под шляпки, раскланивался с знакомыми, изредка навешал друзей. Траектория моя была хорошо известна полицейским, и полицей-президент Розенвирт ручался, что найдет меня, когда садился в свой «Штеер».
Он двигался по принципу торпеды, сужая понемногу спирали. Около восьми часов вечера я взорвался. Положение было очень серьезным.
В десять должны были собраться новые полицейские – двести коммунистов, двести социал-демократов, сто «христиан» из народной партии[155]155
«…из народной партии». – Имеется в виду партия австрийских католиков, аналог христианско-демократических партий Европы.
[Закрыть]. В эту ночь им предстояло произвести единовременные аресты всего фашистского актива города – более полутора тысяч человек, согласно спискам. С десяти до одиннадцати должна была пройти раздача винтовок. С одиннадцати до двенадцати – пропагандная обработка златоустами трех партий. В полночь – выступление. Подведение итогов – с рассветом.
Отсрочить акцию было невозможно – о ней уже пронюхали, и наутро предполагался массовый уход фашистов в горы под предлогом обычной воскресной экскурсии.
Однако было уже восемь часов. Комендант, выпустивший из виду данные им обещания, совсем по-гоголевски, ускакал инспектировать низы.
Предстоял сущий позор – не было разрешения Военного Совета на аресты, не было увязки с гарнизоном, который мог по-своему прореагировать на появление в городе, только что сдавшем алебарды и мушкеты, пятисот вооруженных австрийцев.
И самое главное – не было оружия. Правда, у руководящих товарищей брючные карманы конспиративно топырились браунингами, но это не решало вопроса.
Добывание оружия оказалось наиболее любопытным звеном операции. Упирающихся артснабженцев сняли с футбольного поля. Лучшие ораторы комендатуры электризовали их обещаниями ликера из комендантской столовой. Потом представителей революционной полиции повезли на склад. Еще неделю тому назад они слушали, как подполковник Винкерер говорил мне: «Наиболее показательно то, что я, военный министр Австрийской республики, не имею револьвера».
А сейчас эти делегаты обезоруженной демократии с наслаждением втягивали запахи ружейного масла – перед ними из штабелей дружно воняли двадцать тысяч немецких ружей. Здесь в бывшем манеже сдавала оружие капитулировавшая 2-я танковая армия немцев.
Мы сторговались на двухстах винтовках, полутора тысячах патронов. Я уехал звонить в гарнизон. Выдача оружия началась ровно в десять.
Когда я пришел в полицей-президиум, операция была уже в разгаре.
Двести коммунистов, плюс двести социал-демократов, плюс сто христиан, плюс пятьдесят кадровых полицейских были разбиты на сто десять групп по пять человек в каждой. Оружие доверялось только партийцам. Огромный план Граца был расчерчен. На сто десять клеточек. В президиуме никто и не подумал о возможности путаницы, точно так же, как там и не учитывали даже возможности опоздания на сбор новых полицейских.
Мы сидим за круглым столом под отличными копиями старых мастеров. Здесь весь штаб операции – обкомовцы, профсоюзные лидеры, сухонький умный Штейнер – канцлер епископата.
Социал-демократы с торжеством показывают мне «наши» списки фашистов. Они самые обширные. Потихоньку они ябедничают на «христиан», оказавшихся неуместно лаконичными. Штейнер презрительно поджимает тощенькие губы, частит «промытые морщинки» – сам князь-епископ конфиденциально благословил операцию. Это поважнее списков.
Учитывая католическое рвение епископа, я осведомляюсь, не слишком ли много в списках евангелических попов.
Все нервно напряжены. Для жителей города, взятого без боя, это, быть может, самое сильное переживание в жизни.
Кто-то тянется к телефону. Его останавливают. Все линии выключены. Связь осуществляется только велосипедистами.
В три часа приезжает взволнованный Розенвирт. Все идет отлично. По шести участкам (из девятнадцати) уже более трехсот арестованных – блокляйтеры, крайзляйтеры, чины гестапо, уродливые старухи из «Зимней помощи»[156]156
«Зимней помощи». – Имеется в виду кампания по сбору теплых вещей, организованная ведомством Геббельса в связи с неподготовленностью фашистской армии к ведению войны в условиях суровой русской зимы.
[Закрыть], отставной генерал немецкой армии.
Бесшумные полицейские накрывают стол. На скатерти пятьсот граммов хлеба – недельный паек взрослого горожанина, сыр, старое, кинжального действия, шампанское.
И мы сентиментально пьем за нашу общую платформу – за свободу, за справедливость, за успех операции.
В пять часов утра в президиум начинают прибегать жены: глупые – с жалобами, умные – с передачами. Все в порядке. Можно ложиться спать.
В городе, получившем официальное название «Град народного подъема», среди двадцати тысяч нацистской партийной организации, среди тысячи трехсот арестованных нашелся один человек, который оказал сопротивление при аресте. Этот малярный подмастерье, как и его герой[157]157
«Этот малярный подмастерье, как и его герой». – Автор сопоставил 19-летнего австрийского подмастерья с Хорстом Весселем – немецким штурмовиком, убитым в стычке с коммунистами. Ему принадлежат слова гимна фашистской молодежной организации – «Хорст Вессель». О нем был снят фильм и поставлены спектакли на многих сценах фашистской Германии.
[Закрыть], девятнадцати лет, не призывался; католического вероисповедания. Дал два выстрела по полицейскому. Бежал. Застрелился в подворотне под надписью: «Останавливаться воспрещается».








