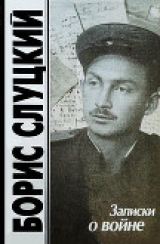
Текст книги "Записки о войне. Стихотворения и баллады"
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Себастьян
Сплю в обнимку с пленным эсэсовцем,
мне известным уже три месяца
Себастьяном Барбье.
На ничейной земле, в проломе
замка старого, на соломе,
в обгорелом лежим тряпье.
До того мы оба устали,
что анкеты наши – детали
незначительные в той большой,
в той инстанции грандиозной,
окончательной и серьезной,
что зовется судьбой и душой.
До того мы устали оба,
от сугроба и до сугроба
целый день пробродив напролет,
до того мы с ним утомились,
что пришли и сразу свалились.
Я прилег. Он рядом прилег.
Верю я его антифашизму
или нет – ни силы, ни жизни
ни на что. Только б спать и спать.
Я проснусь. Я вскочу среди ночи —
Себастьян храпит что есть мочи.
Я заваливаюсь опять.
Я немедленно спать заваливаюсь.
Тотчас в сон глубокий проваливаюсь.
Сон – о Дне Победы, где, пьян
от вина и от счастья полного,
до полуночи, да, до полночи
он ликует со мной, Себастьян.
В самом конце войны
Смерть стояла третьей лишней
рядом с каждыми двумя
или же четвертой лишней
рядом с каждыми тремя.
До чего к ней все привыкли?
До того к ней все привыкли,
что, когда она ушла,
я сказал: «Ну и дела!
Что же делать буду я
без нее, в углу молчащей,
заходящей в гости чаще,
чем родные и друзья».
Угол пуст. Ответа нет.
Буду жить теперь иначе,
в этом мире что-то знача,
даже если смерти нет.
В бытии себя упроча,
надо вверх идти, вперед,
хоть со смертью было проще,
было менее забот.
«Какую войну мы выиграли…»
Какую войну мы выиграли
в сорок патом году!
Большая была и долгая.
А мы ее все-таки выиграли.
Какую мы в сорок пятом
преодолели беду!
Какую судьбу мы выбрали!
Мы были достаточно молоды,
чтоб выйти из этой войны
здоровыми и веселыми,
целинниками – для целины,
новогородов – новоселами
и сызнова не убояться
ни голода, ни холода.
И прóжив жизнь военную,
мы новую, мирную жизнь,
вторую, вы только подумайте,
кое-кто даже третью,
и начали и продолжили,
пройдя сквозь все рубежи
сперва в середине, а позже
на склоне такого столетья!
Двадцатого столетья!
«Тот день, когда я вышел из больницы…»
Тот день, когда я вышел из больницы,
Был обыкновенный зимний день,
Когда как будто солнышко боится
Взойти вверху на лишнюю ступень.
Но всюду пахло охрою, известкой,
И всюду гул строительный дрожал,
И каменщик в ладонях черствых, жестких
На всех углах большой кирпич держал.
Беременные женщины по городу
Прохаживались шумною гурьбой,
Животы – огромные и гордые,
Как чаши с будущим,
неся перед собой.
Веселые и вежливые школьницы,
Опаздывая, ускоряли шаг,
И реял в воздухе особо красный флаг.
Я сразу понял, что война закончилась.
День Победы в Альпах
Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
до Альп
из родимой Алма-Аты!
Да где же повозочных порастеряли?
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!
Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.
А впрочем,
я никогда не поверю, —
что эти верблюды действительно звери.
Достоин иного прозванья верблюд.
Дивизия шла на верблюжьей тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смирные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.
Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре,
но всех перебили,
и только четыре
до горного города Граца дошли.
А сколько добра привезли они людям!
Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,
никогда
не забудем
верблюдов из казахстанской земли.
В каком-то величьи,
в каком-то прискорбьи,
загадочно-тихие, как гороскоп,
верблюды проходят
сквозь шум городской.
И белые Альпы видны в междугорбьи.
Вдоль рельсов трамвайных проходит верблюд,
трамваи гурьбой за арбою идут.
Трамвай потревожить верблюда не смеет.
Неспешность
приходится
извинить.
Трамвай не решается позвонить.
Целая очередь грацких трамваев
стоит,
если тянется морда к кустам,
стоит,
пока по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.
Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.
9 мая
Замполит батальона энского,
капитан Моторов Гурьян,
от бифштекса, от деревенского,
от вина цимлянского – пьян,
он сидит с расстегнутым воротом
над огромным и добрым городом,
над столицей своей, Москвой:
добрый, маленький и живой.
Рестораны не растеряли
довоенной своей красы.
Все салфетки порасстилали,
вилок, ложек понанесли.
Хорошо на душе Моторову,
даже раны его не томят.
Ловко, ладно, удобно,
здорово: ест салат, заказал томат.
Сколько лет не пробовал сока,
только с водки бывал он пьян.
Хорошо он сидит, высоко.
Высоко забрался Гурьян.
«В тот день, когда окончилась война…»
В тот день, когда окончилась война,
вдруг оказалось: эта строчка – ямбы, —
хоть никогда не догадался я бы,
что будет метр стиха иметь она.
Я полагал: метр вздоха и метр крика.
Я думал: метр обвала тишины, —
но оказалось – строчками должны,
стихами становиться эти звуки.
Гремевшая, дабы переорать
смертельного передвиженье груза,
стократ громчей
загрохотала муза,
закончив бой
и завершивши рать.
Поэзией надежда быть должна,
не жить ей без лирического пыла.
Что ж, оказалось, это ямбом было:
в тот-день-ко-гда-о-кон-чит-ся-вой-на.
В шесть часов утра после войны
Убили самых смелых, самых лучших,
А тихие и слабые – спаслись.
По проволоке, ржавой и колючей,
Сползает плющ, карабкается ввысь.
Кукушка от зари и до зари
Кукует годы командиру взвода
И в первый раз за все четыре года
Не лжет ему, а правду говорит.
Победу я отпраздновал вчера.
И вот сегодня, в шесть часов утра
После победы и всего почета —
Пылает солнце, не жалея сил.
Над сорока мильонами могил
Восходит солнце,
не знающее счета.
«Не безымянный, а безыменный…»
Не безымянный, а безыменный —
Спросить никто не догадался, —
Какой-то городок бузиновый
В каком-то дальнем государстве,
Какой-то черепично-розовый,
Какой-то пурпурно-кирпичный.
Случайный городишко, бросовый,
Райцентр какой-то заграничный.
В коротеньких штанишках бюргеры
И девушки в шляпенках фетровых
Приветствия тоскливо буркали
И думали – они приветливы.
Победе нашей дела не было
До их беды, до их злосчастия.
Чего там разбираться – нечего:
Ведь нам сюда не возвращаться.
А если мы берем в Германии —
Они в России больше брали.
И нас, четырежды пораненных,
За это упрекнут едва ли.
«Ордена теперь никто не носит…»
Ордена теперь никто не носит.
Планки носят только дураки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле никакая льгота
Этим тихим людям не дана,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдумано.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода —
Помнить все страдания. До дна.
А война – была.
Четыре года.
Долгая была война.
О погоде
1
Я помню парады природы
И хмурые будни ее,
Закаты альпийской породы,
Зимы задунайской нытье.
Мне было отпущено вдоволь —
От силы и невпроворот —
Дождя монотонности вдовьей
И радуги пестрых ворот.
Но я ничего не запомнил,
А то, что запомнил, – забыл,
А что не забыл, то не понял:
Пейзажи солдат заслонил.
Шагали солдаты по свету —
Истертые ноги в крови.
Вот это,
друзья мои, это
Внимательной стоит любви.
Готов отказаться от парков
И в лучших садах не бывать,
Лишь только б не жарко, не парко,
Не зябко солдатам шагать.
Солдатская наша порода
Здесь как на ладони видна:
Солдату нужна не природа,
Солдату погода нужна.
2
Когда не бываешь по году
В насиженных гнездышках комнат,
Тогда забываешь погоду,
Покуда сама не напомнит.
Покуда за горло не словит
Железною лапой бурана,
Покуда морозом не сломит,
Покуда жарою не ранит.
Но май сорок пятого года
Я помню поденно, почасно,
Природу его, и погоду,
И общее гордое счастье.
Вставал я за час до рассвета,
Отпиливал полкаравая
И долго шатался по свету,
Глаза широко раскрывая.
Трава полусотни названий
Скрипела под сапогами.
Шли птичьи голосованья,
Но я разбирался в том гаме.
Пушистые белые льдинки
Торжественно по небу плыли.
И было мне странно и дико,
Что люди все это – забыли.
И тополя гулкая лира,
И белые льдинки – все это
Входило в условия мира
И было частицей победы.
Как славно, что кончилась в мае
Вторая война мировая!
Весною все лучше и краше.
А лучше бы —
кончилась раньше.
Мальчишки
Все спали в доме отдыха,
Весь день – с утра до вечера.
По той простой причине,
Что делать было нечего.
За всю войну впервые,
За детство в первый раз
Им делать было нечего —
Спи
хоть день, хоть час!
Все спали в доме отдыха
Ремесленных училищ.
Все спали и не встали бы,
Хоть что бы ни случилось.
Они войну закончили
Победой над врагом,
Мальчишки из училища,
Фуражки с козырьком.
Мальчишки в форме ношеной,
Шестого срока минимум.
Они из всей истории
Учили подвиг Минина
И отдали отечеству
Не злато-серебро —
Единственное детство,
Все свое добро.
На длинных подоконниках
Цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
Проходят сестры важные.
Идут неслышной поступью,
Торжественно молчат:
Смежив глаза суровые,
Здесь,
рядом,
дети спят.
Память
Я носил ордена.
После – планки носил.
После – просто следы этих планок носил.
А потом гимнастерку до дыр износил
И надел заурядный пиджак.
А вдова Ковалева все помнит о нем,
И дорожки от слез – это память о нем,
Столько лет не забудет никак!
И не надо ходить. И нельзя не пойти.
Я иду. Покупаю букет по пути.
Ковалева Мария Петровна, вдова,
Говорит мне у входа слова.
Ковалевой Марии Петровне в ответ
Говорю на пороге: – Привет! —
Я сажусь, постаравшись к портрету спиной,
Но бессменно висит надо мной
Муж Марии Петровны,
Мой друг Ковалев,
Не убитый еще, жив-здоров.
В глянцевитый стакан напивается чай.
А потом выпивается чай. Невзначай.
Я сижу за столом,
Я в глаза ей смотрю,
Я пристойно шучу и острю.
Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.
И, утешив Марию Петровну как мог,
Ухожу за порог.
Однофамилец
В рабочем городке Солнечногорске,
В полсотне километров от Москвы,
Я подобрал песка сырого горстку —
Руками выбрал из густой травы.
А той травой могила поросла,
А та могила называлась братской.
Их много на шоссе на Ленинградском,
И на других шоссе их без числа.
Среди фамилий, врезанных в гранит,
Я отыскал свое простое имя.
Все буквы – семь, что памятник хранит,
Предстали пред глазами пред моими.
Все буквы – семь – сходилися у нас,
И в метриках и в паспорте сходились,
И если б я лежал в земле сейчас,
Все те же семь бы надо мной светились.
Но пули пели мимо – не попали,
Но бомбы облетели стороной,
Но без вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.
Я в жизни ни о чем таком не думал,
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат.
Баня
Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
как летом на реке.
Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы – те, которым
Я лично больше б доверял.
Там двое одноруких
спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали
война
и труд.
Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.
Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний
матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край
занес.
Там я, волнуясь и ликуя,
Читал,
забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.
Там слышен визг и хохот женский
За деревянною стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.
Там рассуждают о футболе.
Там с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги – горновой.
Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.
Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане
парились иль нет?
Там два рубля любой билет.
«У офицеров было много планов…»
У офицеров было много планов,
Но в дымных и холодных блиндажах
Мы говорили не о самом главном,
Мечтали о деталях, мелочах, —
Нет, не о том, за что сгорают танки
И движутся вперед, пока сгорят,
И не о том, о чем молчат в атаке, —
О том, о чем за водкой говорят!
Нам было мило, весело и странно,
Следя коптилки трепетную тень,
Воображать все люстры ресторана
Московского!
В тот первый мира день
Все были живы. Все здоровы были.
Все было так, как следовало быть,
И даже тот, которого убили,
Пришел сюда,
чтоб с нами водку пить.
Официант нес пиво и жаркое
И все, что мы в грядущем захотим,
А музыка играла —
что такое? —
О том, как мы в блиндажике сидим.
Как бьет в накат свинцовый дождик частый,
Как рядом ходит орудийный гром,
А мы сидим и говорим о счастье.
О счастье в мелочах. Не в основном.
Про евреев
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
«Всем лозунгам я верил до конца…»
Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.
В деревне
Очередь стоит у сельской почты —
Длинная – без края и межей.
Это – бабы получают то, что
За убитых следует мужей.
Вот она взяла, что ей положено.
Сунула за пазуху, пошла.
Перед нею дымными порошами
Стелется земля – белым-бела.
Одинокая, словно труба
На подворье, что дотла сгорело,
Руки отвердели от труда,
Голодуха изнурила тело.
Что же ты, солдатская вдова,
Мать солдата и сестра солдата, —
Что ты шепчешь? Может быть,
слова,
Что ему шептала ты когда-то?
Песня
На перекрестке пел калека.
Д. Самойлов
Ползет обрубок по асфальту,
Какой-то шар.
Какой-то ком.
Поет он чем-то вроде альта,
Простуженнейшим голоском.
Что он поет,
К кому взывает
И обращается к кому,
Покуда улица зевает?
Она привыкла ко всему.
– Сам – инвалид.
Сам – второй группы.
Сам – только год пришел с войны. —
Но с ним решили слишком грубо,
С людьми так делать не должны.
Поет он мысли основные
И чувства главные поет,
О том, что времена иные,
Другая эра настает.
Поет калека, что эпоха
Такая новая пришла,
Что никому не будет плохо,
И не оставят в мире зла.
И обижать не будут снохи,
И больше пенсию дадут,
И все отрубленные ноги
Сами собою прирастут.
Терпенье
Сталин взял бокал вина
(Может быть, стаканчик коньяка),
Поднял тост – и мысль его должна
Сохраниться на века:
За терпенье!
Это был не просто тост
(Здравицам уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
Великанам воздавал малец
За терпенье.
Трус хвалил героев не за честь,
А за то, что в них терпенье есть.
«Вытерпели вы меня», – сказал
Вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора.
Страстотерпцы выпили за страсть,
Выпили и закусили всласть.
Хозяин
А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел,
А все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.
Когда меня он плакать заставлял,
Ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
Ему казалось: я усмешку прячу.
А я всю жизнь работал на него,
Ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
Смотрел, смотрел,
не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже
Обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
Тот явный факт, что испокон веков
Таких, как я, хозяева не любят.
«Человечество делится на две команды…»
Человечество делится на две команды.
На команду «смирно»
И команду «вольно».
Никакие судьбы и военкоматы,
Никакие четырехлетние войны
Не перегонят меня, не перебросят
Из команды вольных
В команду смирных.
Уже пробивается третья проседь
И молодость подорвалась на минах,
А я, как прежде, отставил ногу
И вольно, словно в юные годы,
Требую у жизни совсем немного —
Только свободы.
«Когда мы вернулись с войны…»
Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
От несовершенной вины,
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны.
Господствовала прямота,
И вскользь сообщалось людям,
Что заняты ваши места
И освобождать их не будем.
А звания ваши, и чин,
И все ордена, и медали,
Конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.
Но в мир не допущен мужской,
К обужам его и одеждам,
Я слабою женской рукой
Обласкан был и обнадежен.
Я вдруг ощутил на себе
То черный, то синий, то серый,
Смотревший с надеждой и верой
Взор.
И перемену судьбе
Пророчествовали и гласили
Не опыт мой и не закон,
А взгляд —
И один только он —
То карий, то серый, то синий.
Они поднимали с земли,
Они к небесам увлекали,
И выжить они помогли —
То синий, то серый, то карий.
Иваны
Рассказывают,
что вино развязывает
Завязанные насмерть языки,
Но вот вам факт,
как, виду не показывая.
Молчали на допросе «мужики».
Им водкой даровою
в душу
лезут ли,
Им пыткою ли
пятки горячат, —
Стоят они,
молчат они,
железные!
Лежат они,
болезные,
молчат!
Не выдали они
того, что ведали,
Не продали
врагам родной земли
Солдатского пайка военных сведений,
Той малости,
что выдать бы могли.
И, трижды обозвав солдат
Иванами,
Четырежды
им скулы расклевав,
Их полумертвыми
и полупьяными
Поволокли
приканчивать
в подвал.
Зато теперь,
героям в награждение,
Иных имен
отвергнувши права,
Иваном называет при рождении
Каждого четвертого
Москва.
Как я снова начал писать стихи
Как ручные часы – всегда с тобой,
Тихо тикают где-то в мозгу.
Головная боль, боль, боль.
Боль, боль – не могу.
Слабая боль головная,
Тихая, затухающая,
Словно тропа лесная,
Прелью благоухающая.
Скромная боль, невидная,
Словно дождинка летняя,
Словно девица на выданьи,
Тридцати – с чем-нибудь – летняя.
Я с ней просыпался,
С ней засыпал,
Видел се во сне,
Ее сыпучий песок засыпал
Пути-дорожки
мне.
И вот головной тик – стих,
Тряхнуть стариной.
И вдруг головной тик – стих,
Что-то случилось со мной.
Помню, как ранило: по плечу
Хлопнуло.
Наземь лечу.
А это – как рана наоборот,
Как будто зажило вдруг:
Падаешь вверх,
Отступаешь вперед
В сладостный испуг.
Спасибо же вам, стихи мои,
За то, что, когда пришла беда,
Вы были мне вместо семьи,
Вместо любви, вместо труда.
Спасибо, что прощали меня,
Как бы плохо вас ни писал,
В тот год, когда, выйдя из огня,
Я от последствий себя спасал.
Спасибо вам, мои врачи,
За то, что я не замолк, не стих.
Теперь я здоров! Теперь – ворчи,
Если я чем совру,
мой стих.
«А в общем, ничего, кроме войны!..»
А в общем, ничего, кроме войны!
Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколько.
Она скрипит, как инвалиду – койка.
Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины.
А до войны? Да, юность, пустяки.
А после? После – перезрелость, старость.
И в памяти, и в сердце не осталось,
кроме войны, ни звука, ни строки.
Война? Она запомнилась по дням.
Все прочее? Оно – по пятилеткам.
Война ударом сабли метким
навеки развалила сердце нам.
Все прочее же? Было ли оно?
И я гляжу неузнающим взглядом.
Мое вчера прошло уже давно.
Моя война еще стреляет рядом.
Конечно, это срыв, и перебор,
и крик,
и остается между нами.
Но все-таки стреляет до сих пор
война
и попадает временами.
От составителя
Предлагаемая читателю книга выдающегося поэта послевоенной России Бориса Слуцкого (1919–1986) включает прозу и стихи о войне. Такой состав книги обусловлен двумя обстоятельствами. Без стихов поэта книга, издание которой приурочено к 55-й годовщине Победы, лишила бы современного читателя представления о том большом вкладе, который внес в русскую поэзию о Великой Отечественной войне Борис Слуцкий. Вместе с тем, знакомство с его военной прозой существенно дополнит представление о Слуцком, как о писателе, которому доступны различные формы выражения своего художнического дара.
Проза и стихи Бориса Слуцкого разворачивают перед нами картину жизни и борьбы народа в самый драматичный период нашей истории, а их автор предстает перед читателем не как бесстрастный летописец, но как активный участник героических и трагических событий.
До начала 90-х годов Борис Слуцкий не был известен как прозаик. Только в 1991 году читатели могли познакомиться с автобиографической прозой поэта в небольшой книжке «О других и о себе», изданной библиотекой «Огонька». Выходу в свет этой интересной книжки, как и тому, что до читателей дошли сотни неопубликованных при жизни поэта стихов, мы обязаны первому посмертному публикатору литературного наследия Бориса Слуцкого Юрию Леонгардовичу Болдыреву. Но разрозненные прижизненные публикации очерков и небольшая книжка «Огонька» не коснулись наиболее объемной и значительной работы в прозе – «Записок о войне». Только в 1995 году в преддверии 50-летия Победы удалось фрагментарно опубликовать часть «Записок». Сейчас читатель имеет возможность ознакомиться с этой работой Бориса Слуцкого в полном объеме.
«Записки» охватывают боевой путь поэта от сражений под Москвой, где он был тяжело ранен, до поверженной Вены.
Война застала Бориса Слуцкого в Москве студентом двух институтов – Литературного института Союза писателей и Московского юридического. Одним из первых среди своих литературных и юридических сокурсников он ушел на фронт, даже не завершив сдачи выпускных экзаменов. Военюрист по военно-учетной специальности, Слуцкий начал службу в дивизионной прокуратуре. В сентябрьском письме 1941 года из свердловского госпиталя Борис писал мне, впрочем не без иронии: «Дослужусь до армвоенюриста, буду судить Гитлера и подам голос за смерть». Но в должности дивизионного следователя пробыл недолго, карьеры военюриста не сделал. В октябре 1942 года он навсегда оставит военную юриспруденцию. Вскоре Слуцкий писал мне: «Я начал службу с начала. Получил гвардии лейтенанта (не юридической службы) и ушел на политработу. Замкомбатствовал. Сейчас инструктор политотдела дивизии». В стихах, написанных после войны, но опубликованных посмертно, он объяснял:
…Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.
Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей… Каким судьей?
Футбольным.
Он не только не считал возможным судить других, но и напрочь отметал всякую возможность для себя легких путей на опасных дорогах войны.
В конце 1943 года служебное положение Слуцкого изменилось. Его способности и эрудиция, успешная работа в частях дивизии были замечены начальством. В январском письме 1944 года он писал: «Сейчас на руководящей работе в одной экзотической, романтической, казавшейся мне интересной должности». И снова в другом письме: «Гвардии капитан (пехоты, а не юстиции). На политработе на одной из самых острых интересных отраслей». Несмотря на эзоповский язык письма, мне нетрудно было догадаться, что это за «одна из самых острых интересных отраслей» – работа в 7-м отделении политотдела армии по разложению войск противника. В последующем эта догадка подтвердилась.
Хотя Слуцкий на новом месте был необходим и полезен для дела, его самого новое положение не удовлетворяло. В письмах он не единожды писал, что предпринимает шаги к тому, чтобы «занять более пехотное положение». Здесь Слуцкий несправедлив к себе: работа на МГУ (громкоговорящей агитационной установке, смонтированной в автофургоне) была опасна, как всякая деятельность вблизи переднего края. Обычно противник обрушивал на МГУ такой шквал огня, что командиры подразделений, в районе которых «работала» МГУ, просили поскорее убраться и сменить позицию. Так что «более пехотного положения» искать не нужно было. Кстати, факт, что начальство с большим нежеланием демобилизовало Слуцкого через год после окончания войны, и только после госпиталя и признания его инвалидом II группы, свидетельствует о том, что все его хлопоты о переходе на «более пехотное положение» были тщетными.
В оценке человека, близкого к нам по призывному возрасту, для Слуцкого много значило, был ли этот человек на фронте. И для себя он не сделал исключения, когда добровольно пошел в действующую армию в первые дни войны, имея студенческую отсрочку. На войну Слуцкий пошел не как поэт, а как солдат, и занят был на войне – войной.
В письме ко мне в 1944 году писал: «Стихов никаких не пишу два с половиной года… по военно-уважительной причине». Из письма 1945 года: «…стихов не пишу более трех лет… здесь я для всех человек с литературным образованием (критический! факультет Литинститута), и все. Никакой не поэт».
Каким был Борис Слуцкий на фронте, как вел себя в критические моменты, неизбежно выпадающие на долю тех, кто воюет не дальше дивизии первого эшелона? Близко зная Бориса Слуцкого до войны, я представлял его человеком смелым, без особых усилий переносящим трудности фронтового быта, не уклоняющимся от опасных заданий. Не говорю о других качествах – уме, честности, чувстве товарищества, сострадании, которые были присущи ему изначально и которые война раскрывает во всей полноте. В конце 70-х и начале 80-х годов во время болезни Слуцкого я встречался с его фронтовыми товарищами, предлагавшими свою помощь. Все они отзывались о нем, как о мужественном офицере, верном товарище; высоко ценили его профессионализм, эрудицию, находчивость. Вспоминали его остроумие, называли душой их небольшого политотдельского коллектива.
Сохранилось несколько писем Слуцкого к брату, относящихся ко времени наиболее кровопролитных боев на Харьковском направлении весной 1943 года. Даже с учетом желания успокоить близкого человека относительно грозящих ему лично опасностей, письма свидетельствуют о том, что Слуцкого «мужество не оставило». В письме от 17 марта он писал: «Сегодня 16 марта несколько утихло. Передовая приняла колхозный вид. Две бурных недели прошли без нарушения моей физической целости. За это время были: марш на one hundred fifty. Two days I was a commissar of separate batalion (лыжный); Battles, рейды, meeting before attacks[236]236
Марш на сто пятьдесят <километров>. Два дня я был комиссаром батальона (лыжного); бои, рейды, митинги перед атаками…
[Закрыть]; работа по моей специальности». Впоследствии эта «работа по специальности» воплотилась в одно из лучших стихотворений Слуцкого:
…Политработа – трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад
в бою.
Перед голодными.
перед холодными.
Голодный и холодный.
Так!
Стою.
Им хлеб не выдан,
им патрон недодано,
Который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.
28 марта Слуцкий писал брату: «Мы по-прежнему воюем на подступах к реке (Сев. Донец – П. Г.). Бои довольно интенсивные. Постепенно привыкаем к маневренной войне, о которой почти забыли под Гжатском и Ржевом. Держимся хорошо». В письме от 11 апреля, «отчитываясь за прошедшие тридцать пять дней боев», он писал: «Все это время прошло в боях довольно ожесточенных. См., например, о нас сообщение Совинформбюро от 30.3 вечернее» (в сообщении, о котором упоминает Слуцкий, говорится, что «наше гвардейское соединение под командованием генерал-майора Тихонова стойко встретило врага и отбило все атаки немцев, поддержанные крупными силами авиации». – П. Г.). Однажды в письме брату Слуцкий заметил: «Инструктора политотдела воюют процентов на 300 пехотнее, чем лица моей прежней профессии».
Портрет Спуцкого-солдата будет неполным, если не отметить присущего ему чувства глубокой гражданской ответственности, понимания того, что победа в этой судьбоносной для страны войне достигается не только усилиями всех, но и вкладом каждого. Войну против фашизма, как большинство наших сверстников, Слуцкий предчувствовал задолго до ее начала и считал не только главным делом поколения, но персональным долгом каждого. Политработа в стрелковом батальоне, окопная жизнь с солдатами на «передке» не мешала ему видеть себя участником грандиозного сражения против фашизма. В одном из писем весны 1943 года он писал: «Думаю, что в третий раз после июля и декабря 1941 года я попал в бои, имеющие узловое (подчеркнуто мною. – П. Г.) значение для Отечественной войны». Сегодняшнего читателя, знающего о Курской битве, развернувшейся через несколько месяцев после боев на Северном Донце и ознаменовавшей поворот в войне к нашей победе, слова Слуцкого об узловом значении боев, в которых он принимал участие весной 1943 года, не удивят. Но нужно учитывать, что письмо написано человеком, который ничего не знал о предстоящих летом 1943 года боях под Курском, освобождении Орла и Белгорода, а затем и Харькова, после чего немцы откатились к Днепру и их отчаянное сопротивление ничего уже не могло изменить. Предчувствие, основанное не только на обшей и изначальной вере в нашу победу, не подвело поэта. И это ощущение причастности к глобальным событиям помогало Слуцкому добротно делать «работу по своей специальности» в самых низовых звеньях, а потом, через годы, донести до нас в стихах и прозе.
Можно сказать, что Слуцкому повезло: война его пощадила, и он остался жив. Война его даже обогатила, естественно, не в меркантильном смысле. «При переезде с квартиры на квартиру, – писал Слуцкий после войны, – все мое имущество тогда умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками были четыре года войны».
Взгляд на события из окопов переднего края в первые годы войны, участие в сражениях под Москвой и тяжелых оборонительно-наступательных боях 1942–1943 годов, госпиталь, жизнь в самой гуще солдатской, близость к людям, непосредственно добывавшим победу, обогатили Слуцкого впечатлениями, раздумьями, переживаниями. Именно эти опасные и трудные годы сформировали Слуцкого – автора поэтического эпоса Великой Отечественной войны.
С началом зарубежного похода к работе на МГУ прибавилась новая область деятельности – изучение военно-политической обстановки в освобождаемых странах, связь с политическими партиями, общественными и религиозными организациями, подготовка рекомендаций командованию и военной администрации. Здесь Слуцкий обрел новый опыт. В автобиографии, хранящейся в его писательском личном деле, он писал: «Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Югославии, Румынии для командования… Писал текст первой шифровки „Политическое положение в Белграде“ (20 октября 1944 года). Многократно переходил линию фронта и переводил через нее немцев-антифашистов, предъявлял ультиматумы (в том числе, в Белграде и в районе Граца) – вел обычную жизнь политработника».
В эти годы на долю Слуцкого выпало больше «экзотики», чем тем, кто воевал на западных направлениях. Служебное положение не только ввело его в самую гущу военно-политических событий, но и открыло возможности личного знакомства с деятелями различной политической окраски. Ему оказались доступными мемуары белых генералов и либеральных деятелей, осевших в 1920—1930-х годах на Балканах. В поисках стихов и новых поэтических имен Слуцкий перерыл многолетние подшивки эмигрантских журналов.








