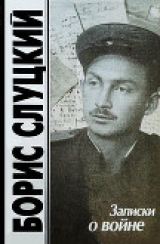
Текст книги "Записки о войне. Стихотворения и баллады"
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)

Борис Слуцкий
Записки о войне. Стихотворения и баллады
От редакции
Рукопись «Записки о войне» пролежала в столе Бориса Слуцкого и его друзей в ожидании публикации почти 55 лет. Ровно столько лет отделяют нас от победоносного окончания Великой Отечественной войны.
В преддверии 55-й годовщины нашей великой Победы рукопись наконец становится книгой и доступна читателю.
Издательство «Logos» посвящает это издание памяти миллионов безвестных героев, отдавших свои жизни на полях сражений с фашизмом за честь, свободу и независимость нашей Родины.
Даниил Гранин. Вкус победы
Отнюдь не любитель предисловий, я взялся за это по давно забытому чувству солдатского братства. Нас осталось совсем немного, тех, кто воевал. То есть стрелял, отступал, попадал в окружение, затем наступал, и тем более тех, кто дошел до Победы и мог оценить ее сладость.
Борису Слуцкому повезло, он не только уцелел в той жестокой, кровавой войне, но ему досталось провести последний завершающий акт Великой Отечественной на лучшей для писателя должности – командуя радиовещательной машиной. Он побывал в Австрии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Румынии. Работа на звуковещании была опасной, пропагандистскую машину ожесточенно обстреливали, зато перед Слуцким разворачивалась вся панорама победного наступления наших войск, разгрома фашизма, освобождения европейских народов от оккупации. Он видел взбаламученную, растерянную, униженную и счастливую Европу, запруженную тысячными потоками остарбайтеров, тех, кто возвращался на родину, недавних узников концлагерей, города, откуда бежали оккупанты, города без властей, свободу внезапную, испуганную, безудержную…
Конец войны, весна 1945 года, время мести и прощения, время надежд и страха, для нас, советских солдат, это было время, когда вдруг открылась неизвестная европейская жизнь, – мы увидели не только проклятую фашистскую Германию, но и Балканы, прелесть старинных австрийских городков, сельский быт, дома фермеров, замки, бордели, всю, до того скрытую от нас, запретную жизнь европейского обывателя.
На каждом шагу Слуцкого ожидали удивительные казусы войны. Признаюсь, когда мне дали эту рукопись, я был убежден, что она устарела. Времени порча не могла обойти ее, это же не повесть, не роман, это публицистика, весьма скоропортящийся продукт, тем более, что Борис Слуцкий создавал свои «Записки» сразу после войны. Прошло уже 55 лет, и каких лет!
История Великой Отечественной войны, не раз и не два менялась, пересматривалась, до сих пор у нас так и не появилось более или менее правдивой истории этого величайшего события XX века. Тем более я удивлялся прочности этой неопубликованной книги Бориса Слуцкого. Какое счастье, что она не пропала!
У нас установилась, и долгое время торжествовала, солнечная картина триумфального марша наших войск по Европе навстречу Победе. Освободители! Как нас любили – цветы, поцелуи, ликующие толпы болгар, словаков, словен, чехов, счастье долгожданной победы дурманило наши головы. Спустя еще несколько лет после войны, бывая в Чехословакии, в Болгарии, я ощущал на себе любовь и благодарность к своему солдатскому званию. Рассказы, фильмы о той поре обрели обязательный трафарет, сладкий до приторности вкус самоупоения… Суровый воин в запыленной плащ-накидке поднимает на руки немецкого ребенка – статуя в берлинском Трептов-парке утверждена была как герб, как итог, присужденный навеки победителям.
Мы не заметили, как красивая легенда стала трескаться, ржаветь, как была истрачена любовь к нам – освободителям от фашизма. Помню лишь отрезвляющий ледяной душ книги Льва Копелева «Хранить вечно». Он не убоялся рассказать о том, как, войдя в Германию, наши солдаты насильничали, грабили, убивали, разрушали. Я читал это не про кого-то, про нас, про то, о чем не хотел помнить; он тыкал нас мордой в наше хамство, в наше дерьмо. Копелев провел всю войну на фронте, был в отделе – по работе среди войск противника, хорошо знал, как это было. Такая правда была неуместна. Копелева репрессировали. Книга Копелева вышла в «тамиздате», спустя десятилетия ее выпустили у нас в России.
«Записки» Бориса Слуцкого отличаются от всего того, что было написано: они не обличают, нет в них и похвальбы победителя. Спокойно, чуть иронично, свидетельствует он о том, как мы входили в Европу, что там творили хорошего и плохого. С какой-то отстраненной мудростью изображает он, чем кончаются войны. Любые, самые справедливые, оправданные, необходимые. Как они портят человека, и как они возвышают его.
О себе, о своих заслугах, о геройстве звуковещательной станции, которая всегда действовала на переднем крае, – очень скупо. А жаль, потому как работа эта была интересна, в ней сказывались наши приметы.
Зато «Записки» заполнены до отказа тем поразительным фольклором фронтовых баек, какие ежедневно создавала война.
…В битве под Москвой солдат вскочил на немецкий танк и обухом топора, матерясь, загнул пулемет.
…Осенью 1944 года поределые наши полки в Западной Румынии пополнили освобожденные из лагеря военнопленные защитники Одессы и Севастополя, они сохранили в лагерях свою военную честь и оправдали себя в первых же боях.
…В Венгрии к нам перешла рота мадьяр. Недоставало в ней одного взвода. Слуцкий вызвал командира роты, приказал ему вернуться за линию фронта и привести к нам в плен недостающий взвод. Фантастичный этот приказ был выполнен.
Слуцкий, преимущественно поэт, в этих записках утвердил себя и прозаиком, мастером точных, мгновенных зарисовок, характеров, пейзажей. Проза его лаконична и точна, насыщена красками, звуками. Иногда кажется, что он пишет не своему современнику, а нам, читателям конца века, настолько он бесстрастно аналитичен. Вот он описывает мародерство. Январь 1945 года, Венгрия, графский замок:
«…Веера повертели в руках и повесили – как не имеющие практического значения. Это направление мародерства очень типично. Во времена кишиневской операции и более древние брали часы, кольца, клипсы, пару, другую белья. Ограничивали аппетиты лимитами вещевого мешка. В Румынии начали брать деньги и отрезы (блеснула надежда на скорый конец войны). Ковры стали брать только тогда, когда представилась возможность перевозить их, т. е. после захвата австрийского автотранспорта. Революционный скачок в этой области произошел после разрешения посылок».
Слуцкий создает беспощадные портреты и побежденных, и победителей. Ему нужно было получить от командующего группой войск по овладению Белградом разрешение предъявить ультиматум фрицам, без него вещать нельзя: ультиматум составлен нашим комдивом, но посылают за разрешением, конечно, майора Слуцкого.
Командующим был прославленный генерал лейтенант Жданов.
Описывает его Слуцкий без всякого пиетета, со сдержанной улыбкой. Генерал принял его на главной улице предместья – высокий, красивый в демонстративно-полной генеральской форме, и далее следует наблюдение: «Меня всегда удивляло – до чего крупный упитанный народ наши генералы… 20 лет мирного строительства, когда начальство партийное, советское, профсоюзное надрывалось на работе, они физкультурились и, отчасти, отъедались на положенных пайках».
В те годы хоть физкультурили, так и ели лишь положенное.
Генерал отверг всякий ультиматум. Он театрально высмеял это предложение. Он считал, что город уже взят им.
На следующий лень выяснилось, что до взятия столицы далеко, более того, наши войска попадают в окружение… А между тем, Жданов уже доложил о взятии Белграда, и доклад пошел к Сталину. Белград был взят лишь спустя пять дней.
До чего похоже на нынешних наших генералов.
Слуцкий – неумолимый летописец этой войны, казалось бы, победоносной, но, увы, на самом же деле испещренной не просто ошибками, а типичными грехами, неоправданными потерями, генеральскими амбициями, бесчеловечностью.
Про эту финальную часть Победы мы знаем мало. У Слуцкого была возможность видеть и участвовать в заключительных операциях на разных участках огромного фронта: Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия – и он максимально использовал эту возможность. Не знаю, вел ли он дневник, делал ли какие-то заметки, но все равно, подробности тех событий, запечатленные им, свидетельствуют о памяти исключительной, памяти не журналистской, а писательской.
Это труднейший жанр – документальная проза.
Австрийская деревушка, случайная встреча.
«То была бесцветная женщина с вялой кожей и тускло-рыжими обеззолоченными волосами… Она говорит однообразно и скучно.
– Я часто слушала радио и хорошо знаю о Красной Армии. Я ждала вас. Я всю жизнь любила одного мужчину. А сейчас мне приходится спать с каждым солдатом, который проходит через деревню. По его первому слову».
История в записках Слуцкого выступает в наиболее для меня драгоценном виде – как история чувствований, настроений, восприятий.
Наши солдаты, войдя в Румынию, увидели парикмахерские, где мылят пальцами и не моют кисточки, отсутствие бани, умываются из таза: «Сначала грязь от руки остается, потом этой грязью лицо моют». Презирали местные бордели, проституцию, то, как продают себя женщины, эрзац-сахар, эрзац-продукты.
Оказывается, в Румынии наш солдат более всего ощущал свою возвышенность над Европой. Слуцкий рассказывает, как менялось самочувствие немцев, недавних ревнителей всемирного Рейха, что происходило с их союзниками. Перед нами проходят солдаты болгарской, венгерской, югославской армий, партизаны, крестьяне, аристократы, демократы, коммунисты, фашисты. Пестрый спектр чувств, переломы взглядов, новое состояние умов – все это непредвидено, оно и личностно, оно и даст представление о том, что творилось с целыми народами. Менялось отношение к советским солдатам, менялись взгляды и самих солдат.
Конечно, мы все тогда были охвачены жаждой мести за бесчинства немецких оккупантов. Месть грубая, бесчеловечная, переходила в чувство возмездия, а затем и в милосердие победителей.
«Записки» дают богатый исторический пейзаж «после битвы» тех лет. Конечно, Слуцкому повезло, перед ним проходили пестрые вереницы разноплеменных событий и судеб. Но великая заслуга автора в том, как использован весь этот материал; впечатление такое, что он ничего не упустил. Он не считался с запретом внутреннего цензора. Он писал о разгуле советского антисемитизма, мог сочувственно отнестись к белоэмигрантам, писал о нашей советской ограниченности, невежестве.
Более всего я завидовал всеохватной его памяти, его дальнозоркому глазу, тому, как добросовестно он запомнил, сохранил, записал свою войну. Завидовал, потому что четыре года моей войны и я тоже мог бы по-своему изложить, записать, ведь было пережито многое, а вот не сумел, не сделал, понадеялся на память, а она слишком быстро заросла. «Записки» Бориса Слуцкого – не только заслуга его самодисциплины, это еще и высокое чувство его ответственности перед историей, и свойство его таланта.
Слуцкий писал поражающе много. После его смерти стали публиковаться подборки стихов, десятки, сотни стихов. Вышли два больших сборника неизданного. Не то чтобы он писал в стол из-за каких-то цензурных соображений. Пришла та пора, когда напечатать, опубликовать – уже неважно. Важно написать. Пишешь, потому что пишется, поёшь для себя свою песню. Поэзия переполняла его, он торопился записывать, словно бы стенографировал чьи-то голоса, диктующие ему.
Очевидно, и свои «Записки о войне» он мог при жизни опубликовать. Проза его так же требовала выхода, и он хотел еще многое сказать. Однажды мы гуляли с ним по Комарову, и он увлеченно рассказывал подробности Шахтинского дела, у него сложилась история этого первого процесса, с которого начался сталинский террор. Его рука с пером не поспевала за его талантом.
Наверное, следовало бы отшлифовать его «Записки», кое-что растолковать, расширить. Все так. Но в этом, неприбранном виде, в них ощущается сбивчивое дыхание пришедшего с войны офицера, ожесточенного и счастливого, израненного и не знающего, как дальше жить, во всяком случае без прежних иллюзий. Одним из первых он понял, посмел сформулировать для всех нас взаимоотношения поэта и власти, когда написал:
А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел.
А все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.
Ничто, никакие литературные совершенства, не могут заменить свежесть восприятия тех лет, его «Записки» еще пахнут порохом, пылью дорог, солдатским потом, в них слышен лязг танковых гусениц, от них веет лихостью и страхом погибнуть перед днем Победы. И эти лица – лица и судьбы народов, их надежды… Они уже забыли, как все было, и мы, мы ведь тоже позабыли себя, оказывается, мы были куда лучше…

Записки о войне
«В надежде славы и добра
я по-прежнему смотрю вперед без боязни,
что в большей мере, чем раньше,
свидетельствует о моем врожденном оптимизме…»
Борис Слуцкий(Из письма 1942 года)
ВСЕ, чем жил этот человек в военные и послевоенные годы, все, что отстоялось в его душе и памяти твердыми взглядами, убеждениями, нравственными оценками, все это было изложено читателю с достойной сдержанностью и прямотой, с нехвастливой, но непоколебимой гордостью за свою страну и свой народ.
Константин Симонов
Основы
Накануне Европы
То было время, когда тысячи и тысячи людей, волею случая приставленных к сложным и отдаленным от врага формам борьбы, испытали внезапное желание: лечь с пулеметом за кустом, какой поплоше и помокрее, дождаться, пока станет видно в прорезь прицела – простым глазом и близоруким глазом. И бить, бить, бить в морось, придвигающуюся топоча.
И было еще одно желание: под тем же кустом, помокрее и поплоше, подгребя сухих листьев под проношенные коленки, засунуть стандартный наган в рот (по-растратчичьи) или притиснуть его к лбу (по-офицерски) и на две, на три, на четыре уменьшить официально положенную семерку пуль.
Диапазон официозности расширился: «Правда» печатала стихи от Демьяна Бедного до Ахматовой[1]1
«„Правда“ печатала стихи от Демьяна Бедного до Ахматовой». – Демьян Бедный (наст. фамилия Е. А. Придворов) (1883–1945) – русский советский поэт; Ахматова Анна Андреевна (наст. фамилия А. А. Горенко) (1893–1966) – выдающийся русский поэт.
О Демьяне Бедном Слуцкий знал: «Жил в Кремле, хотел – ходил к Ленину, хотел – ходил к Сталину». Об Ахматовой знал, что нелюбима советской властью и нелюбовь эта взаимна. Увидев эти два имени в «Правде», понял власть вынуждена изменить свое отношение к Ахматовой (как выяснилось, не надолго). Стихотворение А. Ахматовой «Мужество» («Мы знаем, что ныне лежит на весах…») было напечатано в «Правде» к женскому празднику 8 марта 1942 года. Это было единственное стихотворение Ахматовой, опубликованное «Правдой». Д. Бедный был постоянным автором «Правды».
[Закрыть]. Распространение получили две формы приверженности к сущему: одна – попроще – встречалась у инородцев и других людей чисто советской выделки. Она заключалась в том, что сущее было слишком разумным[2]2
«…сущее было слишком разумным». – Чуть измененная цитата из Гегеля: «Все действительное разумно, все разумное действительно».
[Закрыть], чтобы стерли его немцы в четыре месяца от июня до ноября. Эта приверженность не колебалась от поражения, ибо знала она, что государственный корабль наш щелист, но знала также, что слишком надежными, плотничными гвоздями заколачивали его тесины. Вторую форму приверженности назовем традиционной. Она исходила из страниц исторических учебников, из недоверия к крепости нашествователей, из веры в пружинные качества своего народа. Имена Донского, Минина, Пожарского для инородцев западно чуждые, сошедшие с темных досок обрусительских икон, здесь наливались красками и кровью. Две эти любви, механически слитые армейскими газетками, еще долго жили порознь, смешливо и враждебно поглядывая друг на друга. В Керчи Мехлис[3]3
Мехлис Лев Захарович (1889–1953) – генерал-полковник. Во время Великой Отечественной войны начальник Главного политического управления РККА и зам. наркома обороны (до июля 1942), затем член Военного совета ряда фронтов. Неудачи советских войск под Керчью связывают, в том числе, с вмешательством Мехлиса в руководство войсками.
[Закрыть] просматривал листовки, обращенные к полякам – солдатам немецкой армии. Мучительно картавя, хрипя, презирая, он тыкал в исчерканный текст чиновника своего. Кричал: «Где славянство? Почему нет „братья-славяне“? Вставьте сейчас же, я обожду».
Тогда еще никто не знал, что слово «славяне», казавшееся хитрой выдумкой партработников и профессоров, уже собрало в Белграде студентов и работников под знамена КПЮ[4]4
КПЮ – Коммунистическая партия Югославии, создана в 1919 году, преобразована в Союз коммунистов Югославии в 1952 году.
[Закрыть].
6 ноября 1941 года (возвращаясь после ранения из госпиталя – П. Г.) я проезжал через Саратов. Была метель – первая в этом году. Ночью на станции, ярко освещенной радужными фонарями, продавалось мороженое пятьдесят копеек порция – сахарин, крашеный снег, подслащенный и расцвеченный электричеством. Оно таяло задолго до губ, в руках, и невидными ручейками скапывало на землю. Россия казалась эфемерной и несуществующей, и Саратов – последним углом, закутком ее.
На следующее утро эшелон остановился на степной станции Здесь выдавали хлеб темно-коричневый, свежевыпеченный, ржаной. Его отпускали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора чудесно не убывала. Теплый запах, окутывавший ее в ноябрьской неморозной изморози, напоминал об уюте и основательности. За две тысячи километров от фронта, за полторы тысячи километров от Москвы Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой.
На войне пели: «Когда я на почте служил ямщиком…», «Вот мчится тройка удалая…», «Как во той степи замерзал ямщик…». Важно, что это неразбойничьи, небурлацкие и несолдатские песни, а именно ямщицкие. Преобладало всеобщее ощущение дороги – дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью, в теплушке, затерянной среди снежной степи?
Эренбург
Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам они держатся вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает одни кирпичи об другие. Так, наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам. Так, самосохранение жестоко «состукивалось» с долгом. Страх перед смертью – со страхом перед дисциплиной. Честолюбие – с партийным презрением к побрякушкам всякого рода.
Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург[5]5
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – известный писатель и общественный деятель. Первый сборник стихов издал в Париже (1910). С начала 30-х гг. постоянно жил в СССР. Автор многих романов, а также повести «Оттепель», название которой стало нарицательным для обозначения перемен, наступивших после XX съезда КПСС. Борис Слуцкий, упомянувший в «Записках» о значении статей Эренбурга о войне, еще не подозревал, что после войны сблизится с Эренбургом и найдет в нем поклонника своих стихов и доброжелательного собеседника. Слуцкий посвятил Эренбургу несколько стихотворений, в том числе известное стихотворение «Лошади в океане», включенное в настоящий сборник. В книге Эренбурга «Люди, годы, жизнь» есть воспоминания о встречах с Борисом Слуцким; в книге Слуцкого «О других и о себе» есть очерк «Эренбург».
[Закрыть], газетчик. Его труд может быть сравнен только с трудом коллективов «Правды» или «Красной Звезды». Он намного выше труда всех остальных писателей наших. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем – мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвало бы себя эренбургианцами, знай они закон словообразования. Все знают, что имя вклада Эренбурга – ненависть. Иногда она была естественным выражением официальной линии. Иногда шла параллельно ей. Иногда, как это было после вступления на немецкую территорию[6]6
«…иногда, как это было после вступления на немецкую территорию…». – Автор имеет в виду статью зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Г. Ф. Александрова, опубликованную в «Правде» 14 апреля 1945 г. «Товарищ Эренбург упрощает»; там была провозглашена новая линия по отношению к немцам, исходившая из высказывания Сталина о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается».
[Закрыть], – почти противоречила официальной линии. Как Адам и как Колумб, Эренбург первым вступил в страну ненависти и дал имена ее жителям – фрицы, ее глаголам – выстоять, ее мерилам и законам. Не один из моих знакомых задумчиво отвечал на мои аргументы: «Знаете ли, я все-таки согласен с Эренбургом» – и это всегда относилось к листовкам, к агитации, к пропаганде среди войск противника. Когда министры иностранных дел проводят свою линию с такой неслыханной последовательностью, они должны стреляться при перемене линии.
Эренбург не ушел, он отступил, оставшись «моральной левой оппозицией»[7]7
«…моральной левой оппозицией». – Автор имеет в виду, что отстаивание линии на продолжение ненависти было более «левой» политикой, чем провозглашенный новый курс по отношению к немцам. Само понятие «левая оппозиция» – одно из самых опасных словосочетаний для того времени, т. к. «левой оппозицией» был троцкизм.
[Закрыть] к спокойной политике наших оккупационных властей.
Вред его и польза его измеряются большими мерами. Так или иначе, петые им песни еще гудят в ушах наших, еще ничто не заглушило их грозной мелодии. Мы не посмели противопоставить силе ненависти силу любви, а у хладнокровного реализма не бывает силы.
Гнев
Пропаганда и рассказы освобожденных жителей, запах самого словечка «фриц», историческая нелюбовь к «колбасникам»[8]8
«историческая нелюбовь к „колбасникам“». – Отождествление немца с «колбасником» в общественном сознании сформировалось под воздействием русофильской пропаганды при Александре III и, конечно, под влиянием антинемецких настроений 1914–1917 г.
[Закрыть] обусловили специфическое отношение наших солдат к немцам – не презрение, не злобу, а брезгливую ненависть, отношение, равное отношению к лягушкам или саламандрам.
Капитан Назаров, мой комбат, ландскхнет[9]9
Ландскнехт (нем.) – термин, обозначающий наемного солдата. В данном контексте использовано автором переносное значение – жестокий, беспощадный солдат.
[Закрыть] из колхозных агрономов, за обедом рассказывал мне, как он бил пленных в упор, в затылок из автомата.
– Зимой 1941 года на Воронежском[10]10
«Зимой 1941 года на Воронежском фронте». – Более вероятно, что автор имел в виду зиму 1942 г.; Воронежский фронт был образован в июле 1942 г.
[Закрыть] фронте взяли в плен сорок фрицев. В штаб армии привели двоих из них. Часть пленных убили штабные офицеры – из любопытства. Остальных заставили снять шинели – «щоб воши их не грызлы». Фрицы «потанцювалы» в открытом кузове, а потом померли потихоньку. «Ось мы идем и чуем – щось торохтит у кузове, як та мерзла картофля. Роздывылысь – а то фрицы, вже застыглы. Мы их повыкыдывали из машины, тай позакыдывали снигом».
20 февраля 1943 года на станции Мичуринск наш эшелон стоял рядом с эшелоном пленных. Здесь были итальянцы, румыны, югославские евреи из рабочего батальона. На платформах валялись десятки желтых трупов. Их крайняя истощенность свидетельствовала, что причиной смерти был голод; однако, достаточно было взглянуть в окно, чтобы понять, что пленные страдают от жажды больше, чем от голода. Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся, февральский, политый конской мочой, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, ридикюли, кольца, легко снимавшиеся с истощенных пальцев. Вдоль окон ходила маленькая девочка с испуганными глазами. Она давала большие куски снега – бесплатно. Я подал пленным несколько кусков и приказал страже немедленно напоить их. В окне югославский еврей в бараньей шапке, кричал скребущим по душе голосом: «Я хочу работать! Я не виноват! Я не хочу умереть с голоду!» Я знаю правительственные установки об обращении с пленными. Их выполнение срывают не жестокость, не мстительность, а лень. Мы народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека.
Мне рассказывали один из разительных примеров этой разбойной доброты. Зимой разведчики поймали фрица. Возили его за собой три недели – в комендантской роте. Фриц был забавный и первый в дивизии. Его кормили на убой – тройными порциями пшенной каши. Наконец встал вопрос об отправке его в штаб армии. Никому не хотелось шагать по снегу восемь километров. Фрица накормили досыта – в последний раз, а потом пристрелили в амбаре. Этот пир перед убийством есть черта глубоко национальная.
Однажды на командном пункте дивизии офицер допрашивал немца. Его знания языка строго ограничивались кратким четырехстраничным разговорником. Он беспрестанно лазил в разговорник за переводами вопросов и ответов. В это время фриц дрожал от усердия, страха, необычайного холода, а разведчики сердито колотили по снегу промерзшими валенками. Наконец офицер окончательно уткнулся в разговорник. Когда он поднял голову, перед ним никого не было. – «А куда же вы девали фрица?» – «А мы его убили, товарищ лейтенант».
Зимой, после приостановки наступления, фронт стабилизируется. На позициях воцаряется тишина. Делать нечего. Живешь – от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Через нейтральную полосу лениво переругиваются рупористы[11]11
«…лениво переругиваются рупористы». – Речь идет об одновременном вещании по обе стороны фронта «разлагателей» войск противника.
[Закрыть]. В землянках режутся в карты и рассказывают похабные анекдоты. В такое-то времечко командир дивизиона, мой знакомый, пережил необычайные приключения. В стереотрубу он заметил, что из-за дома вышел немец, – толстый, наверное, рыжий, с котелком каши в руках. Кашу есть собрался. Комдив немедленно позвонил на огневые, указал координаты, приказал израсходовать на фрица 18 снарядов. Все они разрывались «почти рядом»: «Он в окоп, я по окопу, он в траншею – я по траншее, он в дом – я по дому. Прямое попадание. Смотрю: где фриц? А он уже выскочил из-под известки, бежит, в руке котелок. Так и удрал в блиндаж. Вот, наверное, пообедал со вкусом».
Жестокость наша была слишком велика, чтобы ее можно было оправдать. Объяснить ее можно и должно. В октябре 1944 года я вещал с горы Авалы – огромного холма под Белградом, увенчанного гранитным капищем неизвестному солдату. По склонам Авалы выходили из окружения три разбитые немецкие дивизии. Мою машину прикрывали партизаны. Пока грелись аккумуляторы, я разговорился с солдатом из русской роты – бывшим сельским учителем из Западной Сибири, немолодым уже человеком с одухотворенным и бледным лицом. Вот что рассказал мне учитель о Кельнской яме:
Кёльнская яма
Нас было семьдесят тысяч пленных.
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим безмолвно и дерзновенно.
Ржавеем от голода в Кёльнской яме.
Ногтями, когтями, камнями – чем было,
Чего под рукою обильно, довольно,
Мы выскребли надпись над нашей могилой,
Письмо бойцу – разрушителю Кёльна!
«Товарищ боец, остановись над нами.
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кёльнской яме!»
О, немецкая нация, как же так!
О люди Германии, где же вы были?
Когда меднее, чем медный пятак,
Мы в Кёльнской яме от голода выли.
Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу. Ни шагу».
Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.
О, вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей, —
Смотрите, как мясо с ладоней выев,
Встречают смерть товарищи наши!
Землю роем когтями – ногтями,
Зверем воем в Кельнской яме,
Но все остается, как было, как было! —
Каша с Вами, а души с нами.*
_______
* Стихотворение «Кельнская яма» печатается в том виде, как оно представлено в рукописи 1945 года. В дальнейшем поэт придал ему новую редакцию.
Так какие же сроки нужны для того, чтобы забыть о Кельнской яме? Какие горы трупов, чтобы ее наполнить? Кто из нас, переживших первую военную зиму, забудет синенький умывальник в детском лагере, где на медных крючках немцы оставили аккуратные петельки, – здесь они вешали пионеров, первых учеников подмосковных школ. Нет, наш гнев и наша жестокость не нуждаются в оправдании. Не время говорить о праве и правде. Немцы первые ушли по ту сторону добра и зла[12]12
«…по ту сторону добра и зла». – Название знаменитой книги Ф. Ницше, оказавшего огромное влияние на формирование фашистской идеологии.
[Закрыть]. Да воздастся им за это сторицей!
Героизм
Неисповедимы пути становления героического. Пусть эту главу увенчает рассказ о том, как брали рощу «Ягодицы».
Как брали рощу «Ягодицы»
Этот рассказ запоминается с первого чтения. На Западном фронте была деревня Петушки[13]13
«На западном фронте была деревня Петушки». – Об этой деревне пишет и Эренбург: «Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не осталось… Треклятые Петушки!» («Люди, годы, жизнь». М. 1990. Т. II. С. 268).
[Закрыть] – 62 двора, одна церковь, два магазина. За эту деревню легло 30 тысяч наших солдат – цифра, почти бородинская по своему значению[14]14
«…цифра, почти бородинская по своему значению». – В Бородинском сражении стороны потеряли около 100 тысяч убитыми (русские потери составили 44 тысячи человек).
[Закрыть]. С юга Петушки прикрывались тремя лесочками: рощей «Круглая», рощей «Плоская» и рощей «Ягодицы». В роще Ягодицы и разыгрался главный бой. Однажды утром командарм пятой, отчаянный цыган Федюнинский[15]15
Федюнинский Иван Иванович (1900–1977) – генерал армии, Герой Советского Союза, в годы войны командовал рядом армий и непродолжительное время Ленинградским фронтом.
[Закрыть], прочитал очередную оперсводку, выругался и приказал комдиву: «Через два часа доложить о взятии рощи „Ягодицы“».
Комдив переадресовал приказ в полк. Пока шифровальщик корпел над телеграммой, срок сократился до 60 минут. Командир полка, помедлив чуток, позвонил комбату. Это был унылый и меланхолический человек. Вверенный ему личный состав на протяжении последних двух недель не поднимался выше цифры семьдесят, из коих пятнадцать процентов составляли писаря из строевой части, учитывавшие персональные потери. Роты уже были слиты воедино, и комбат командовал сам-четверт – поваром, ординарцем, и одним из – старшим сержантом.
Все они сидели на опушке рощи «Плоская», терли сухие листья на сигаретки и изредка постреливали в «Ягодицы». Комбат долго муслил карандаш, расписывался в прочтении. Потом проговорил задумчиво: «Через 30 минут доложить о взятии рощи „Ягодицы“». Его войско спало, утомленное неясностью положения. Растревоженные командирским каблуком, солдаты встали, потянулись, почухали тремя пятернями три затылка и приступили к выполнению приказа.
Сначала старший сержант дал артподготовку – пять выстрелов из противотанкового ружья. Вороны с криком сорвались с обкусанных осколками деревьев. Противник молчал.
Потом, набрав в легкие воздуху, войско одним махом форсировало двести шагов, отделяющие «Ягодицы» от «Плоской». На опушке с шумом выпустило воздух и прижалось к траве.
Противник молчал.
Тогда, осмелев, повар вскричал «Ура» и побежал по роще. Немцев нигде не было. Еще два дня тому назад они ушли в деревню, утащив с собой раненых и убитых. Так была взята роща «Ягодицы».
Всех трех солдат представили к званию Героя Советского Союза. И не нашлось человека, который бросил бы камень в их окровавленный огород.
* * *
Неисповедимы пути становления героического.
В 1941 году сдался в плен лейтенант – назовем его Рахимов[16]16
«…сдался в плен лейтенант – назовем его Рахимов». – Автор не называет настоящей фамилии, чтобы не подвести офицера.
[Закрыть] – казах или узбек, незадолго до войны окончивший нормальное военное училище. То было время, когда немецкие генералы решили, что они римские проконсулы[17]17
Римские проконсулы. – Проконсул – должностное лицо в Древнем Риме, наместник в провинции.
[Закрыть]. Формировались батальоны, отряды, дивизии из солдат девяти-пятнадцати национальностей Советского Союза. По смоленским колхозам шныряли конники в неформенной одежде.
В селах они громко пели: «Соловей, соловей, пташечка…», но также и «Катюшу» и другие советские песни. Из стогов на знакомые звуки выползали тощие окруженцы. Их рубали шашками.
Рахимов дал согласие командовать среднеазиатским батальоном четырех или пяти национальных рот – казахи, узбеки, таджики. К нему приставили надзирателя. Немецкого офицера. В ротах разместили по фельдфебелю. Во всем батальоне было не более пяти немцев. Полтора года туркестанцев учили, наслаивали немецкую тактику на красноармейское воспитание, кормили отличным солдатским пайком – сладким супом, консервированным сыром, – за это и проданы были голодные красноармейские души. О политике говорили мало. Между Рахимовым и командирами рот установились восточные отношения – молчаливой, незадающей вопросы покорности.
В августе 1944 года немцы выбросили батальон, дислоцировавшийся тогда в Румынии, на передовую. Шла Кишиневская битва. Фронта не было. Противники искали друг друга. Рахимов решил использовать момент для перехода на сторону Красной Армии.
Посовещавшись, командиры рот решили, что каждый возьмет на себя своего немца. В последний момент, когда до передовой оставалось три километра, – немцам перерезали глотки. Офицера убивал сам Рахимов.
Солдаты узнали о происшедшем через несколько минут. Приняли с молчаливым одобрением. Темнело; батальон двигался вдоль дороги, заметно приближаясь к линии фронта. Шли свернутыми колоннами. Впереди на конях ехал Рахимов с офицерами. Внезапно послышался русский окрик часового; Рахимов ответил: «Свои!» – и проехал вперед. С этим отзывом и в более спокойные времена переходили фронт и доходили до больших штабов.
Наконец, часовой разглядел немецкие автоматы и зеленую униформу, бросил винтовку, без памяти побежал в деревню. Был остановлен, задержан. В деревню вошли затемно. Рахимов с товарищами беспрепятственно подъехали к дому, где квартировал командир полка. Вошел. В комнате было трое: подполковник, ординарцы. За Рахимовым затолпились его черномазые офицеры.
«Товарищ подполковник, разрешите обратиться!» – «Говорите». – Подполковник поднял голову. Перед ним стоял немецкий офицер, четко держал руку под козырек.
«Разрешите обратиться, товарищ подполковник!» Тот сидел бледный, опустив голову в тарелку. Повисли руки у ординарца.
Рахимову стоило большого труда объясниться. Наконец, комполка зашевелился, позвонил генералу, а покуда предложил немедленно разоружить батальон. Приехавший генерал отменил это приказание. В ту же ночь батальон бросили в бой. Через несколько дней туркестанцы рассеялись по госпиталям, и новые красноармейские книжки нивелировали их удивительные биографии.
Самого Рахимова оставили при штабе дивизии – помощником начальника разведотделения.
Вот еще один «удивительный случай доблести и героизма».
Зимой 1942–1943 года к нам попали немецкие штабные архивы. Среди них нашли опросный лист переводчика разведотдела этой же дивизии, взятого незадолго до того в плен немцами. Это был молодой еще человек. Немецкий язык изучил в колониях на Украине. До войны работал в средней школе преподавателем. В армии не пошел дальше сержанта.








