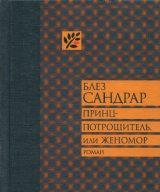
Текст книги "Принц-потрошитель, или Женомор"
Автор книги: Блез Сандрар
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Вечное «сегодня».
Сегодняшний день, исполненный глубокого смысла.
Все меняет свои пропорции, вид, угол зрения. Удаляется или приближается, скапливается, ускользает, смеется над нами, самоутверждается или доводит нас, да и себя, до полного отчаяния. То, что производится или добывается во всех пяти частях света, может оказаться на одном блюде или украшать одно платье. Мы вбираем в себя пот, пролитый кем-то ради добытого золота, за каждой трапезой, при всяком поцелуе. Все искусственно и реально. Глаза. Рука. Огромный ворох цифр, служащих обогащению одного из банков. Сексуальное напряжение заводов. Вращение колеса. Планирование крыла. Путешествие голоса по телефонному проводу. Ухо в каждом раструбе. Ориентация. Ритм. Жизнь.
Все звезды оказываются двойными, и, если разум приходит в ужас от мысли о бесконечно малом, которое только что обнаружили, как вы хотите уберечь от подобных потрясений вашу любовь?
n) ГОЛУБЫЕ ИНДЕЙЦЫ
Никогда не забуду, как мы поспешно ретировались из Нового Орлеана всего лишь через неделю после прибытия туда. Мы высадились из техасского ночного поезда, следовавшего из Сан-Антонио, чтобы присутствовать на свадьбе Латюиля.
Латюиль был нашим фактотумом.
Домашний лакей, посыльный, мастер на все руки, этот Латюиль был забавным субъектом, уж поверьте мне на слово. Он обнаружил нас в Вайоминге, подобрал прямо на платформе маленького вокзальчика около Шайенна и, представившись, предложил нам посетить Йеллоустонский национальный парк. В то утро у него на макушке красовалась фирменная кепчонка с надписью по-английски «Переводчик». Сам он был француз, уроженец, кажется, Морбиана, и откликался на имя Ноэль.
До того мы исколесили Штаты, побывав почти в каждом, и Латюиль быстро уразумел, что особенность нашего туризма заключалась в том, чтобы избегать крупных городов, слишком людных общественных зданий, а также трансконтинентальных поездов, в персонале которых значился полицейский инспектор; из всего этого он почти мгновенно умозаключил, ибо обладал ярко выраженной способностью мыслить ясно, что нас могут заинтересовать малопосещаемые области Аризоны, и предложил себя на роль нашего проводника по Юго – Западу, где мы могли бы обозревать примечательные ландшафты и посетить резервации индейцев, живущих по соседству с границей. Допускаю, что Латюиль был законченным проходимцем, однако столь же существенным его отличием являлась неумеренная болтливость. Он доказывал нам преимущества подобного путешествия с подлинным жаром, набросав грандиозное полотно полной приключений жизни в пустыне: описал в самых идиллических тонах особенности индейского быта – привычку тамошних мужчин, женщин и детей беспрестанно петь, танцевать, извлекать благозвучные мелодии из флейт самого разного вида и размера, восхвалил живописность их разваливающихся хижин на вершине песчаного бархана. Так что мы охотно поддались на его уговоры. Впрочем, чтобы нас убедить, хватило бы и меньшего. Мы с Женомором уже подустали от той жизни, которую вели. Хотя, затерявшись в этой обширной стране, мы, как обычно, странствовали без цели и оставались неузнанными, наше безделье привлекало к нам внимание, нас уже не раз донимали каверзными расспросами на корабельной палубе или в купе экспресса: как и в России, мы были вынуждены в каждой гостинице останавливаться под новыми именами и изменять внешность во всяком новом городе; подобная игра в прятки не могла продолжаться бесконечно. Вот почему предложение нашего гида нас чрезвычайно устроило. Исчезнуть. Жить на свежем воздухе. Раствориться среди необитаемых просторов. К тому же Латюиль довольно ловко и без всякого нажима дал нам понять, что он легко проведет нас через границу при помощи нескольких преданных ему приятелей. Упомянул он также о некоей шахте золотодобытчиков, верном дельце. А чуть попозже присовокупил сюда и алмазную россыпь.
Через три дня после нашей встречи мы очутились в его безраздельной власти; еще через неделю мы уже не могли без него обойтись, он стал нам необходим: готовил ночлег, занимался лошадьми, охотился, стряпал. Какой приятный попутчик – забавный, услужливый, веселый, всегда довольный, столь же преданный и деятельный, сколь трепливый!
Лошадь Женомора трусила бок о бок с его конем, я же плелся в хвосте. Так, втроем, делая короткие переходы, мы пересекали Колорадо. Ничто нас не торопило. Латюиль без умолку болтал.
Послушать его, так он знал всё и всех. Все читал. Перепробовал все ремесла, помотался по всему свету и везде имел друзей. Жил во всех городах, пересек несколько безлюдных регионов, сопровождая бригады инженерной разведки или в качестве проводника научных экспедиций. Дома он знал по номерам, горы – по высоте, детей – по дате рождения, корабли по именам, женщин по фамилиям любовников, мужчин по их недостаткам, животных по достоинствам, планеты по определениям в гороскопе, а звезды – по их влиянию на жизнь того, чье рождение они осеняли. Суеверен он был не менее какого-нибудь дикаря, хитроват, как обезьяна, современен, как кафешантанный конферансье, а от прочих предрассудков вполне свободен, одним словом – продувная бестия.
Со временем я перестал доверять ему, не понимая, чего он добивается подобными россказнями и почему однажды назвал меня «мистер англичанин», заговорщицки подмигнув. (Вправду ли он подмигнул или же я, слишком подозрительный, никак не могу забыть англичанина из Гостиного Двора – даже здесь, среди безлюдных колорадских высокогорий?)
Но по сути, мне не стоило беспокоиться. Латюиль был обыкновенным жуликом, поскольку чем дальше мы продвигались на юг, тем чаще он трепался о добыче золота и шахте, которая, как он думал, обязательно должна была нас заинтересовать. Он долдонил о ней с утра до вечера, целыми днями, пока мы тряслись в седле, и еще назойливее – на ночных стоянках. Там он вещал, подложив под голову наши седла, пока мы уплетали соленую свинину и черные бобы, покуривали толстенные южные сигары. Небо меркло. Стреноженные лошади бродили вокруг нас и щипали траву.
– Что до моей золотоносной шахты, она в Коммон-Игл, это не доезжая Биг-Стоуна, там, на границе, где меня ожидают добрые друзья, дотуда еще два дня пути, ее очень легко перейти, вот увидите: она проходит по высокогорному ущелью в таком затерянном краю, где не бывал ни один европеец. Чтобы туда добраться, надо карабкаться по крутым тропкам, и попадешь на песчаное плоскогорье, где нет никакой зелени. (Интересные насекомые водятся в тех местах – медоточивые муравьи, считается, что они усиливают любовный пыл, индейцы всегда не прочь ими полакомиться.) Та пустыня со всех сторон окружена горами из мелового песчаника, абсолютно голыми. Когда приближаешься к этим песчаным скоплениям, там, на несусветной высоте над уровнем моря, обнаруживаешь домики, потом – людей, которые при виде чужеземца приходят в неописуемый восторг. Чтобы добраться туда, имеется всего одна крутая тропка, по ней карабкаешься под резкие звуки приветствующих тебя флейт (а еще там есть такие трубы – пятнадцать футов в длину!), под это сопровождение ты поднимаешься на скалу, делая полукруг, и попадаешь к индейцам-валлатаон, которых мексиканцы зовут индейцы-хемез. У них даже католическая церковь есть – по-местному «эстуфа». Церковь заброшена и полуразрушена. Она посвящена Монтесуме. В ней всегда горит огонь, его будут поддерживать до возвращения Монтесумы, каковой, вернувшись, установит свою власть над всем миром. На стенах церкви изображены индейцы, охотящиеся на оленя или медведя, и огромная радуга, концы которой покоятся на двух стульях, а рядом встает солнце и небо расколото молнией. За церковью глазу открывается огромное пространство на юг и восток и видны три горы, которые индейцы называют Тратсичибито, Сози-Лa и Титзит-Иуа, их высота более десяти тысяч футов. У их подножия находили кости мамонта. Старый испанец-кюре, предпринявший эти раскопки, порядочный таки распутник. Вот ему-то и принадлежит та шахта, о которой речь. Он желает ее продать. Но я хочу предложить вам дельце получше. Там есть алмазная россыпь: чуть подальше, по другую сторону гор, в двух днях пути от Стинкинг-Спринг, по – индейски Тугае; их настоящий бог – солнце, они призывают ветер криком «аха, хи-и-и», а дождь вызывают, насвистывая «у-уф-ф-ф-ф, у – у-уф-ф-ф-ф!»; старый кюре из «эстуфы» однажды взял меня за руку и поведал эту тайну. Так и сказал на своем замшелом испанском: «Мне одинаково по сердцу старые черепа в могилах и золотые слитки в захоронках!». Он провел меня в узкий каньон с отвесными стенами. Там, у подножия кактусов, которыми поросло высохшее дно реки, валялись яркие черепки посуды, высоко над головой парил орел, а известняковые стены каньона всюду, куда достигал глаз, были испещрены дырами, проемами, узкими трещинами, а также иероглифическими надписями, сделанными желтой и красной охрой и еще чем-то синим. Множество индейцев, зависнув над пустотой, болтались на веревках, свитых из лиан. Они буквально кишели на ярком солнце, как рой мошкары. Сновали вверх и вниз с поразительной быстротой. Проникали в эти дыры-пещерки, трещинки, выбитые в скале углубления, осматривали все неровности, каждый выступ стены. Время от времени кто – нибудь из них появлялся оттуда с чем-то круглым в руках. На мгновение повисал, раскачиваясь на веревке и крутясь вокруг собственной оси, болтал ногами, чтобы обрести равновесие, а потом с размаху бросал вниз предмет, который держал в руке. У наших ног разлетелась на куски гигантская урна. Из нее выпала скорчившаяся мумия: почерневшие кости и золотые пластины, величиной с ладонь. Вы меня слышите? Из чистого золота, уже обработанного, без всяких примесей! Купите-ка это место, и мы разделим доход. Вы ведь понимаете, что я собираюсь вам продать не акции (я было заказал их в Денвер – Сити, сто тысяч по доллару за штуку, но нужно проделать уйму формальностей, прежде чем тебе разрешат разместить первый десяток, так что весь пакет у меня под седлом и каждую ночь я разжигаю этим огонь; а ведь надо было еще расплатиться с гравером и торговцем бумагой, ну и теперь у меня ни цента), вам-то я предлагаю не бумагу, а чистое золото, золото кюре (он все талдычил по-испански: «Оно лежит там давно, лет сто двадцать, не меньше»). Надо только с ним расплатиться. Это старый греховодник, у него где-то есть тайничок с сокровищем, я еще не знаю, где именно, надо бы ему прижечь пятки, чтобы признался, как это делают в Европе, а можно подпоить индейцев и заставить их нашего кюре повесить. У него, наверно, груза припрятано на добрую сотню ослиных поклаж. Золото попадает ко мне, и мы его делим; вас же я прошу только купить у индейцев «буррос», их «буррос бравое» – диких мулов, способных пройти где угодно, они могут камни жрать или даже стволы деревьев на городском бульваре, уж поверьте, это добрая скотина, клянусь Охос – Калентес; мы незаметно проберемся в Мексику, а я, натурально, оставлю с носом приятелей, которые будут поджидать меня чуть ниже, восточнее: ведь Охос-Калентес-то на западе. Обойдем лесистые участки, а дальше двинемся по луговым склонам (там попадаются ямины с водой, окруженные скудной зеленью). Будет тяжко, но не беспокойтесь: я приведу вас в тихую гавань. На корабль мы сядем в Гуаймасе. Там надо только проехать чуток на поезде (я работал в тех краях на укладке рельсов, поэтому места знаю). От Гуаймаса до Масатлана регулярно ходит каботажное судно.
В Коммон-Игл мы прибыли в день чествования святого Петра. Индейцы, хотя и отошли от католической римской церкви, праздник Сан-Педро справляют до сих пор: устроили конные скачки по улочкам селения. Женщины расположились на крышах и выплескивали оттуда воду на головы тех, кто оказался в хвосте группы.
Старый испанец-кюре давно умер, его похоронили три года назад. Все это время индейцы-валлатаон не видели белого человека. Мы провели там почти полгода: я, совершенно разбитый, брюзжащий, коллекционировал черепки древней посуды в ущелье-кладбище, за неимением других занятий составляя словарь языка хемез; Женомор вскрывал с помощью загнутой иголки брюшко медоносных муравьев и делился своей добычей с маленькими индианками, едва достигшими пубертации, которые громко ссорились из-за каждого муравья. Мед из насекомых выдавливался только с внутренностями, но они и тогда продолжали шевелить лапками и головой; Латюиль шнырял взад-вперед, рыл ямки и траншеи, переворачивал все в церкви вверх дном, ночью вместе со слепым старейшиной и прокаженным подростком затевал разные магические действа в тщетной надежде, что они помогут ему разыскать сокровище, схороненное старым кюре.
Мы привезли с собой изрядный запас водки на двадцати вьючных животных: шестьдесят пятигаллонных бутылей в оплетке. Латюиль не поскупился. Со дня нашего прибытия спиртное потекло рекой, мужчины, женщины, дети предавались настоящим оргиям; и вот теперь, чтобы получить хоть капельку огненной воды, они растаскивали по камешку источенные временем стены «эстуфы». Иногда кто – нибудь выливал немного водки на вечный огонь; тогда языки пламени лизали камни очага, те самые три священных камня, последние остатки старинного жертвенника Монтесумы, и вся деревня принималась неистово танцевать вокруг них. Но несмотря на крики, танцы, песни, призывающие на помощь высшие силы, на звуки магических флейт, еще более пьянящие, нежели водка, невзирая на адскую кухню старого слепца и пророческие телодвижения юного танцора-прокаженного, на все эти колдовские действа – золота никто так и не обнаружил.
В деревне начался настоящий голод. Индейцы стали проявлять недовольство. Сап косил наших мулов одного за другим. Как-то утром, сразу после того, как закончились запасы водки, мы снялись с лагеря.
Это было бегство.
Мы шли по острой кромке кратеров-«кучильяс» и карабкались по крутым тропкам; наши лошади продвигались вперед с большим трудом, под ногами шевелились зыбкие песчаные осыпи, забивая узкие проходы и заполняя русла высохших потоков. Прокладывая себе дорогу по непроходимым ущельям, мы проникали в долины, выбитые в камне, где все было источено следами размывов. Там высились целые башни из песка и глины. Огромное пространство, разъеденное эрозией, где земля, оставшись без воды, вся в трещинах и разрывах, походила на кружево. Большие камни вздымались вертикально, те же, что лежали плашмя, ненадежно покоились на узких грядах щебня. Гирлянды остроконечных выступов, сталактиты, обсидиановые крючья нависали над нашими головами, лошади спотыкались на острых каменных ребрах и иглах, землю усеивало что-то вроде зубьев пилы. Затем тропа вывела нас в пыльную, иссушенную саванну, где только редкие юкки прицеливались заостренными кинжальными листьями в небо.
Индейцы-валлатаон неотступно шли по нашему следу три недели, они осыпали нас градом мелких стрел, выпущенных из духовых трубок, и все эти три недели нас изводили их флейты. Да, именно флейты. Они шепелявили, хныкали, верещали за нашими спинами, рычали в тесных ущельях и горловинах, колотились эхом в стены вулканических цирков; эти звуки гнались, настигали нас, дробясь на множество режущих осколков. Впереди и сзади, справа и слева – вокруг кишели тысячи сорвавшихся с цепи голосов, они терзали нас, угрожая, не оставляя ни минуты покоя ни днем, ни ночью. Среди всего этого песка и каменных осыпей нам чудилось, будто каждый наш шаг поднимал целую бурю звуков, этакий трескучий смерч, готовый обрушиться на нас, превратившись в проклятия, плаксивые завывания, угрожающие выкрики, оскорбления, срывающиеся в единый обезумевший рык. Одни флейты били по нам разрывными, другие рассыпались шрапнелью, заставляя оглядываться. Самые резкие до живого мяса буравили нам уши, самые отрывистые расстреливали нас в упор, вынуждая пятиться назад. От некоторых трелей начинала кружиться голова. Так можно было сойти с ума. Мы сбились с пути, стали безнадежно кружить. Наши замученные лошадки плелись неведомо куда. Мы сами тоже постепенно теряли голову. Нас душила жажда, от солнца, бившего нам в темень, словно гонг, вопил каждый камешек этих безлюдных мест, и все это отзывалось в бездонности саванн гулом тамтама.
Тем не менее мы продвигались вперед, превозмогая шум крови в висках, не осмеливаясь сделать ни единого выстрела, побросав весь багаж и носильные вещи, ящики, вьючную скотину – всё, вплоть до последней фляги. Поскольку мы то ходили по кругу, то наступали или отступали, забирались повыше и спускались вниз, мы перестали понимать, где выход из бесконечных ущелий, переходов, перевалов, перешейков, уступов и долин, гребней и провалов. Наши животные подохли, и мы продолжали бегство на своих двоих, высохшие, скрюченные, то пробирались все дальше под отвесными лучами полуденного солнца, то согбенно плелись под громадным лунным диском, шарахаясь от зиявших ямин и пугаясь каждой тени.
Наконец преследователи отстали, дойдя до тех черных камней, что обозначали границы владений племени валлатаон. Мы отходили кружным путем, огибая равнину, затянутую дымкой тяжелых серных испарений. Каждую сотню шагов мы спугивали сову. Последние придыхания флейт еще доходили до нас, словно отдаленный рокот вулкана. Через одиннадцать дней мы добрались до Эль-Пасо, Эль-Пасодель-Норте, где сели в поезд до Сан-Антонио.
Именно в Сан-Антонио, что в Техасе, Латюиль в первый раз заговорил о своей женитьбе.
Возлежа в креслах-качалках в тени увитой какими-то лианами беседки, без конца прикладываясь к бутылке виски, спокойные, идущие на поправку и даже чуть располневшие, мы созерцали городок; он раскинулся внизу, так что на его жизнь мы смотрели поверх своих сапог. Там, меж ванильных зарослей, сновали юркие пеоны и «вакейро», топали коренастые ковбои-голландцы, шествовали матроны в щеголеватых платьях – рукава буфами, семенили домохозяйки, бегали белокурые дети, и солнце слегка золотило их выгоревшие вихры. Улицы тонули в пыли, и нас донимали целые рои мух (а ночью у фонаря кружились сонмы мошкары). И вот, размахивая мухобойкой из лошадиного хвоста, Латюиль завел с нами речь о Доротее.
– Я познакомился с нею, возвратясь из Новой Зеландии, – изливался он. – Сразу после кругосветки на борту китобойного судна «Капитан Оуэн» перебрался на «Дабл-Кресченс – Сити», он плыл к Новому Орлеану, возвращаясь в порт приписки. Там мы разгружались. Я, как только ступил на сушу, стал проводить время в барах и тавернах Банкс-Аркейдс, денежки так и текли сквозь пальцы. Скоро в голове у меня совсем помутилось. Пол в салуне качало, как при мертвой зыби. Он плясал под ногами, словно палуба моего китобойца в непогоду, а здоровенный стол посередине, уставленный всякими блюдами и салатницами, потихоньку надвигался на меня, точно айсберг. Сам же я вроде бы не двигался. Только заказал себе порцию зеленой черепахи с дикой редькой, чтобы в мозгах хоть немного прояснилось, и всяких слизняков, что собирают дождливыми деньками в подлесках Макарских островов. Косточки у меня еще побаливали, поясницу прихватило, а суставы скрипели, будто якорная лебедка. Мне позарез надо было встать на прикол и хорошенько расслабиться, чтобы каркас пришел в норму. Киты шли хорошо, я только что получил жалованье плюс долю, положенную стартему матросу, и надбавку за удачно загарпуненную добычу. Будущее рисовалось в розовом свете, бутылки в глазах двоились, и свет от них расходился заманчивой радугой, так что выходить на свежий воздух никакого желания не было. В салуне тепло, вещмешок лежит у моей ноги, как верный пес. А снаружи, скажу я вам, льет так, как может лить только в Новом Орлеане. Вот я и бросил якорь в «Красном осле», спустил все паруса.
А за год до того, как раз на Святого Иоанна, случилось вот что.
Несколько матросов решили пострелять из электрического карабина. Кто-то бросил монетку в автомат, зажглись разноцветные лампочки, забили крыльями чучела маленьких птичек, собираясь запеть хором, тут-то передо мной и возникла Доротея. Она стояла по другую сторону стола. Я отчетливо видел ее руки: все пальцы были унизаны перстнями. Камни в них сверкали, точно капли спиртного, а лицо выступало из мрака наподобие луны в туманной дымке. Она принесла мне блюдо, которое я заказал, от еды пахнуло густым ароматом темного и очень пряного Кюрасао. Боже, как это было хорошо! Я тотчас захотел на ней жениться.
Понимаете ли, вот все мы много повидали, везде побывали, знаем, как живут тут и там, мы все одинаково хотим где-то осесть, найти маленькую спокойную норку. Сидеть под апельсиновым деревом у маленького белого домика с видом на море, и чтоб рядом пригожая чистенькая девица, которая вытирает пыль с мебели и дает по десять раз на дню опрокинуть себя в кроватку, а в промежутках стряпает какую – нибудь жратву… Нет, черт побери, я не могу жить без всяких этих закусочек, которые только тебя и ждут, потомившись на медленном огне… а еще замечательно, когда ты в одной рубашке выбежишь в садик отщипнуть листик – другой шалфея, а то рубишь хворост на заднем дворе или с трубкой в зубах ходишь по рынку, ведь именно мужчина должен выбирать добрый кусок мяса для жаркого, или закатываешь благоверной хорошую взбучку, будто какому – нибудь юнге, ежели дом как следует не прибран… Сам знаю, что это только мечта, ведь стоит малость попривыкнуть, и скука начнет разъедать нутро; как только осядешь, сразу захочется натянуть старые мокроступы, прошлепавшие по всему земному шарику, опять соскучишься по треклятой шамовке из камбуза, по рубахам без пуговицы у воротника… и рад будешь тянуть лямку под палящим солнцем, с высунутым от жары языком, проклиная эту грязную шлюху-жизнь, и засыпать в неведомых городах, подыхая от нищеты, и где-нибудь там повстречать такого же доходягу, которому все обрыдло, потому что он истосковался по морю и тоже готов куда-то ринуться сломя голову, плыть куда придется, и все ему нипочем, а от него уже несет козлом, такой он затертый, но что вы хотите! На этот раз я уперся! Уперся, и всё тут! Девица была недурна. Я губы-то и распустил. А «дринки» шли один за другим. И в карманах еще было полно. А маленькие механические птички всё пели, не умолкая. Бар ходил ходуном, слишком уж я намаялся на той поганой китобойной посудине.
Доротея была дочкой хозяина «Красного осла», забегаловки, принадлежащей старику Оппхоффу, кривому на один глаз, не слишком сговорчивому хрычу. Поскольку она уже принесла в подоле двух или трех младенцев, папаша бесперечь награждал ее тумаками, – может, именно от этого у нее телеса стали такими крепкими: зад выпирал столь зазывно, что я не мог удержаться и то и дело щупал его три недели подряд. Когда старик давал волю рукам, я говорил себе: «Ну, дерись, дерись, скоро придет моя очередь». Меня это очень веселило – я же знал, что ночью Доротея ляжет в мою кровать. Но я так и не понял, как она ускользала от догляда бранчливого папаши, надо думать, ей это было не впервой, приспособилась. Впрочем, мне наплевать: чертовка уже запала мне в душу, я жениться на ней хотел, вот! А как она хорошо готовила! Чем больше Доротея отнекивалась, тем настойчивее я вел дело к венцу, ведь я бретонец, для меня одно удовольствие – бистро к рукам прибрать.
А теперь слушайте хорошенько: дальнейшее касается и вас тоже.
…Тогда как раз задул южный ветер, горячий суховей. На небе скопилось полным-полно всклокоченных облаков. Оттуда сыпалась какая-то желтая пыль и покрывала всё подряд, от нее слезились глаза и дохли мухи вместе с мошкарой; жара стояла убийственная. Все тело чесалось, кожу покрывали маленькие белые нарывчики, наши качалки скрипели, как швейные машинки. От таких всполохов зноя на эвкалиптах жухнет листва.
Латюиль встал, чтобы наполнить наши стаканы, выудил из миски с пикулями великолепный стручок ямайского перца и, жуя его, с набитым ртом продолжил:
– Ну да, все дальнейшее – по вашей части. Однажды ночью Доротея мне и говорит: «Послушай, Ноэльчик, дело не в том, хочу я тебя или нет, мне с тобой хорошо. Но с моим стариком сладу нет, к тому же через полгода у тебя кончатся деньги. А значит, теперь настаивать бесполезно: мой старпер упрется рогом. И так мне из-за тебя одни тумаки достаются. Вот и сейчас, смотри, вся в синяках, но дело-то не в этом: я тебя очень люблю, потому надо пошевелить мозгами. Ты всего навидался, обо всем в курсе, такой ушлый мужик, не пора ли тебе прошвырнуться по Штатам? Есть чудненькое дельце, можно урвать сотни, а то и тысячи. Ты что, газет не читаешь? Знаешь, что происходит в России? Там какие-то великие князья украли бриллианты короны и сбежали, теперь за их головы дают хорошую цену. Сдается мне, они скрываются где-то у нас, в глубинке. Все детективы прямо на ушах стоят. Тут очень просто зашибить тысячи долларов, а ты – парень продувной, у тебя наверняка получится, да и у папаши от этого клиентов прибавится. Найди-ка их, у меня сведения верные. Как, ты ничего еще не приметил? А я-то думала, мимо тебя муха не пролетит, ну ты меня разочаровал. Стало быть, ты еще не просек, что у папаши шашни с сыскарями? Знаешь, дорогой, мы с тобой поженимся, как только дело будет сделано». Вот так я пустился в дорогу, а тут и на вас наткнулся, господа. Видите ли, Доротея – тонкая штучка.
Услышав это совершенно неожиданное и не менее сенсационное сообщение, повергнувшее меня в ступор, Женомор разразился хохотом. Его так скрутило от смеха, что он чуть не опрокинулся в качалке… Ну, Латюиль!.. Ну, старый пес! У него всегда припасено что-нибудь на закуску! Вот так шутник! Как это ему удается? Вечно какую-нибудь бредятину изобретет! Ну и остолоп! Значит, вот о чем он думал, когда потащил нас к своей золотой шахте…
– Ты, видно, захотел весь барыш оставить себе? Для того и заманивал к индейцам, чтобы они нас укокошили, а тебе бы дали за это премию? Послушай, милок, да ты в своем ли уме? Ты бы сперва хорошенько поглядел на нас. Разве мы похожи на великих князей? И что это за бредни насчет России? Это все сирокко, у тебя от него мозги набекрень съехали. Тоже мне придурок нашелся. Видать, ты большой шалун!
– Господин, ну же, господин Женомор, и вы, господин англичанин, – лепетал сраженный наповал Латюиль. – Умоляю, послушайте, что скажу: ну, конечно, я обознался, виноват! Попал пальцем в небо! А всё те статейки из газет, я больше сотни вырезок видел у старого Оппхоффа. Там были еще и приметы, и фото – не ваши, нет… Но когда ты влюблен, ты как собака, что налакалась горячего: нюх отшибает начисто. Вы мне поверьте, после истории с индейцами я все делал по-честному, уж в этом могу поклясться. А теперь хорошо бы вам поехать со мной в Новый Орлеан. Я приглашаю вас на свадьбу, будете у меня свидетелями – тогда у старого зануды совсем никаких козырей не останется, да к тому же, надеюсь, вы поможете мне обустроиться: я уже видел, как вы щедры, господин Женомор, и, хотя мою плату мы не обговаривали, я вам всегда служил очень, очень верно, всё делал, и в конце концов, ведь я устроил вам совсем неплохое путешествие. А как Доротея обалдеет, если вы явитесь! Я предстану перед ней в компании не одного даже, а целых двух князей, двоих приятелей, дружков…
Вечером того же дня мы сели в поезд.
«Красный осел» и впрямь оказался неплохой забегаловкой, там было вполне терпимо, а кухня так и вообще отличная. Старый Оппхофф вел себя гораздо учтивее, чем мы ожидали. Касательно Доротеи, в ней действительно что-то было (через несколько лет она замелькала в каких-то американских комедиях; настоящей звездой не стала, но тем не менее фигурировала там на вполне приличных ролях и свои достоинства умела выставить напоказ). Женомор провел у нее ночку-другую.
А вот Латюиль куда-то исчез.
Я же не покидал бара, терзаемый недоверием, а поскольку Женомор как ни в чем не бывало лез волку прямо в пасть, я поглядывал за клиентами. В «Красном осле» всегда ошивалось два-три типчика; один, звали его Боб, проводил там почти столько же времени, сколько я, а еще был здоровенный малый, метис по имени Ральф, он частенько к Бобу подсаживался. Но ничего подозрительного я не обнаружил. Ральф, как только входил, шел прямо к столу Боба и там располагался. Сразу заказывал два больших стакана и приготовлял себе убийственное пойло: по пинте имбирного пива, джина и портвейна. Уплетал две горячие колбаски, выбирая, какие побольше, и высасывал вторую порцию спиртного. Затем Ральф рассеянным жестом сдергивал фуражку, ставил локти на стол, обхватывал голову руками и засыпал мертвецким сном. Что до Боба, он, попыхивая своей носогрейкой, сидел боком к спинке стула, упершись головой в стену и уставясь перед собой расширенными зрачками неподвижных глаз.
Никогда я не видел, чтобы они перекинулись хоть парой слов. Платил всегда Боб.
Однажды ночью я поднялся в свой номер, большую желтую комнату с двумя узкими железными кроватями и щербатым ночным горшком посредине комнаты, и уже принялся раздеваться, когда вдруг дверь высадили плечом и ко мне бросился с объятьями Латюиль.
– Решено! Решено и подписано! – завопил он. – Свадьба завтра, старик дал согласие!
И закружился по комнате в бешеной джиге.
Назавтра мы с Женомором купили два смокинга, чтобы отправиться в качестве свидетелей на свадьбу. Позже я узнал, что Женомор дал жениху десять тысяч долларов.
Вечером в «Красном осле» закатили праздник. На нем были все: Ральф, Боб и другие завсегдатаи. Бар всячески украсили, развесили электрические гирлянды, поставили граммофон перед дверью и танцевали на набережной. Народу собралось немало: соседи, прохожие, негры и негритянки – всем хотелось поглазеть. Латюиль был на три четверти пьян, а Женомор как с цепи сорвался: он отплясывал с Доротеей, облапив невесту так, словно то был Олимпио. Я же держался чуть в сторонке, поскольку никогда не умел танцевать. Ужасно хотелось спать.
И вдруг завязалась жуткая потасовка. Я вскочил, перевернув стол. Ральф и Боб набросились на Женомора, схватили его за руки.
Раздалось два выстрела.
Стрелял Латюиль. У него в каждой руке было по револьверу, и он вопил:
– Морик, Морик, и ты, англичанин, живо сматывайтесь! Убирайтесь отсюда! Бегите прямо по набережной, через сто метров за газометром прыгайте в лодку, я там бу…
Я увернулся от веревки старика Оппхоффа, которой он попытался притянуть меня к столбу. Женомор меж тем дал деру. Я тоже пустился бежать, мчался за ним что было сил. Мы прыгнули в моторную лодку, а секунду спустя туда свалился Латюиль и оттолкнул суденышко от причала. По берегу сновали тени. Раздавались ругань и пальба. Затем мы услышали женский голос. Протяжный такой вой, словно корова замычала.
Мы выбрались из освещенного места в полную темень. Лодка скользила по воде. Латюиль запустил мотор.







