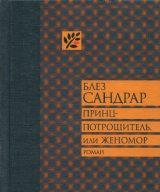
Текст книги "Принц-потрошитель, или Женомор"
Автор книги: Блез Сандрар
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
i) ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ
Женомор был безутешен. Прошло три года, а занятия, по его наблюдениям, не дали ничего. Он пожелал изучать музыку, думая приблизиться к первобытному пониманию ритма и овладеть ключом к тайне своей натуры, дающим ему право на существование.
Но музыка, которой занимаются (и особенно та, какой обучают) в высшей школе, сводится всего лишь к набору навыков и опытных знаний, наглядной теории того, что современная техника и механика позволяют осуществить в гораздо больших масштабах. Сложнейшие машины и симфонии Бетховена приводятся в действие одними и теми же законами, повинуются тем же арифметическим прогрессиям, ими управляет жажда симметрии, разлагающая их движение в серии бесконечно малых единиц, довольно плохо соотносящихся с реальным положением вещей, но тем не менее имеющих хождение. Басовая партия соответствует такому механическому узлу или устройству, которое, будучи повторено в бесчисленном множестве экземпляров, дает возможность произвести с минимумом усилий (то есть износа) максимум эстетики (полезной работы). Результатом этого стало построение парадоксального, искусственного, полного условностей мира, который можно собрать из частей и разобрать на части с помощью разума (вот параллель из области динамики: ведь потрудился же некий венский физик начертить все геометрические фигуры, проецируемые Пятой симфонией. И совсем свежий пример: недаром удалось какому-то английскому ученишке перевести звуковые колебания той же симфонии в цветовые! Подобный параллелизм в операциях применим к любым так называемым видам искусства, а значит – к любой эстетике. Тригонометрия учит нас, что, скажем, Венеру Милосскую можно свести к серии математических формул, а потому, если даже ее мраморную статую в Лувре и уничтожить, то, проявив некоторое терпение, можно ее восстановить с помощью этих же формул, притом бесконечное число раз, абсолютно такую же: все формы, линии, объемы, текстуру камня, потертости, вес и эстетический восторг включительно!). Первородный ритм вступит в действие, только если некая машина, своего рода вечный двигатель, работающий без энергетической подпитки, примется производить полезную работу уже с самого момента ее (машины) постройки. Вот почему непосредственное, сколь возможно подробное изучение музыкальной партитуры никогда не позволит открыть тот род изначального содрогания, который является перводвигателем любого творчества, зависящим по своей внутренней конституции от общего состояния автора, его наследственных свойств, физиологии, структуры мозга, быстроты рефлексов, от его эротизма и всего прочего. Не существует науки о человеке постольку, поскольку сам человек – главный носитель ритма, а последний не может быть представлен с помощью измерений. Только некоторые редкие индивиды, коих обычно именуют «с цепи сорвавшимися субъектами», могут получить об этом сколь-нибудь отчетливое представление, ибо прообраз подобного типа существования можно обнаружить в нарушениях их сексуальной ориентации. Вот почему Женомор напрасно изощрял свой ум в распознавании внешних причин своей неспособности жить среди смертных и тщился найти объективное подтверждение своего права оставаться таким, каков он есть. Музыка, подобно любой другой науке, – нечто искромсанное. Профессор Хуго Риман снабдил филологическим комментарием каждую ноту. С помощью сравнительного изучения музыкальных инструментов он реконструировал этимологию каждого звука, всякий раз восходя непосредственно к источнику вибрации. Звучность, акцентуация и тембр всегда становились модальностью, физическими знаками движения и никогда не приоткрывали собственной изначальной структуры и типа выразительности, духовной и – конкретнее – дыхательной сущности, которые развертывают пустое звучание в нечто, наполненное смыслом. В начале был ритм, и впоследствии именно он обрел телесность. Лишь символы, притом наиболее величественные, темные, а отсюда и самые древние, самые подлинные – то, что составляет сердцевину религиозного культа, – только они могли бы ответить упованиям Женомора, не откомментированные откровения грамматиста от музыки были здесь без толку. Но Женомор ни в малейшей степени не был наделен религиозным чувством. Простой ли атавизм причиной тому или гордыня, но я не слышал от него упоминаний о Боге. Только раз он произнес его имя, а то я уж мог бы и подумать, что оно ему неизвестно. Дело происходило на тротуаре перед общественным писсуаром. Женомор случайно наступил на кучу дерьма. Он побледнел и, вцепившись мне в руку, пробормотал:
– Вот черт, я только что наступил на лик Господень!
И принялся топать ногой, чтобы на обуви не осталось ни частицы.
Женомор впал в уныние. Он более не мог прочесть ни одной книги. Наука оказалась всего лишь родом истории, суеверно переиначенной в духе злобы последнего дня. Ученая терминология бездуховна, в ней нет соли. Тяжеловесные тома лишены души, они несут бремя отчаянья…
Женомор ускользает от меня. Я не вижу его целыми днями. А в перенаселенных кварталах городского центра распространяется неясный слух о маньяке, что прячется в темных закоулках, в подъездах домов, имеющих два выхода. Он набрасывается на женщин, выпускает им кишки и убегает. Выбирает преимущественно молодых, даже девочек. Каждый день его жертвы множатся, подчас он забредает и в кварталы предместий. Берлин взбудоражен. Население перепугано. Слухи обрастают все более точными деталями. Газеты посвящают целые колонки перечислению жертв маньяка, которого уже окрестили Джеком Потрошителем. Даются приметы. За его голову назначена награда. Силуэт убийцы, встающий из газетных описаний, представляется мне все более знакомым. Это Женомор. Однажды вечером я припираю его к стенке. Он сознается во всем. Значит, пора выбрать другое пристанище и подыскать для его неистовств иную отдушину. Я сажаю его в поезд. Через три дня мы уже выходим из вагона в Москве.
j) ПЕРВЫЕ ДНИ В РОССИИ
Конец сентября 1904 года.
Москва прекрасна, словно неаполитанская мадонна. В лазурное зеркало небес, любуясь собой, уставились тысячи и тысячи граненых башен, башенок, колоколен, они зевают, потягиваются, пружинят грудь или тяжело оседают, впечатываясь в глинистую землю, а то выпрастываются оттуда, подобные многоцветным сталактитам в кипении всей этой световой лапши. По мостовым из круглых шишаков днем и ночью с грохотом и звоном катятся сотни тысяч фиакров. Узкие улочки, прямолинейные или кривые, с трудом протискиваются между красных, голубых, шафранных, охряных фасадов и вдруг неожиданно раздаются вширь перед златоглавым собором, башни которого раскручивают, словно волчок, кружащиеся вокруг них стаи крикливых ворон. Все кряхтит, все горланит – кривобокий водонос и великан-татарин, торгующий ветхим тряпьем. Из магазинчиков и часовен толпа выплескивается на мостовую. Маленькие старушки продают крымские яблочки, мелкие и гладкие, как чернильные орешки. Бородатый жандарм опирается на гигантскую саблю. Под ногами везде разбросаны скорлупки каштанов и чашечки, похожие на желудевые, а в них – маленькие похрустывающие плодики ясеня. В воздухе стоит пыль, пахнущая навозом и соломой, она чуть поблескивает, словно рыжеватые пучочки соломинок, на которых настоена водка. По площадям среди шумного колесного скрипа кружат трамваи вокруг пирамид того, что здесь называют «arbouses», [7]7
Arbouse (по-французски – «земляника») звучит на слух так же, как русское «арбуз».
[Закрыть]хотя эти блестящие шары растут не на земляничных кустах, а на арбузных бахчах. От медово-рыжих лошадиных шкур едко припахивает тухлой рыбой. А через два дня – снегопад. Все стирается, гаснет, глохнет. Бесшумно скользят сани. Хлопья падают белыми перышками, а все крыши в дымках. В домах затыкают любую щелочку. Башни и церкви скромно приседают. Колокольни звонят как бы из-под земли, и кажется, что все они – деревянные. Уличная толпа редеет, она теперь совсем другая – торопливая, стремительная, семенящая. Что ни прохожий – заводная игрушка. Мороз действует подобно смолистой смазке. От него все жирно посверкивает. А во рту появляется привкус скипидара. Легкие становятся вязкими, и все время ужасно хочется есть. Куда ни зайдешь, столы ломятся от обилия блюд: капустные паштеты, пахучие, с золотистой корочкой, бульоны с лимоном, заправленные сметаной, закуски всех видов и форм, на любой вкус, копченая рыба, жареное мясо, рябчики под кисло-сладким соусом, разная дичь, фрукты, бутылки с наливками, черный хлеб, хлеб серый солдатский и калач – истинный цветок из пшеничной муки.
Русско-японская война близилась к завершению, и кое-где уже потрескивало, занимался пожар революции.
Так, у булочной Филиппова мы с Женомором увидели первые пятна крови, они, словно пучки одуванчиков, пробились сквозь снежный наст прямо у губернаторской резиденции. Большущая лужа винного цвета в центре города, багровый развод, в котором таял снег. Мы присутствовали и при первых стычках с полицией: довольно далеко от городского центра, в рабочем квартале, чье название я запамятовал, но было это позади железнодорожных путей на Смоленск. Там казаки и полиция подбирали раненых студентов.
А вскоре и революция разразилась.
Мы приняли в ней самое активное участие. Связались с комитетами в Женеве и Цюрихе, в Лондоне и Париже. Женомор предоставил громадные средства в распоряжение главной кассы партии эсэров. Еще мы поддерживали русских и международных анархистов. Разместили подпольные типографии в Польше, Литве и Бессарабии. Тюки с газетами, брошюрами, листовками посылались по всем направлениям; мы организовали их массовую раздачу на заводах, в портах, казармах, привлекая для этого юных евреев-бундовцев, которых содержали тоже на свои средства. Эти издания потешались над всеобщим голосованием и ополчились на свободу и братство, провозглашая социальную революцию и непримиримую классовую борьбу. С научной доказательностью утверждали правомочность экспроприации каждого в любых формах (отъем денег, воровство, убийство), а также необходимость социального и экономического террора – саботажа на заводах, разграбления общественного достояния, разрушения железных дорог и портов. А еще в этих изданиях сообщались формулы изготовления начинки для бомб и детальные инструкции по конструированию адских машин. В Финляндии разместили оружейные склады. Среди войск, расквартированных под Мукденом, Харбином и вдоль Транссибирской магистрали, велась бешеная агитация. Бунты вспыхивали то тут, то там. Во всех городах необъятной страны совершались покушения, людские толпы ошалели, в индустриальных центрах затевались стачки, а на юго-западе начались опустошительные погромы. Но и реакция, кошмарная в своей безжалостности, зрела везде.
И пошла пляска.
Самые горячие дела выпали на нашу долю.
Не буду здесь подробно излагать историю этого революционного движения, которое продлилось с 1904 (покушение на Плеве) по 1908 год (роспуск Третьей думы), ни приводить бессчетные примеры убийств, в том числе политических, смут, восстаний, волнений и беспорядков, ссылаться на кровавые анналы реакции, повествовать о расстрелах из пулеметов, массовых повешениях, депортациях, арестах, заключениях под стражу, не стану ни освещать все случаи террора, вспышки коллективного безумия при дворе, в простом народе, среди буржуазии, ни рассказывать, почему самые ярые адепты чистейшей Марии Спиридоновой или героического лейтенанта Шмидта утратили революционные идеалы социального обновления и превратились в предводителей банд, состоявших из беглых уголовников, ни объяснять, каким образом наиболее яркие представители молодой интеллигенции пополнили, укрепили и закалили до зубов вооруженную армию преступности. Все эти события еще не изгладились из памяти большей части читающей публики и отныне стали достоянием Истории. Если я упоминаю о некоторых трагических эпизодах и рисую их с лубочной подробностью, то лишь для того, чтобы на их фоне красочнее обрисовать эволюцию Женомора и лучше выявить, так сказать, русскую составляющую его обновленной натуры.
Это было время, когда зашаталась Святая Русь, когда царский трон покачнулся и осел, а сто двадцать миллионов, населявших обширную империю, убедились, что след, оставленный этими событиями в их судьбе, отныне неизгладим. Самоубийства и буйные помешательства стали делом обыденным. Устои рушились, институции разваливались, шатались семейные традиции, угасали представления о чести. Бродильное начало разложения, которое ранее принимали за мистицизм, пропитало все слои общества. Гимназисты обоего пола, еще не достигшие пятнадцати, уже вовсю предавались сатанизму, проститутки объединялись в профессиональные союзы, требуя главным образом уважения в обществе, неграмотные солдаты принимались философствовать, а их командиры завели моду критиковать приказы военного начальства. В деревнях усилилось падение нравов, у старого ствола традиционных верований внезапно проклюнулись новые отростки, пустившие крепкие корни. Истеричные попы и монахи ни с того ни с сего вырывались из народной толщи наверх и штурмовали царский двор, целые деревни сбегались в полуголом виде на какие-то сходки, чтобы предаться коллективному самобичеванию; среди населения, являвшего собой крайне сложную этническую смесь, распространялись невообразимые азиатские суеверия, принимая совершенно чудовищные, отвратительные формы. Так, некий мещанин, чтобы приворожить и вернее привязать к себе легкомысленную горничную, пил настой из ее менструальных выделений. Императрица мазала себе руки собачьими испражнениями и потом терла ими широкий лоб царевича-гидроцефала. Мужчины становились педерастами, женщины – лесбиянками, все женатые пары предавались платонической любви. Жажда наслаждений стала поистине непреодолимой, на фасадах городских зданий пламенеющими нарывами вспухали двери сотен баров, танцзалов, ночных клубов. В отдельных кабинетах и укромных гостиных знаменитых ресторанов – у Палкина, на Островах, у Яра, на Мойке – расцвеченные всенародными плевками министры соседствовали с бритоголовыми революционерами и патлатыми студиозусами, и все это блевало шампанским среди осколков битой посуды и изнасилованных женщин.
Вокруг гремела перестрелка, аккомпанируя глухим разрывам бомб.
А пирующие продолжали с упоением веселиться.
Какое поле для наблюдений и экспериментов предоставляется ученому! С обеих сторон баррикад – неслыханные акты героизма и садизма. В тюремном застенке, в подземельях каземата, в комнате, полной заговорщиков, в рабочих бараках, на приемах в Царском Селе и на заседаниях Военного совета – везде мы видели одних монстров, ибо как еще назвать доведенные до неистовства, издерганные существа со сдвинутой психикой, с неподвижными идеями, живущие только позавчерашним днем, – всех этих профессиональных террористов, попов, бывших по совместительству провокаторами, юных аристократов, чья благородная кровь бросилась им в голову, неопытных и неуклюжих палачей, жестоко окитаевшихся офицеров полиции, с перепугу окосевших вконец, губернаторов с физиономиями, бумажно-бледными от бессонной лихорадки и сознания ответственности, принцев с оглохшей совестью и великих князьях, доведенных страхом до полного умоисступления. И везде – психи, психи и психи с трясущимися от страха руками, потерявшие разум, готовые предать всё и вся, подозрительные, вспыльчивые, закладывающие друг друга мазохисты, убийцы и грабители. И не отвечающие за себя буйные помешанные. Какая клиническая картина синдромов, какое поле для экспериментов! И если я ничем здесь не воспользовался, то только потому, что находился под безоговорочным влиянием Женомора и тех передряг, в какие по его воле попадал, а их были сотни, притом разнообразнейшего свойства, так что благодаря ему я вел очень активную жизнь, полную прямого действия, того самого действия, что так непереносимо для интеллектуала, но при всем том профессиональное хладнокровие ни разу не покидало меня, равно как и внимательное любопытство к происходящему. Впрочем, поскольку я оставался безраздельно верен Женомору, зрелища его персоны для меня было достаточно.
k) МАША
Женомор уже пожертвовал значительнейшую часть своего наследства революционному движению. Тот минимум денег, который мы еще были в состоянии добыть, поглощали насущные нужды партии. Мы были то в Варшаве, то в Лодзи, Белостоке, Киеве или Одессе. Квартировали у преданных сторонников партии, почти всегда обитавших в гетто этих городов. Нам случалось работать в шахтах, на заводах, а когда денежные взносы из заграницы не поступали, мы подворовывали в порту или на железнодорожных складах. Совершив очередное покушение, мы обычно укрывались в деревне. Там нас месяцами прятали у себя сельские учителя, переправляя потом к старым рабочим, мастерам или бригадирам, которые подыскивали нам временное занятие где-нибудь на уральском прииске или в одном из металлургических центров в бассейне Дона. Женомор со сладострастным упоением низринулся в безымяннейшую из всех пропастей – в людскую роевую нищету, убожество средств и помыслов. Ничто не могло его оттолкнуть, вызвать отвращение: ни утомительная барачная скученность под кровом тех бедняков, что нас ютили, ни затхлость и грязь в жилищах рабочих или крестьян, ни тошнотворность блюд, какими нас потчевали местечковые нищие евреи, ни та бесстыдная распущенность, свобода нравов, что царила в революционных кругах. Я-то никак не мог приспособиться к замашкам русских студентов-коммунистов и интеллектуалов. Стоило Женомору заметить, как меня передергивает при виде лежалой селедки или тарелки с кашей или я вздрагиваю, когда товарищ по партии без спроса хватает мое белье или напяливает мои брюки, он лопался от смеха: его все это весьма потешало. Сам он везде чувствовал себя в своей тарелке, я никогда не видел его таким радостным, болтливым, бесшабашным, как в те дни. Его принимали за знаменитого террориста Симбирского, Самуила Симбирского, члена «Народной воли», убийцу Александра II, убежавшего с сахалинской каторги, и он повсюду пользовался небывалой популярностью. Прибегнуть к этой уловке нас надоумила Маша Упчак, когда настоящий Самуил Симбирский умер от костного туберкулеза где-то в Париже, в мансарде, выходящей окнами на Менский тупик.
Маша сопутствовала нам во всех наших переездах. Женомор очень ею увлекся, и их связь, принявшая, как будет видно из моих записок, весьма странные формы, сильно повлияла на его образ мысли.
Она была литовской еврейкой. Женщиной изрядных габаритов, с пышной грудью и еще более объемистыми животом и задом, которых могло бы быть и поменьше. Из этого обилия телес торчала неожиданно длинная и соблазнительно худая гибкая шея с очень маленькой сухой головкой, поражавшей резкостью черт, страдальчески изогнутым ртом и лбом божественной красоты. Если прибавить сюда волосы сплошь в мелких завитках, станет понятно, что подобная головка смахивала на мучнистобледную главу какого-нибудь немецкого поэта – романтика, Новалиса например. Ее большие неподвижные глаза были голубыми – холодной, бледной, фаянсовой голубизны. Маша отличалась крайней близорукостью. На вид – лет тридцать пять, от силы тридцать восемь. Много и хорошо училась в Германии, занималась там математикой; ее перу принадлежит даже книга о чем-то связанном с вечным движением. Жестокая, логичная, холодная женщина, всегда полная новых идей и сатанински изощренная, когда дело шло об организации нового теракта, покушения или разоблачения какого – нибудь полицейского шпика. Именно она разрабатывала наши планы в мельчайших деталях, предвидя все с точностью до минуты, с безотказностью хронометра. Каждый из нас знал, что и в какую секунду ему надлежит делать, где стоять, в какой позе, какой жест от него надобен, как потом согнуться, пробежать, считая «раз, два, три, четыре», бросить бомбу – далеко или себе под ноги, – выхватить пистолет и выстрелить себе в рот либо пуститься наутек; и все факты, события разворачивались согласно ее предварительным вычислениям, строились в ряды и цепочки как раз так, как она предсказывала, ибо она была наделена способностью видеть все в реальном свете. Она часто удивляла нас смелостью своих решений и сухой, ясной формой их изложения. В ней было что-то от трагической актрисы, а что-то от пифии. Она умела безошибочно извлекать из потока реальности нужные сведения, характерные, убедительные, живые детали, они-то и помогали успеху каждого предприятия. В действии, на месте совершения акта она отличалась ледяным бесстрашием. Но в любви оказалась сентиментальна и глупа, так что Женомор часто приводил ее в ярость.
Мы повстречали Машу в Варшаве, там она руководила нашей главной подпольной типографией. Именно она редактировала все листовки, прокламации и манифесты, что так подстегивали волнения масс, вызвали к жизни столько забастовок и произвели такие опустошения. Ей был присущ ораторский талант самого площадного свойства, и никто лучше нее не умел обращаться к низким инстинктам толпы. Ее раскаленная риторика была убийственна. Маша так подбирала и подтасовывала факты, что выходило и доступно, и зажигательно. Умела распалить фанатизм толпы, напоминая, сколько жертв принесено там-то и там-то и еще вон там ради справедливости народной идеи, славя борцов, в такой-то день погибших на баррикаде в том или ином квартале, и перечисляя имена тех, кто предпочел умереть во тьме застенка, но остался верен рабочему классу. Она не забывала упомянуть и о множестве обидных замечаний, какие каждому фабричному то и дело приходилось выслушивать от начальства, – тут она становилась проникновенно злоязычной, как баба у плетня, и, как правило, именно этот перечень мелких оскорблений становился той последней каплей, что побуждала трудяг примыкать к нашему движению.
В интимной обстановке, рядом с Женомором, это было совсем другое создание. Маша становилась вульгарной, слезливой, чувствительной и жадной до простейших утех, а потому Женомор ее очень мучил.
Маша и Женомор выглядели престранной парой. Она громоздкая, мощная, решительная, с мужскими ухватками – этакая игривая бой – баба, если бы не волнующий изгиб шеи, не птичья головка, неподвижный взгляд, бледность, не губы, очерченные так, что их разрез казался разрывом (настоящая пасть вампирши!), и он – маленький, худосочный, хромой, преждевременно постаревший, с выцветшими стертыми чертами костистого лица, с томнотягучими жестами и внезапными громоподобными взрывами демонического смеха, от которых его аж шатало. Я еще мог бы понять, если б Машу к этому задохлику толкал извращенный материнский инстинкт, заставляя ухаживать за ним, убаюкивать это злобное существо, укачивать, что было сил сжимать в объятиях, но к чему все это было Женомору, всегда презиравшему женщин? Ускользала от моего понимания и логика внезапных скачков его настроения, когда он на моих глазах вскакивал и бросался на нее с оскорблениями, унижал ее и всячески третировал, частенько даже бил. Казалось, он был движим заурядной жестокостью. Лишь гораздо позже, когда Маше захотелось иметь от него ребенка, я убедился, что любовь есть род опасной интоксикации, не более чем грех, порок, который хочется разделить на двоих, а когда один из них не на шутку попадается в этот капкан, другой зачастую становится только его соучастником, жертвой или одержимым безумцем. Таким одержимым и был Женомор.
Любовь – чистейший мазохизм. Ее крики, стоны, приступы сладкой тревоги, пронизанная страхом угнетенность любовников, постоянное ожидание чего-то, подсознательное, лишь подразумеваемое, почти никак не выраженное латентное страдание, тысячи треволнений по поводу отсутствия обожаемого предмета, все это безвольно утекающее время, мелкие капризные желания, перемены настроения, позывы мечтательности, ребячество, настоящая моральная пытка, где палачами – тщеславие и честолюбие, а в помощниках у них – собственное достоинство, воспитание и целомудрие, не говоря уже о подъемах и спадах нервного тонуса, взбрыках воображения, о привязанности к пустой символике, жестокой резкости чувств, затевающих расследования и раскопки, не говоря об уверенности, что все естество на грани падения, простирается ниц перед любимым, а после вновь – необратимое обретение себя, подыскивание непослушного, заикающегося слова, фразы, перебиваемые уменьшительноласкательными окликами, чувство близости и внезапные сомнения в уместности каждого прикосновения, эпилептическая дрожь, снова и снова теряется аутентичность, страсть, раз от разу все более мутнеющая, полна всплесков, изнурительных порывов, вплоть до полного растворения в другом, до аннигиляции духа, до затухания всех пяти чувств, до высасывания из души и позвоночника всей их начинки, опустошения разума, высушивания сердца, возникновения позывов к полному уничтожению, к разрушению, к членовредительству и, наконец, – стремление излиться целиком, растаять в обожании, близком к мистическому, ненасытность, приводящая к гипервозбудимости слизистых, плюс к тому – наваждения хорошего и плохого вкуса, непорядки в вазомоторных реакциях или отказы периферической нервной системы, от которых матереют ревность и мстительность, а в финале – преступления, ложь и предательство из беззаветного обожания, неизлечимо глубокая меланхолия и апатия, полнейшая нищета духа, окончательное разочарование, напитывающее сердце горечью, и отчаянье – разве все эти стигматы любви не служат ее же симптомами, благодаря которым можно диагностировать, а затем уверенной рукой начертить диаграммы клинической картины мазохизма?
«Mulier tota in utero» – суть женщины в ее матке, говаривал Парацельс, а потому все женщины мазохистки. Любовь у них начинается с нарушения плевы и заканчивается полным разрывом всего естества в момент родов. Вся их жизнь есть не что иное, как страдание: раз в месяц они ходят окровавленные. Женщина пребывает под знаком Луны – неживого отблеска, мертвого небесного тела; вот почему чем чаще женщина рожает, тем обильнее плодит смерть. Мать есть символ не приращения, а умерщвления, и какая из смертных не предпочтет убить и пожрать чад своих, если будет уверена, что через то привяжет к себе самца, приберет его к рукам, даст ему в себя войти, проглотит его снизу и переварит, перетрет его в себе, доведет до зародышевой малости, чтобы всю жизнь носить его в чреве? Именно к этому приводит вся сложная машинерия любви: к поглощению, а затем извержению из себя самца.
Любовь не имеет иной цели, а поскольку она – уникальная движущая сила природы, надобно признать мазохизм единственным законом мироздания. Неистощимое перетекание земных существ от рождения к смерти сводится к разрушению, уничтожению всего живого; ненужные мучения и жестокость – вот все, что рождается от разнообразия форм, от медленного, мучительного, алогичного, абсурдного приспособленчества эволюции всего сущего. Живое существо никогда не может адаптироваться к условиям среды: если это и происходит, существо перестает быть живым. Борьба за жизнь есть битва за неприспособление. Жить – это быть непохожим. Вот почему все крупные представители растительного или животного царства чудовищны своим обличьем. То же и с нравственным чувством. Мужчина и женщина не созданы понимать, любить друг друга, растворяться один в другом до неразличения. Напротив, они презирают и рвут друг друга на части; и хотя в этой борьбе, именуемой любовью, женщина слывет вечной жертвой, именно она на самом деле снова и снова убивает мужчину. Ибо самец есть враг, притом неловкий, неуклюжий, ему не хватает изощренности. Женщина – полновластная повелительница, она лучше укоренена в этой жизни, у нее множество эрогенных зон, она лучше умеет страдать, она выносливее, ее либидо придает ей уравновешенность, она сильнее всех. Мужчина – ее раб, он сдается на ее милость, корчится у ее ног, безвольно отрекаясь от всех своих полномочий. Он сносит все. Женщина – мазохистка. Единственный жизненный принцип – мазохизм, при том, что он же – первооснова смерти. Вот почему существование есть идиотизм природы. Оно лишено разума и смысла, глупо, тщетно, и пользы от него никакой.
Женщина вредоносна. История всех цивилизаций демонстрирует нам, сколь многообразными способами мужчина оборонялся от ее манеры превращать его в женоподобную тряпку. Искусство, все виды религий, философские доктрины, законы, само бессмертие суть лишь роды оружия, изобретенные ради сопротивления всемирной власти женщины. Увы! Все эти попытки напрасны и во веки веков останутся тщетой, поскольку женщина всегда одерживает верх над любыми абстракциями.
Любая цивилизация, сколько бы их ни было, с течением времени начинает усыхать, истончаться, уходить в тину, пока вовсе не исчезнет с лика земли, воздавая хвалы женщине. Редки общественные формы, способные выдержать такое испытание несколько веков кряду, подобно созерцательному институту брахманов или жестко структурированному сообществу ацтеков; все прочие, как, например, китайцы, ухитрились изобрести сложные способы молитвенной мастурбации, чтобы утихомирить женскую неистовость, что до христиан и буддистов, им пришлось прибегать к кастрации, к умерщвлению плоти, к постам и монастырской строгости, к психоаналитической интроспекции, чтобы вновь придать мужчине какую ни на есть основательность. Ни одна цивилизация не обошлась без апологетики слабого пола, за исключением редких обществ, в которых тон задавали молодые горячие мужчины-охотники и воины, чье возвышение и упадок были столь же стремительными, сколь быстротечными, наподобие педерастических обществ Ниневии и Вавилона, скорее потребительских, нежели производящих, где лихорадочное творческое усилие ведать не ведало никаких тормозов, аппетиты не знали насыщения, потребности превосходили все, что можно вообразить, оттого-то эти сообщества, с позволения сказать, пожрали сами себя, исчезнув без следа, как погибают любые паразитирующие цивилизации, увлекая за собой в бездну все вокруг. Вряд ли найдется хоть один мужчина на десять миллионов, кто способен ускользнуть от этого наваждения, от женщины, убивая ее и таким образом нанося гнилостному миражу прямой удар; ведь убийство – все еще единственное средство, которое смогли обрести сотни миллиардов поколений мужчин за тысячи тысяч веков человеческого бытия, чтобы противостоять безмерной власти женщины. Сказать такое – значит утверждать, что садизм природе неизвестен, а великий закон мироздания, закон, созидающий и разрушающий все, – это мазохизм.
Маша и так была мазохисткой, а ее еврейство еще удваивало этот мазохизм, ибо какой народ в мире склонен к нему более племени Израилева? Определив себе повиноваться Богу, каковой, по сути, не более чем воплощенное тщеславие, Израиль только и делал, что мордовал своего повелителя. Израиль признал над собой власть чрезвычайно сурового закона с единственной целью – его нарушать. Вся история Израиля – одно лишь богоотступничество и законоослушание. Мы видим, как избранный народ предает и продает своего Бога, а потом выторговывает себе послабления в законе. И мы слышим, как с неба низвергается град угроз и проклятий. Удары сыплются дождем. Мор и глад нападают бесперечь. Израиль страдает, рыдает, стенает. Клянет судьбу в изгнании и оплакивает свое рабство. О, какая это любовь! Рука Господня простерлась над ним, пригнула, давит. Израиль корчится. Плачет кровавыми слезами. Но он наслаждается собственной низостью и умиляется падением в грязь. Какое сладострастие и какое тщеславие! Быть проклятым народом, служить мишенью бедствий, преследующих его во всех поколениях вплоть до самого последнего, быть рассеянным по лику земли ударами плети все того же Создателя – и иметь право на жалобы, на громогласные пени, нарываться на поругание, вопить о своей отверженности, а притом лелеять свою миссию народа-страдальца, обожать собственные невзгоды, растравлять их и тайно заражать ими окрестные народы. Эта утонченная извращенность целой нации объясняет такое широкое рассеяние евреев по миру и их странную судьбу на земле, хотя повсюду их действие смертоносно. Лишь одни евреи достигли той крайней степени деклассированности, к какой теперь тяготеют все цивилизованные сообщества, в то время как она есть не что иное, как логическое развитие мазохистских принципов еврейской нравственности. Все современное революционное движение в руках евреев, оно порождено еврейским мазохизмом, безнадежным, не имеющим иного выхода, кроме разрушения и смерти, ибо таков главный закон Бога Мщения, Бога Смертной Напасти, Иеговы-Мазохиста.








