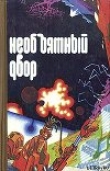Текст книги "Помощник"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
В задней комнате он повесил на крюк пиджак и трясущимися руками завязал передник.
Фрэнк глянул на Морриса поверх газеты и улыбнулся.
– А после стрижки вы совсем иначе выглядите! Как овца, с которой состригли шерсть.
Бакалейщик, все еще сам не свой, молча кивнул.
– Почему вы такой бледный, Моррис?
– Я что-то плохо себя чувствую.
– Вам бы пойти наверх и вздремнуть.
– Позже.
Трясущейся рукой Моррис налил себе чашку кофе.
– Как дела? – спросил он, стоя спиной к Фрэнку.
– Потихоньку, – сказал Фрэнк.
– Много было покупателей, пока я стригся?
– Двое или трое.
Не смея посмотреть Фрэнку в глаза, Моррис прошел в лавку и постоял у окна, глядя на парикмахерскую; мысли его путались. Неужели итальянец ворует из кассы? Покупатели вышли, неся с собой горы продуктов, а сколько они заплатили? Может быть, он отпускает в кредит? Но Моррис говорил ему никогда этого не делать. Так что же?
В лавку вошел покупатель, и Моррис его обслужил. Покупатель потратил сорок девять центов. Проворачивая на кассовом аппарате покупку, Моррис увидел, что сумма подведена точно. Значит, аппарат работает исправно. Теперь Моррис был почти уверен, что Фрэнк подворовывает, и спросил себя, с каких пор он занимается этим, но ответить не мог.
Фрэнк вошел в лавку и увидел, что бакалейщик стоит у окна и вид у него, прямо сказать, неважный.
– Вы все еще плохо себя чувствуете, Моррис?
– Пройдет.
– Не шутите с этим. А то опять заболеете.
Моррис облизал языком губы, но не ответил. Весь день он ходил как в воду опущенный. Иде он ничего не сказал – боялся.
Несколько дней после этого он тщательно проверял Фрэнка. Поскольку у него не было точной уверенности, что Фрэнк ворует, Моррис решил, как в суде, трактовать сомнение в пользу обвиняемого; однако теперь за помощником нужен глаз да глаз, и Моррис решил, что не успокоится, пока не выяснит, ворует Фрэнк или нет. Иногда Фрэнк работал, а он сидел за газетой в задней комнате, притворяясь, что читает, но сам внимательно слушал, что именно берет тот или иной покупатель. Он складывал цены, и пока Фрэнк упаковывал покупки, быстро подводил приблизительный итог, а когда покупатель уходил, шел к кассе и старался как можно незаметнее проверить, сколько Фрэнк накрутил. Сумма всегда сходилась с его подсчетами, разве что на цент-другой больше или меньше. Иной раз Моррис говорил, что идет на несколько минут наверх, но вместо этого оставался за дверью и прислушивался к тому, что происходит в лавке. Сквозь щель в рассохшейся двери он мог даже видеть кое-что из того, что там делается. Он в уме складывал цены, а минут через пятнадцать проверял чеки – и всегда получалось именно то или примерно то, что он вычислил. Может быть, он зря усомнился в Фрэнке? Может быть, сидя в парикмахерской, он плохо рассмотрел, какие у покупателей были сумки – большие или не очень большие? И все-таки он не мог поверить, что тогда все трое истратили всего три доллара. Может быть, придя из парикмахерской, он своим вопросом неосмотрительно спугнул Фрэнка, и теперь тот стал осторожнее?
Поразмыслив, Моррис решил: да, возможно, Фрэнк действительно подворовывает, но это больше его, Моррисова вина, чем самого Фрэнка. Фрэнк ведь взрослый человек, у него есть свои потребности, а что Моррис ему платит? Каких-то шесть или семь долларов в неделю, включая жалкие комиссионные. Само собой, Фрэнк имеет бесплатную комнату и полный пансион, да еще сигареты, но что такое в наши дни шесть-семь долларов, когда пара приличных туфель стоит от восьми до десяти? Так что он, Моррис, сам во всем и виноват, если платит своему приказчику, как какому-нибудь рабу, – а ведь тот работает, как вол, да еще много чего делает по дому: на прошлой неделе, например, Фрэнк прочистил канализационную трубу в подвале и тем сберег Моррису пять, а то и все десять долларов, которые иначе пришлось бы заплатить водопроводчику; не говоря уже о том, что само присутствие Фрэнка в лавке привлекало покупателей.
И вот, хотя и при нынешней выручке Моррис только-только сводил доходы с расходами, однажды вечером, когда они с Фрэнком распаковывали только что полученные ящики с товаром и Моррис подавал коробки, а Фрэнк, стоя на стремянке, расставлял их по полкам, бакалейщик сказал:
– Фрэнк, по-моему, отныне и до лета вы заслужили, чтобы вам повысили жалованье. Теперь я буду платить вам пятнадцать долларов в неделю, без всяких комиссионных. Да я бы вам и еще больше платил, но вы же сами знаете, какие у нас дела.
Фрэнк сверху поглядел на бакалейщика.
– Зачем, Моррис? – спросил он. – Торговля идет так, что едва ли вы можете себе позволить платить мне больше, чем платите. Если вы будете давать мне пятнадцать долларов, ваша прибыль будет меньше. Пусть все остается, как есть, я вполне доволен.
– Вы молодой человек, у вас есть свои расходы.
– У меня есть все, что мне надо.
– Пусть будет так, как я сказал.
– Поверьте, это лишнее, – возразил Фрэнк, и в его голосе послышалось беспокойство.
– Нет, – твердо сказал Моррис, – берите.
Фрэнк кончил расставлять товары на полке, спустился вниз и сказал, что сходит к Сэму Перлу. Проходя мимо бакалейщика, он отвел глаза.
Моррис продолжал работать. Сказать Иде о новой прибавке Фрэнка он не решился, опасаясь, что та устроит ему скандал, поэтому решил ежедневно брать понемногу из кассы и в конце недели вручать эти деньги Фрэнку перед тем, как Ида будет выплачивать ему законное жалованье.
Элен чувствовала, что несмотря на все сомнения она начнет влюбляться в Фрэнка. Ей совсем не хотелось пускаться в этот головокружительный танец. Погода стояла холодная, часто шел снег, и у Элен было тяжелое время: она боролась со своими колебаниями, боясь совершить роковую ошибку, которая приведет к беде. Как-то ночью ей приснилось, что дом сгорел дотла и ее бедным родителям некуда идти: они стоят на тротуаре в одном белье и плачут. Проснувшись, Элен попыталась вызвать в себе былое недоверие к этому чужаку, но безуспешно. Чужак изменился, он перестал быть чужаком. И в этом было все дело, тут-то и крылась разгадка всего, что с ней происходило. Когда-то Фрэнк был неведомой, загадочной фигурой, он скрывался где-то в темноте, в углу подвала; теперь же он стоял, улыбаясь, в ярком солнечном свете, как будто все, что Элен о нем знала и не знала, слилось в какое-то здоровое, единое, легко запоминающееся целое. «Если он что-то скрывает, – думала Элен, – то только свое несчастное прошлое, когда он рос без родителей и ему пришлось хлебнуть горя». Теперь глаза его стали спокойнее, мудрее. Его сбитый набок нос, казалось, шел к его лицу, а лицо шло ему. Он вел себя благородно и если чего-то ждал, то с достоинством, заслуживавшим уважения. Элен чувствовала, что заставила его в чем-то измениться, и это в свою очередь сказалось и на ней. И сейчас было уже неважно, что раньше ей хотелось держаться от него подальше. Она чувствовала нежность к Фрэнку, хотела чаще быть с ним рядом. «Изменив его, я и сама изменилась», – думала Элен.
После того, как она согласилась принять книгу, их отношения стали какими-то иными. Более того, читая Шекспира, Элен теперь думала о Фрэнке, и ей даже казалось, что шекспировские герои говорят его голосом. Что бы она ни читала, Фрэнк все время занимал ее мысли – он произносил реплики персонажей, он принимал участие в сюжете, как будто вся литература сводилась к одним и тем же ассоциациям. И они, не сговариваясь, снова стали встречаться в библиотеке. То, что они виделись среди книг, успокаивало Элен; она думала: «Что плохого могу я сделать здесь, в библиотеке, к чему худому это может здесь привести?»
И Фрэнк тоже чувствовал себя в библиотеке увереннее, хотя, когда они шли домой, он отдалялся от нее и становился каким-то напряженным, словно чего-то опасался; он оглядывался назад, как бы желая проверить, не идет ли кто за ними. Но кому пришло бы в голову за ними следить? Он никогда не доходил с ней вместе до самой лавки; как и прежде, по взаимному молчаливому соглашению, она уходила вперед и входила в дом с черного хода, чтобы из окна лавки не было видно, что он пришел с той же стороны, откуда пришла и она. Элен объясняла осторожность Фрэнка тем, что он предчувствовал победу и не хотел из-за какой-нибудь нелепой случайности эту победу упустить. Значит, он ценил ее даже больше, чем ей того хотелось бы.
А затем, как-то вечером, они миновали поляну в парке и повернулись друг к другу. Она пыталась пробудить в себе чувство опасности, но он обнял ее, и это чувство куда-то провалилось и растворилось. Прижавшись к нему, ощущая его тепло, она почувствовала, что ее обдало жаром и она уплывает куда-то в ночь. Ее губы раскрылись, и она забылась в поцелуе, которого так долго ждала. Однако в эту минуту самой сладкой радости в ней вдруг опять проснулись прежние опасения, и они вызвали в ней боль, опечалили ее.
Но это была уже ее вина. Значит, она еще не готова к тому, чтобы полностью принять Фрэнка. Все еще что-то в ней говорило: «Нет!», действовало ей на нервы. Но по дороге домой ни он, ни она не могли забыть радость этого первого поцелуя. Но почему поцелуй должен вызывать такое волнение? Она видела тогда, что глаза у Фрэнка – печальные, и, оставшись одна, Элен расплакалась. Ну когда же придет, наконец, весна?
Элен пыталась одолеть любовь аргументами разума, и сама удавилась, насколько это не помогает, насколько вообще все эти аргументы зыбки; ей не удавалось, как прежде, спрятаться за своими логическими выкладками; они всплывали в мозгу, сменяя друг друга и исчезая, как будто появилось нечто, изменившее все знакомые и привычные нормы, ценности, даже жизненный опыт. Например, Фрэнк не был евреем. Еще недавно это поставило бы между Элен и Фрэнком непреодолимую преграду – а теперь ей казалось, что это совсем не так уж важно. Да и почему это должно иметь какое-нибудь значение, в наши-то дни? Вообще, что может иметь значение, кроме любви и счастья? Только позже, обдумав все это, Элен осознала, что нееврейство Фрэнка беспокоит ее не столько из-за нее самой, сколько из-за родителей. Хотя традиционного еврейского воспитания Элен почти не получила, она все-таки думала о себе как о еврейке, осознавала себя еврейкой, причисляла себя к евреям – не потому даже, что ей было кое-что известно о еврейской истории или еврейской религии, а скорее из-за того, через что евреи прошли в своей истории. Ей никогда даже в голову не приходило, что она может выйти замуж за кого-нибудь, кроме еврея. Но в последнее время она стала задумываться о том, что в нынешние трудные времена, когда так мало надежды найти счастье в жизни, любовь – это нечто почти невозможное и недостижимое, и поэтому самое главное – чтобы два человека были нужны друг другу, а на все остальное – наплевать. Что важнее: чтобы у ее будущего мужа были такие же религиозные убеждения, как и у нее (если уж вообще говорить о религии), или чтобы у него были такие же идеалы, чтобы они оба были влюблены, и хотели эту любовь сохранить, и еще хотели бы сохранить в себе все, что было в них лучшего? Чем меньше будут различия между людьми, тем лучше. Так она для себя решила, и ей было жалко тех людей, которые не пришли к тому же решению.
Однако ее логика, если это была логика, не могла подсказать, как быть с ее бедными родителями, если они дознаются, что происходит. Когда Фрэнк поступит в колледж, Ида, может быть, и перестанет недооценивать Фрэнка как человека. Но колледж – не синагога, а степень бакалавра – не бар-мицва; и Ида – и даже Моррис со всеми его либеральными идеями – все-таки будут настаивать на том, что Фрэнк должен быть тем, кем он вовсе не был. Элен была далеко не уверена, что сумеет уговорить родителей. Она приходила в ужас при мысли о том, какая в доме разразится гроза, как отец и мать со слезами на глазах будут ее умолять, и какой подлой по отношению к ним она будет себя чувствовать за то, что отняла у них даже то мизерное спокойствие и удовлетворение от жизни, какое у них еще оставалось; за то, что сделала их, и без того несчастных, еще несчастнее. Видит Бог, они уже достаточно настрадались! И все-таки – юность так коротка, много ли ее еще осталось? А ведь нужно жить дальше, и приходилось принимать трудные решения, делать выбор. Элен предвидела, что ей придется отстаивать себя, придется немало вытерпеть – но настоять на своем. Для Морриса и Иды это будет удар, но со временем они успокоятся и примирятся с тем, что случилось; и при этом Элен все-таки втайне надеялась, что когда-нибудь ее сын женится на еврейке, ее дочь выйдет замуж за еврея.
И если Элен выйдет за Фрэнка, первое, что она должна будет сделать, – это поддержать в нем мечту добиться чего-то большего. Нат Перл хотел стать кем-то; но для Ната это означало делать деньги, много денег, чтобы вести такой же образ жизни, какой вели некоторые его богатые друзья с юридического факультета. А Фрэнк был совсем другой: он хотел осознать себя как личность, у него были более достойные желания. Хотя Нат получил хорошее образование, Фрэнк лучше знал жизнь, он был глубже и умнее. Элен хотела, чтобы Фрэнк стал таким, каким он может стать, и у нее возник план, как помочь ему получить высшее образование. Может быть, позднее он получит не только степень бакалавра, но и магистра, – нужно только, чтобы он осознал, чего хочет. Элен поняла, что это значит сказать «прощай» своим собственным туманным планам окончить колледж, но она уже давно поняла, что этим планам едва ли суждено сбыться, и ей придется смириться с этим – только бы Фрэнк достиг всего, чего он может достигнуть, а она не может. Может быть, потом, когда он начнет работать, станет инженером или химиком, она тоже сможет поступить в колледж. К тому времени ей будет уже под тридцать, но можно пока подождать с детьми, чтобы помочь Фрэнку встать на ноги и чтобы она тоже почувствовала, что делает нечто важное и нужное. Кроме того, она надеялась, что они смогут уехать из Нью-Йорка. Ей хотелось поездить по стране. А если все будет хорошо, может быть, Ида и Моррис когда-нибудь продадут лавку и приедут жить возле них. Они могли бы поселиться в Калифорнии, у ее родителей был бы собственный домик, где они могли бы спокойно и счастливо доживать свою старость и часто видеться с внучатами. Многое еще можно сделать в будущем, если только не бояться этого будущего, не бояться идти на риск. Вопрос только в том, хватит ли у нее характера, чтобы не бояться?
Элен решила отложить принятие ответственного решения. Больше всего она боялась компромисса; сколько раз она видела, как люди высоко метили, а потом соглашались на что-то гораздо более скромное. Она боялась, что в определенный момент и сама пойдет на то, что удовлетворится каким-нибудь суррогатом своих мечтаний, не достигнет своих идеалов, пойдет на сделку со своим честолюбием. Этого ни в коем случае нельзя допустить, этого надо избежать любой ценой; если нужно, она выйдет замуж за Фрэнка, но если ее мечты потребуют, она откажется от него. Элен всегда терзалась страхом – этот страх был внутри нее, был основой всех ее прочих опасений, – страхом, что жизнь пойдет не так, как ей хотелось. Она была готова изменить те или иные частности, принять что-то вместо чего-то, но главное – самая суть ее мечты – это нечто такое, от чего она не могла отказаться. Ну, ладно, к лету она будет знать, что ей делать.
А тем временем Фрэнк каждый третий вечер приходил в библиотеку, и Элен встречалась с ним там. Но вот библиотекарша, симпатичная старая дева, стала улыбаться им, как старым знакомым; Элен смутилась, и они с Фрэнком начали встречаться в других местах: в кино, в пиццериях, в закусочных; но там трудно было как следует поговорить, а обняться тем более невозможно, – и, чтобы поговорить, они гуляли по улицам, а чтобы поцеловаться, прятались в укромных уголках парка.
Фрэнк сказал, что ему прислали из колледжа бюллетени, которые он запросил, и он договорился, что в мае копию его школьного аттестата пошлют в тот колледж, который он для себя выберет. Он дал ей понять, что знает о ее планах относительно него. Он был немногословен, так как боялся, что к нему вернется былая невезучесть, если он будет слишком много болтать.
Сначала он терпеливо ждал. А что ему еще оставалось делать? Ему и раньше приходилось подолгу ждать, он родился для того, чтобы ждать. Но вскоре, хотя он старался это скрывать, воздержание стало ему надоедать. Он устал целоваться в парадных или на холодной скамье в парке. Он вспоминал, как видел Элен в ванной комнате, и это воспоминание давило на него, как тяжелое бремя. Он так желал ее, что начал даже обдумывать, как бы заманить ее к себе в комнату и в постель. Он хотел освободиться, хотел почувствовать удовлетворение, заручиться каким-то залогом будущего. «Пока она тебе не отдастся, она не твоя, – думал он, – все они такие; это не всегда так, но тут это так». Он устал мучиться: «Я уже намучился в жизни, спасибо, хватит». Он хотел ее всю, целиком.
Теперь они встречались чаще. На скамейке Парквея, на уличных перекрестках – в широком мире, обдуваемом холодным зимним ветром. Когда шел дождь или снег, они скрывались в подъездах или шли домой.
Как-то Фрэнк пожаловался:
– Смешно! Мы уходим из одного и того же теплого дома, чтобы встречаться здесь на холоде.
Элен не ответила.
– Ладно, неважно, – сказал Фрэнк, глядя на ее взволнованное лицо, – пусть все будет, как есть.
Он хотел пригласить ее зайти к нему в комнату, но чувствовал, что она откажется, и промолчал.
Как-то холодным вечером, когда небо было усыпано крупными звездами, она повела его сквозь густые заросли, около которых они обычно сидели, к широкой лужайке, где в летние ночи на траве лежали влюбленные.
– Посидим минутку на земле, – предложил Фрэнк, – здесь никого нет.
Но Элен отказалась.
– Почему? – спросил он.
– Не сейчас, – сказала она.
Она поняла, хотя он потом отрицал это, что им овладело нетерпение. Иногда он целыми часами был в скверном настроении. Это ее волновало, и она думала о том, какие ржавые раны открыла в нем их бездомность.
Однажды вечером они сидели вдвоем на скамейке на Парквее; Фрэнк обнял ее; но они были слишком близко от дома, и поэтому Элен в таких случаях высвобождалась и вскакивала каждый раз, как кто-нибудь проходил мимо.
После того, как Элен трижды вскакивала и снова потом садилась, Фрэнк сказал:
– Послушай, Элен, это не дело. Нужно пойти куда-нибудь, где мы будем не на улице.
– Куда? – спросила Элен.
– А куда бы ты хотела?
– Никуда, Фрэнк. Я не знаю.
– И долго так будет продолжаться?
– Пока нам не надоест, – сказала Элен, улыбаясь, – или пока мы друг другу нравимся.
– Я не об этом. Меня бесит, что нам буквально некуда приткнуться, негде побыть вдвоем. Может быть, как-нибудь вечером ты придешь ко мне в комнату? Это нетрудно. Не сегодня – а, может быть, в пятницу, когда Ник и Тесси уйдут развлекаться, а твоя мать будет внизу, в лавке. Я купил электрокамин, в комнате теперь тепло. Никто и знать не будет, что ты там. Мы бы смогли побыть наедине. Мы же ни разу не были совсем одни.
– Я не могу, – сказала Элен.
– Почему?
– Не могу, Фрэнк.
– Будет у меня когда-нибудь возможность обнять тебя без того, чтобы совершать акробатические пируэты?
– Фрэнк, – сказала Элен, – я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Я не лягу с тобой в постель сейчас, если ты это имеешь в виду. Я не сделаю этого до тех пор, пока не буду уверена, что действительно тебя люблю, – может быть, пока мы не поженимся, если вообще до этого дойдет.
– Но я тебя об этом и не просил, – сказал Фрэнк. – Я просил только прийти ко мне в комнату, чтобы мы могли пробыть сколько-то времени вместе, в тепле и уюте, а не так, как здесь, где ты шарахаешься от любой тени.
Он закурил сигарету и стал молча пускать дым.
– Прости, – сказала она, помедлив. – Мне казалось, я должна тебе сказать, что я об этом думаю. Так или иначе, я собиралась тебе сказать об этом.
Они встали и пошли. Фрэнковы раны уже гноились.
Холодный дождь вымыл желтую слякоть из канав. Он не прекращался два дня. Элен обещала Фрэнку встретиться с ним в пятницу вечером, но ей смерть как не хотелось выходить под дождь. Улучив удобный момент, она сунула ему под дверь записку, а потом сошла вниз. В записке было сказано, что если Ник и Тесси пойдут в кино, Элен попробует пробраться в комнату Фрэнка.
В половине восьмого Ник постучал к Фрэнку и спросил, не хочет ли тот в кино. Фрэнк отказался, сославшись на то, что видел этот фильм. Ник сказал: «Пока!», и они с Тесси, завернутые в плащи и с зонтиками в руках, вышли из дому. Элен ждала, пока Ида спустится в лавку, к Моррису, но Ида сказала, что у нее болят ноги и она хочет отдохнуть. Тогда Элен сама спустилась вниз, громко стуча каблучками; она решила, что Фрэнк услышит, как она спускается, и догадается, в чем дело. Он поймет, что пока Ида слышит, куда Элен идет, она не сможет к нему прийти.
Однако через несколько минут Ида все-таки сошла вниз и сказала, что ей боязно наверху. Элен сообщила, что хочет зайти к Бетти Перл и сходить вместе с ней к портному, который шьет Бетти свадебное платье.
– На улице дождь, – сказала Ида.
– Знаю, мама, – ответила Элен, кляня себя за то, что вынуждена лгать.
Элен поднялась в свою комнату, надела шляпку, пальто и боты, взяла зонтик. Затем она спустилась вниз и громко хлопнула дверью, словно только что ушла. Потом осторожно отворила дверь и на цыпочках поднялась по лестнице.
Фрэнк догадался, что происходит, и как только она еле слышно постучала, сразу же открыл дверь. Элен была бледна, взволнована, но очень красива. Фрэнк обнял ее и почувствовал, как у нее бьется сердце.
«Сегодня она мне позволит» – подумал Фрэнк. Элен все еще чувствовала себя неловко. Ей потребовалось какое-то время для того, чтобы прийти в себя после того, как она солгала матери. Фрэнк выключил свет и настроил радиоприемник на легкую танцевальную музыку; теперь он лежал на кровати и курил. Элен несколько минут посидела в кресле, наблюдая за тем, как он курит, и слушая, как в окно, озаренное отблеском уличного фонаря, стучит дождь. Но когда он бросил окурок в стоявшую на полу пепельницу, она разулась и легла к нему на кровать, подвинув его к стенке.
– Вот так-то лучше, – вздохнул он.
Она лежала в его объятьях, закрыв глаза, ощущая спиной теплое, как рука, дыхание электрокамина. Сначала она как бы задремала, но потом очнулась: он начал ее целовать. Слегка напрягшись, Элен лежала без движения, а когда он перестал целовать, она обмякла. В окно тихо постукивал дождь, и Элен воображала, что это – теплый весенний дождь, хотя до весны еще было далеко. И в этом дожде росли всевозможные цветы, в том числе и весенние. И в цветочной тьме – сладкой цветочной ночью – она лежала с ним под звездным небом и подносила розу к своему горлу. Когда Фрэнк снова ее поцеловал, она страстно прильнула к нему.
– Дорогой!
– Элен, девочка моя, я тебя люблю!
Они еще раз, затаив дыхание, поцеловались, а потом Фрэнк стал расстегивать на ней блузку. Она села, чтобы расстегнуть лифчик, и почувствовала его пальцы у себя под юбкой.
Элен схватила его за руку.
– Пожалуйста, Фрэнк! Не надо так распаляться!
– Милая, чего мы ждем?
Он попытался просунуть руку дальше, но она сжала ноги. Тогда он схватил ее за плечи и повалил обратно на кровать. Она почувствовала, как он дрожит, прижавшись к ней, и на какое-то мгновение ей показалось, что он сейчас причинит ей боль, но этого не случилось.
Она лежала на кровати, застыв, не отвечая. Когда он снова ее поцеловал, она не шелохнулась. Через некоторое время он отпустил ее. При слабом свете электрокамина Элен увидела, какое у него несчастное лицо.
Она села на край кровати и застегнула блузку.
Фрэнк закрыл лицо руками. Он ничего не сказал, но она чувствовала, как он дрожит.
– О, Господи, – пробормотал он.
– Прости, – сказала Элен мягко. – Я тебе говорила, что не сделаю этого.
Прошло минут пять. Фрэнк медленно сел на кровати.
– Ты девушка, и поэтому боишься?
– Нет, не девушка, – сказала Элен.
– Я думал, что да, – сказал он удивленно. – Ты ведешь себя, как девушка.
– Я ведь сказала, что нет.
– Так почему же ты такая? Разве ты не понимаешь, каково это человеку?
– Я тоже человек.
– Так зачем ты это делаешь?
– Потому, что я считаю, что так надо.
– По-моему, ты сказала, что ты не девушка.
– Не обязательно быть девушкой, чтобы иметь свои идеалы по части секса.
– Я не понимаю. Если ты делала это раньше, почему ты не можешь этого теперь?
– Не могу – именно потому, что я делала это раньше, – сказала Элен, откидывая волосы. – В этом-то и суть. Я это делала, и потому не могу делать это с тобой. Я тебя предупреждала еще тогда, на Парквее.
– Не понимаю, – сказал Фрэнк.
– Это должно быть, когда любишь.
– Я же тебе сказал, Элен: я тебя люблю, – ты это знаешь.
– Но я тоже должна тебя любить. Иногда я думаю, что люблю, а иногда не уверена.
Он снова замолчал. Она отрешенно слушала музыку по радио.
– Фрэнк, не обижайся.
– Я устал от этого, – сказал он резко.
– Фрэнк, – продолжала Элен, – я сказала, что спала с кем-то другим, и, по правде говоря, мне жаль, что я это делала. Конечно, это доставило мне удовольствие, но потом я подумала, что дело того не стоило; только тогда, когда я соглашалась, я не знала, что буду такое думать, потому что я еще вообще не знала, чего хочу. Наверно, мне хотелось быть свободной, и я решила прийти к этому через секс. Но если не любишь, секс не приносит освобождения, и поэтому я дала себе слово, что не лягу в постель с мужчиной, которого не буду действительно любить. Я не хочу быть сама себе противна. Я не хочу поддаваться своим страстям, я хочу властвовать над собой, и ты тоже должен уметь владеть собой, если я тебя прошу. Я прошу это для того, чтобы когда-нибудь я могла тебя любить и не сдерживать себя.
– Ерунда какая-то, – сказал Фрэнк, – но, к его собственному удивлению, эти слова подействовали на него: он подумал, как прекрасно владеть собой, и ему захотелось, чтобы так было.
– Элен, – сказал он, – я не то хотел сказать.
– Знаю, – ответила она.
– Элен, – сказал он хрипло, – я хочу, чтобы ты знала, что я на самом деле очень хороший парень.
– Я так и думаю.
– Даже если я делаю что-нибудь плохое, я все равно хороший.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду.
Они поцеловались, потом еще раз. Он подумал, что в жизни бывают вещи и похуже, чем ждать чего-то, от чего будет очень хорошо, когда ты это получишь.
Элен откинулась на кровати и задремала; она проснулась, когда вернулись Ник и Тесси и прошли к себе в спальню, обсуждая кинокартину, которую они только что смотрели. Это была картина о любви, и Тесси она очень понравилась. Когда они разделись и легли в постель, их двуспальная кровать заскрипела. Элен было не по себе из-за Фрэнка, но Фрэнк, казалось, вовсе не чувствовал неловкости. Ник и Тесси вскоре заснули. Элен прислушивалась к их тяжелому дыханию и думала, как ей спуститься на свой этаж, потому что если Ида не спит, она услышит шаги на лестнице. Но Фрэнк сказал, что он снесет ее на руках, а потом, через несколько минут, она поднимется наверх, как будто только что откуда-то пришла.
Она надела пальто, шляпку и боты, не забыла также зонтик. Фрэнк снес ее вниз по лестнице. Ида могла услышать на лестнице лишь его тяжелые шаги. Он поцеловал Элен на прощанье, пожелал ей спокойной ночи и пошел прогуляться под дождем, а вскоре Элен с шумом открыла дверь и поднялась к себе наверх.
После этого Ида заснула.
В дальнейшем Элен и Фрэнк снова встречались где-нибудь вне дома.
Однажды вечером, когда шел снег, входная дверь отворилась, и в лавку вошел сыщик Миногью; он толкал перед собою какого-то небритого верзилу в наручниках, лет двадцати семи, с усталыми глазами, без шляпы, в выцветшем зеленом плаще и хлопчатобумажных брюках. Войдя в лавку, тот поднял свои скованные руки и смахнул с мокрых волос снег.
– Где Моррис? – спросил Миногью у Фрэнка.
– В задней комнате.
– Проходи, – сказал Миногью верзиле в наручниках.
Они вошли в заднюю комнату. Моррис, сидя на кушетке, втихомолку курил. Он быстро выбросил окурок в мусорное ведро.
– Моррис, – сказал Миногью, – мне кажется, я поймал того субчика, который стукнул тебя по голове.
Лицо бакалейщика побелело, как мел. Он взглянул на верзилу, не вставая с кушетки.
– Я не знаю, он ли это, – пробормотал Моррис. – У него лицо было закрыто платком.
– Этот сукин сын – рослый малый, – сказал Миногью. – Тот, который тебя стукнул, тоже был высокий, правда?
– Нет, – сказал Моррис, – он был плечистый. Высокий был другой.
Фрэнк стоял в дверях, наблюдая за происходящим.
Мистер Миногью повернулся к нему:
– А это кто такой?
– Мой помощник, – сказал Моррис.
Сыщик расстегнул пальто и вынул из кармана чистый платок.
– Будьте любезны, – сказал он Фрэнку, – повяжите ему Я1 это на рожу.
– Мне что-то не хочется, – сказал Фрэнк.
– Уж будьте любезны! А то меня он может стукнуть наручниками.
Как это ни претило Фрэнку, он взял платок и обвязал им лицо верзилы, который стоял спокойно и даже не шелохнулся.
– Ну, как, Моррис, похож?
– Гм! Не могу сказать, – выдавил из себя Моррис и вынужден был снова опуститься на кушетку.
– Моррис, дать вам воды? – спросил Фрэнк.
– Не нужно.
– Не торопитесь, – сказал Миногью, – поглядите на него как следует.
– По-моему, это не он. Тот вел себя очень грубо. И голос у него был грубый, неприятный голос.
– А ну, скажи что-нибудь, сынок, – обратился Миногью i к верзиле.
– Этого я не грабил, – произнес тот безжизненным голосом.
– Ну, как, Моррис?
– Нет.
– Может, он больше похож на второго, на напарника?
– Нет, он совсем другой.
– Почему вы так уверены, Моррис?
– Так тот напарник был очень нервный. И ростом он был выше. У этого вон маленькие руки, а у того напарника руки были большие, крупные.
– Вы уверены? Этого парня мы взяли вчера с поличным. Он грабил бакалейную лавку; с ним был еще один субчик, но тот успел удрать.
Миногью снял с лица верзилы платок.
– Я его не знаю, – решительно сказал Моррис.
Мистер Миногью сложил платок и спрятал в карман. Затем он снял очки, положил их в кожаный очешник.
– Кажется, Моррис, я уже вас однажды спрашивал про моего сына, Уорда. После этого вы так его и не видели?
– Нет, – ответил бакалейщик.
Фрэнк подошел к раковине, набрал стакан воды и прополоскал рот.
– А вы – может быть, вы его знаете? – спросил сыщик Фрэнка.
– Нет.
– Ну, ладно, – сказал Миногью, застегивая пальто. – Кстати, Моррис, вы так и не обнаружили, кто тогда таскал у вас молоко?
– Больше никто ничего не таскает, – сказал Моррис.
– Пошли, сынок, – сказал сыщик верзиле.
Фрэнк наблюдал через окно, как они влезли в полицейскую машину, и ему стало жаль парня.