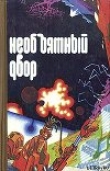Текст книги "Помощник"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Он забылся тяжелым сном, но часа через два проснулся, весь в горячем поту. А в то же время ногам было холодно, и Моррис знал, что если он об этом будет думать, его всего затрясет озноб. Он почувствовал боль в правом плече, а когда заставил себя глубоко вздохнуть, заболело и слева. Моррис понял, что заболевает. Он лежал в темноте и думал, как это было с его стороны глупо выйти холодным вечером расчищать какой-то дурацкий снег. Он, наверно, простудился. А ему-то казалось, что ничего худого не случится. После двадцати двух лет мог же он себе позволить несколько минут свободы.
Теперь со всеми его планами и замыслами придется повременить; дела с Карпом и с аукционистом может закончить Ида. Полежав немного, Моррис свыкся с мыслью, что он простудился и, наверно, у него грипп. Может, разбудить Иду и вызвать врача? Тут он вспомнил, что снял телефон. Конечно, Элен могла бы одеться и сбегать позвонить от Сэма Перла, но это значит разбудить целую семью, а потом еще разбудить и врача, который придет и скажет: «Что за переполох, мистер Бобер? У вас всего-навсего грипп, ложитесь в постель». Ради того, чтобы получить такой совет, не стоило поднимать доктора среди ночи, можно и до утра подождать. Моррис снова задремал, но и во сне ощущал, как его всего трясет. Он проснулся и почувствовал страх. А вдруг у него воспаление легких? Но, полежав немного, он успокоился. Он привык болеть, это его не пугало. Все последние несколько дней он себя неважно чувствовал: побаливала голова, дрожали колени. Может быть, даже и не выйди он нынче расчищать снег, он бы все равно заболел. И все же ему было горько: сейчас заболеть – ой, как не вовремя! Ну да, он расчищал снег на улице; но разве это дело, что в канун апреля идет снег? А если даже и так, то неужели справедливо, что едва он вышел на улицу, как тотчас же простудился. Это же ужас, как обидно: что он ни сделает, все выходит ему боком.
Моррис уснул, и ему приснился Эфраим. Он сразу узнал Эфраима по карим глазам, которые тот унаследовал от отца, На макушке у Эфраима была кипеле, вырезанная из старой Моррисовой шляпы, а одет он был в жуткие лохмотья. Хотя почему-то Моррис этого и ожидал, одежда Эфраима его поразила.
– Я давал тебе есть три раза в день, Эфраим, – воскликнул Моррис, – так почему же ты покинул своего отца.
Эфраим смутился и не ответил, но Моррис, почувствовав прилив отцовской любви, – Эфраим ведь был такой маленький и хрупкий, – обещал помочь ему хорошо начать жизнь.
– Не беспокойся, я сделаю так, что ты сможешь закончить колледж.
Эфраим, как настоящий джентельмен, отвернулся, чтобы Моррис не увидел, как он сдавленно захихикал.
– Я тебе обещаю…
Мальчик рассмеялся и растворился в воздухе.
– Не умирай! – закричал Моррис, но Эфраима уже не было.
Почувствовав, что он просыпается, Моррис попытался снова уснуть и досмотреть сон, но ему уже не спалось. Он грустно подумал о своей впустую прожитой жизни. Он не смог прилично обеспечить свою семью – позор на его бедную, седую голову! Ида спала рядом. Моррису захотелось разбудить жену и попросить у нее прощения. Он подумал про Элен. Как это убудет ужасно, если она так и останется старой девой! Моррис вспомнил про Фрэнка и застонал. Он почувствовал раскаянье. Ради чего он загубил свою жизнь? Но ведь загубил все-таки: что правда, то правда.
«Интересно, – подумал он, – снег все идет или уже нет?»
Моррис умер в больнице три дня спустя, и на следующий же день его похоронили на огромном, растянувшемся на несколько миль, кладбище в Куинсе. Давным-давно, вскоре после того, как он приехал в Америку, Моррис вступил в Погребальное общество, и теперь прощальная церемония состоялась в зале Общества в Нижнем Ист-Сайде – в этом районе Моррис жил в юности. В полдень там появилась Ида, одетая в траур, вся серая, ежеминутно готовая упасть в обморок, и, покачивая головой, села на стул с высокой спинкой. Рядом с ней, всхлипывая, села Элен. Ландслойте, старые друзья, которые прочли о смерти Морриса в еврейской газете, подходили один за другим, целовали Иду и Элен в лоб и говорили что-нибудь утешительное, а затем сами садились на складные стулья и шопотом переговаривались между собой. Пришел Фрэнк Элпайн в неловко сдвинутой шляпе и смущенно постоял в углу. Когда собралось уже довольно много народу, он вышел из угла и сел среди прочих на одной из длинных скамеек, стоявших в длинном зале, скупо освещенном тусклыми желтыми лампами. В центре на металлической подставке стоял простой деревянный гроб.
В час дня седовласый гробовщик, шумно дыша, вывел вдову и дочь покойного в первый ряд, поближе к гробу. Послышались заглушенные всхлипывания. Пришли кое-какие старые друзья, несколько дальних родственников, знакомые из Погребального общества и двое-трое постоянных покупателей Морриса. У стенки понуро сидел Брейтбарт, торговец электрическими лампочками. Появился Чарли Собелов – грузный, пышный, круглолицый, со свежим флоридским загаром, вместе со своей изысканно одетой женой; они сидели и смотрели на Иду. Пришло все семейство Перлов: Сэм, и Бетти с мужем, и Нат – печальный, серьезный, беспокоящийся за Элен, в черной кипе. Позади них сидел Луис Карп, одинокий, больной, и его окружали незнакомые люди. Был тут и Витциг, пекарь, двадцать лет поставлявший Моррису хлеб и сдобные булочки. И мистер Джаннола, парикмахер, и Ник и Тесси Фузо (Фрэнк Элпайн сел на скамью у них за спиной). Когда через боковую дверь вошел бородатый рабби, Фрэнк снял, но тут же снова надел шляпу.
Сначала вперед выступил секретарь Погребального общества – почти совсем лысый человек в толстых очках и с мягким, нежным голосом. Он прочел по бумажке краткое вступительное слово, в котором воздал хвалу усопшему Моррису Боберу и выразил скорбь по поводу его безвременной кончины. Когда он объявил, что теперь можно подойти проститься с покойным, гробовщик и его помощник – человек в шоферской фуражке – откинули крышку гроба, и люди стали подходить и прощаться. Увидев восковое лицо отца, Элен заплакала навзрыд.
Ида выбросила вперед руки и заголосила на идиш:
– Моррис, почему ты меня не слушал? Ты ушел и оставил меня с ребенком, и теперь я одна в целом свете! Зачем ты это сделал?
Она рыдала и вся тряслась, и Элен вместе с гробовщиком довели ее до стула и усадили, и она уткнулась лицом в плечо дочери. Последним подошел к телу Фрэнк. Голова Морриса была обернута талесом, и там, где он чуть-чуть откинулся, Фрэнк увидел маленький шрам – но во всем остальном это был как будто бы и не Моррис. Фрэнк почувствовал, что он чего-то лишился в жизни, но это была уже давняя потеря.
Затем рабби – приземистый человек с остроконечной черной бородкой – сотворил молитву. Он стоял рядом с гробом в потертой шляпе, вылинявшем черном сюртуке, коричневых брюках и больших ботинках на толстой подошве. Прочитав еврейскую молитву, он подождал, пока все уселись, и грустным голосом заговорил о покойном:
– Дорогие друзья мои, я никогда не имел удовольствия встречать этого доброго бакалейщика, который лежит здесь, в этом гробу. Он жил в другом районе, в котором я никогда не бывал. Но сегодня мне довелось побеседовать с людьми, которые его хорошо знали, и теперь мне жаль, что я не был с ним знаком. О, как бы рад я был поговорить с таким человеком! Я познакомился с его вдовой, которая сидит здесь в своей глубокой скорби, ибо она утратила любимого мужа. Я познакомился с его дочерью Элен, которая осталась без отца, без руководителя и наставника на своем жизненном пути. С ними я познакомился, и еще познакомился я с ландслойте и со старыми друзьями усопшего, и каждый из них рассказал мне, что за человек был Моррис Бобер, который столь безвременно ушел от нас – из-за того, что заболел воспалением легких, когда расчищал снег перед своей лавкой, дабы прохожим было удобнее проходить по тротуару, – и, как я понял из их слов, Моррис Бобер был человек такой высокой честности, что честнее уж и быть нельзя. И мне грустно, что не был я знаком с этим замечательным человеком, когда он был еще жив. Если бы я его встретил – может быть, когда он пришел бы в наш еврейский район – может быть, в Рош-Хашана или в Песах, – я бы ему сказал: «Благослови тебя Бог, Моррис Бобер!» Вот Элен, его дорогая дочь, вспоминает, что, когда она была девочкой, ее отец как-то однажды бежал два квартала в метель, без пальто и шляпы, чтобы отдать одной бедной итальянской леди пятицентовую монету, которую она забыла у него на прилавке. Кто станет бежать зимой, в метель, без пальто, и без шляпы, и без галош два квартала, чтобы отдать покупательнице пять центов, которые она забыла взять? Разве нельзя было подождать, пока эта покупательница придет назавтра? Многие могли бы подождать, но не Моррис Бобер, да почиет он в мире! Он не хотел, чтобы бедная женщина беспокоилась, и вот он побежал за ней в метель, чтобы отдать ее пять центов. Вот почему у этого хозяина бакалейной лавки было столько друзей, которые восхищались им.
Рабби остановился и посмотрел поверх голов слушателей.
– И был он трудолюбив, этот человек, который не знал, что такое безделье. Сколько раз он вставал ни свет ни заря, сколько раз одевался холодным ранним утром – это и не сосчитать. А потом он спускался вниз, чтобы весь день не выходить из своей лавки. Он работал долгие, долгие часы. Каждый день он открывал лавку в шесть часов утра и закрывал ее в десять часов вечера, а то и позже. По пятнадцать, по шестнадцать часов в день проводил он в лавке, без выходных, только чтобы заработать своей семье на хлеб насущный. Его дорогая жена Ида рассказала мне, что она никогда не забудет, как каждое утро она слышала его шаги на лестнице, когда он спускался вниз, и как к ночи она слышала его шаги на лестнице, когда он поднимался наверх, закрыв лавку. И так было каждый день, на протяжении двадцати двух лет, день за днем, кроме, разве что, немногих дней, когда Моррис Бобер бывал болен. И только потому, что он работал так много и так самоотверженно, его семье всегда было что есть. Да, он был не только кристально честный человек, но и неутомимый труженик, который не жалел сил ради благополучия своих близких.
Рабби заглянул в молитвенник, потом снова поднял глаза.
– Когда умирает еврей, кто спрашивает, еврей ли он? Он – еврей, и мы ничего не спрашиваем. Есть много способов стать евреем. Но если кто-нибудь подойдет ко мне и спросит: «Рабби, можем ли мы назвать евреем того, кто жил и работал среди неевреев, и продавал им свинину, трефное, которое мы не едим, и за двадцать лет ни разу не зашел в синагогу, можно ли сказать, рабби, что такой человек – еврей?» И я скажу: «Да, для меня Моррис Бобер был настоящий еврей – потому что он жил, как еврей, и у него было, еврейское сердце». Может быть, он не соблюдал наших обрядов – за это я его не извиняю, – но он был верен духу нашей еврейской жизни: он делал другим то, чего он хотел для себя. Он следовал Закону, который Господь Бог дал Моисею на горе Синай и велел донести до его народа. Моррис Бобер страдал, он терпел, но никогда не гасла в его сердце надежда. Кто мне об этом сказал? Я знаю. Для себя он хотел очень малого – ничего он для себя не хотел, но для своей любимой дочери он хотел лучшей жизни, чем та, которую имел он сам. И потому он был еврей. Чего еще наш Бог требует от бедного народа своего? Так пусть же Господь позаботится о вдове усопшего, утешит и защитит ее, и даст сироте то, чего для нее хотел ее бедный отец. «Искадал веискадаш шмей рабо, беолмо дивро…»
Пришедшие на похороны встали и повторили молитву вслед за рабби.
Элен почувствовала себя неловко. «Он переборщил, – подумала она. – Я сказала ему, что папа был честный, но какой прок с этой честности, если из-за нее у него никакой жизни не было? Да, он бежал за этой бедной женщиной два квартала, чтобы отдать ей ее жалкие пять центов, но в то же время он то и дело доверялся мошенникам, которые его обдирали, как липку. Бедный папа! Он сам был честный и потому не верил, что другие – жулики. Он так и не сумел добиться того, ради чего он всю жизнь трудился как вол. Он отдал все, что имел, – по правде говоря, даже больше, чем имел, – а что он получил взамен? Он был совсем не святой, в каком-то смысле он был даже слабый человек; сила его была только в том, что у него было благородное сердце и что он умел понять других людей. По крайней мере, он знал, что хорошо и что дурно, что правильно и что неправильно. И я вовсе не говорила этому рабби, будто у папы было много друзей, которые им восхищались. Все это рабби сам придумал. Да, папу многие любили, но разве можно восхищаться человеком, который всю жизнь провел в такой дыре, как наша паршивая лавка? Папа сам себя в ней похоронил, у него не хватало воображения, чтобы понять, чего он себя в жизни лишил. Он сам сделал себя жертвой. А будь у него хоть чуть побольше мужества, он смог бы достичь куда большего, чем достиг».
Элен молилась, прося Бога даровать мир душе отца.
Ида, прижимая к глазам мокрый платок, думала: «Ну и что, что у нас было, что есть? Когда ты ешь, ты не хочешь думать о том, чьи деньги ты проедаешь – свои деньги или деньги оптовиков. Если у Морриса были какие-нибудь деньги, то у него всегда были и счета; если у него было чуть больше денег, так и счетов тогда тоже было больше. А ведь иногда хочется жить спокойно и не бояться, что завтра, не дай Бог, ты окажешься на улице. Иногда хочется хоть чуть-чуть покоя. Но, может быть, это моя вина: ведь это я же не позволила Моррису тогда пойти учиться на фармацевта».
Ида плакала, потому что, хотя она любила Морриса, она часто его пилила и ругала. «Элен, – подумала она, – должна выйти замуж за человека с образованием».
Кончив читать молитву, рабби ушел через боковую дверь, а несколько членов Общества и помощник гробовщика подняли гроб на плечи, вынесли и положили на катафалк. Все вышли следом за гробом, и большинство поехало домой. Фрэнк Элпайн остался сидеть один.
«Страдание, – думал он, – это как товар. Бьюсь об заклад, евреи могут из страдания шить одежду. И еще то смешно, что их вокруг куда больше, чем, казалось бы, должно быть, и никто не знает, откуда они все взялись».
На кладбище весна была в полном цвету. Снег уже стаял лишь на нескольких могилах остались белые проплешины, и в воздухе был разлит душистый весенний аромат. За гробом шла небольшая группа друзей и родственников; им было жарко в теплых пальто. На участке земли, принадлежавшем Погребальному обществу, двое могильщиков уже вырыли в земле свежую яму и стояли чуть отступя, опершись на лопаты. Когда рабби помолился над открытой могилой – вблизи было видно, что у него в бороде густая седина, – Элен прижалась лицом к гробу, который держали на плечах члены Общества.
Прощай, пала!
Затем рабби прочел молитву над гробом, пока могильщики медленно опускали его на дно могилы.
– Осторожнее… осторожнее…
Ида, которую поддерживали под локти секретарь Общества и Сэм Перл, безудержно рыдала. Потом она наклонилась к могиле и заголосила:
– Моррис, позаботься об Элен, слышишь!
Рабби, благословив могилу, бросил первую лопату земли.
– Осторожнее…
Могильщики принялись засыпать могилу, и рыдания стали громче.
Элен бросила в могилу розу.
Фрэнк, стоя у края могилы, наклонился вперед, чтобы посмотреть, куда упал цветок. Он поскользнулся, не удержал равновесия и, судорожно размахивая руками, свалился ногами вперед прямо на гроб.
Элен отвернулась.
Ида зашлась от крика.
– Убирайся отсюда! – сказал Нат Перл.
Один из могильщиков подал Фрэнку руку, и тот выкарабкался из могилы.
«Вот те на, испортил все похороны!» – подумал он.
Наконец, гроб скрылся под слоем земли. Рабби произнес последний короткий кадиш. Нат Перл взял Элен под руку и повел ее с кладбища.
Один раз она в слезах обернулась назад, а потом пошла с Натом.
Когда Ида и Элен вернулись с кладбища, в парадной их дожидался Луис Карп.
– Простите, что я вас беспокою в такой печальный день, – сказал Луис, держа в руке шляпу. – Но я хотел объяснить, почему папа не был на похоронах. Он очень тяжело заболел, ему придется пролежать в постели, наверно, месяца полтора. Выяснилось, что в ту ночь, когда папа потерял сознание после пожара, у него был сердечный приступ. Еще счастье, что он жив остался.
– Вейз мир! – пробормотала Ида.
– Доктор говорит, что папе придется бросить работу, – продолжал Луис. – И поэтому я не думаю, что он теперь захочет купить у вас лавку. А я, – добавил Луис, – нашел хорошую работу – коммивояжером в фирме по продаже спиртных напитков.
Он попрощался и ушел.
– Хорошо, что отец умер, – вздохнула Ида.
Поднимаясь вверх по лестнице, они услышали, как щелкает кассовый аппарат, и поняли, что тот, кто отплясывал на гробу бакалейщика, сам стал бакалейщиком.
Фрэнк жил в задней комнате лавки и вешал свою одежду в шкаф, который специально для этого купил. Спал он на кушетке, прикрываясь своим пальто. Пока мать и дочь целую неделю соблюдали траур, он сделал все, чтобы сохранить лавку. По крайней мере, лавка была открыта и продолжала как-то дышать. Если бы не Фрэнковы тридцать пять долларов, которые он каждую неделю клал в ящик кассового аппарата, лавка бы уже обанкротилась. Видя, что Фрэнк платит по мелким счетам, оптовики не отказывали ему в кредите. Заходили люди, говорили, как им жаль, что Моррис умер. Один покупатель сказал, что Моррис был единственным лавочником, который ему когда-то поверил в долг, и отдал Фрэнку одиннадцать долларов, которые он задолжал покойному бакалейщику. Тем, кто интересовался, Фрэнк отвечал, что продолжает работать, чтобы сохранить дело для вдовы, пока она в трауре. За это Фрэнк заслужил всеобщее уважение.
Он стал давать Иде по двенадцать долларов в неделю за жилье и сказал, что, когда торговля пойдет лучше, он будет платить больше. Когда это случится, добавил Фрэнк, он, может быть, купит у Иды лавку, но только в рассрочку, потому что у него не будет денег, чтобы заплатить сразу всю сумму. Ида ничего не ответила. Она волновалась за будущее и боялась остаться без куска хлеба. Они с Элен жили на деньги, которые ей платил Фрэнк, плюс на квартплату Ника Фузо да жалованье Элен. Ида нашла небольшую надомную работу пришивать погоны к военным мундирам. Каждый день Моррисов земляк Эйб Рубин привозил ей на машине целый мешок таких мундиров. Это приносило дополнительно около тридцати долларов в месяц. Теперь Ида редко спускалась в лавку. Чтобы с нею поговорить, Фрэнку приходилось подниматься наверх и стучаться. Однажды кто-то пришел взглянуть на лавку – кажется, ему Рубин посоветовал, – и Фрэнк забеспокоился, но человек этот вскоре ушел и больше не возвращался.
Фрэнк жил будущим, надеясь на прощение. Однажды утром, встретив Элен на лестнице, он ей сказал:
– Все изменилось. Я теперь не такой, как был.
– Всегда, – ответила Элеи, – ты напоминаешь мне о том, о чем я хотела бы забыть.
– Те книги, которые ты мне давала читать, – спросил Фрэнк, – ты сама-то их понимаешь?
Элен проснулась. Ночью она увидела неприятный сон. Ей приснилось, что она встала посреди ночи и хотела уйти из дому, чтобы избавиться от Фрэнка, который подстерегал ее на лестнице. Но он стоял там под желтой лампочкой, теребя пальцами свою шляпу. Когда Элен приблизилась к нему, Фрэнк беззвучно произнес одними губами:
– Я тебя люблю.
– Я буду кричать, если ты это скажешь.
Она вскрикнула и проснулась.
Без четверти семь Элен через силу выбралась из постели, заглушила будильник еще до того, как он зазвонил, и скинула ночную сорочку. Вид собственного тела произвел на нее угнетающее впечатление. «Зря добро пропадает», – подумала она. Ей хотелось стать снова девушкой – и в то же время матерью.
Ида все еще спала в своей слишком для нее теперь просторной постели, в которой до недавнего времени спали двое. Элен причесалась, умылась и поставила на плиту кофейник. Из кухонного окна она выглянула на задний двор, где уже пробивалась зелень, и ей стало ужасно жаль отца, который сейчас неподвижно лежит в земле. Что она ему дала, что она сделала, чтобы облегчить ему жизнь? Она всплакнула, вспомнив, как Моррис постоянно шел на уступки и сдавался. Она чувствовала, что хоть теперь должна что-то предпринять, чтобы чего-то достичь и не прожить свою жизнь так, как прожил Моррис. «Я должна, – подумала она, – обязательно должна рано или поздно закончить колледж!» Только если она чего-нибудь добьется, можно будет сказать, что Моррис все-таки прожил свою жизнь не напрасно – потому что он дал жизнь ей. На это уйдет много лет – но это был единственный путь.
Фрэнк перестал караулить ее в холле. Однажды утром она не выдержала и крикнула ему: «Ну, чего ты ко мне лезешь?» – этот возглас ударил его, как обухом по голове, и он ушел. Но после этого он, когда только мог, старался с ней встретиться, увидеть ее – хоть из окна лавки. Он следил за ней, как будто впервые в жизни видел ее стройную фигуру, ее маленькую грудь, ее округлые бедра и тонкие, чуть-чуть кривые ноги. Она всегда выглядела очень одинокой. Фрэнк пытался сообразить, что бы такое он мог для нее сделать, и все, что он мог придумать, – это подарить ей что-нибудь; но он знал, что она не примет от него подарка или выбросит его в мусорный бак.
Мысль что-нибудь ей подарить казалась совершенно утопической до тех пор, пока однажды, когда Фрэнк увидел, как Элен безучастно вошла в дом, ему в голову не пришла такая шальная мысль, что у него даже дух захватило. Он сообразил, что лучший подарок для Элен – если он даст ей возможность поступить в колледж; об этом она мечтала больше всего на свете. Но ведь даже согласись она принять его помощь (что само по себе представлялось Фрэнку сомнительным), где он достанет столько денег, если только не украдет их? Чем больше он размышлял о своем плане, тем больше возбуждался и, наконец, стал просто задыхаться от мысли, что это вряд ли возможно.
Фрэнк хранил у себя в бумажнике записку, которую когда-то написала Элен и в которой сообщалось, что она придет к нему в комнату, если Ник и Тесси уйдут в кино. Фрэнк часто перечитывал эти строчки.
И однажды ему пришла в голову другая идея. Он прикрепил к окну лавки объявление: «Горячие сэндвичи и супы на вынос». Может быть, ему удастся применить свой небогатый поварской опыт, чтобы оживить торговлю в лавке. Он напечатал десять рекламных плакатов с объявлением о новом виде услуг, и соседский мальчишка за полдоллара разнес эти плакаты по окрестным предприятиям. Фрэнк даже прошел следом за мальчишкой несколько кварталов, чтобы убедиться, что тот не выбросил плакаты в мусорный бак. И уже к концу недели в лавку к Фрэнку стали заходить рабочие, чтобы закусить в обеденный перерыв и после работы. Они говорили, что впервые поблизости появилось место, где можно взять что-то горячее и отнести домой. Фрэнк нашел в библиотеке поваренную книгу и по рецептам, которые в ней вычитал, стал приготовлять макароны равиоли и ласанью. Он начал экспериментировать и попробовал готовить в духовке газовой плиты небольшие пиццы – по две на порцию. Макароны и пиццы пользовались гораздо большим успехом, чем горячие сэндвичи, их охотно покупали. Он подумал даже, не поставить ли в лавке один-два стола, но для этого там не хватало места, так что пришлось продавать еду только на вынос и у стойки.
И была еще одна маленькая удача. Молочник рассказал Фрэнку, что у Тааста и Педерсена вошло в привычку орать друг на друга в присутствии покупателей. Вроде бы, выручка у них оказалась меньше, чем они ожидали. Их лавка давала хороший доход для одного человека, но для двоих этого было все же маловато, и каждый из компаньонов хотел выкупить у другого его долю. Первым сдали нервы у Педерсена, и он в конце мая продал свою долю Таасту, который после этого стал распоряжаться в лавке один. Но тут Тааст обнаружил, что после долгого рабочего дня у него начинают болеть ноги. Тогда его жена стала приходить на час-другой и помогать ему. А потом Таасту стало тоскливо, что вечером, когда вся семья дома, он один работает и почти не видит детей, и он решил запирать лавку в половине восьмого. Таким образом, в вечерние часы Фрэнк избавился от конкуренции. Эти два-три часа, когда Фрэнк оставался единственным бакалейщиком в квартале, очень ему помогли. К нему вернулись некоторые прежние покупатели и покупательницы, поздно возвращавшиеся с работы, и нередко вечером прибегала какая-нибудь домохозяйка, хватившаяся в последний момент, что у нее нет чего-то на завтрак. И, вглядевшись раз-другой в окно лавки конкурента после закрытия, Фрэнк заметил, что Тааст больше не предлагает щедрых скидок.
В июле в Нью-Йорке было ужасно жарко. Люди меньше готовили дома и больше покупали деликатесов, консервов и разных прохладительных напитков. Фрэнк стал продавать очень много пива. Его макароны и пиццы тоже шли хорошо. Кто-то ему сказал, что и Тааст пытается готовить пиццы, но они получаются у него слишком рыхлыми. Фрэнк отказался от суповых полуфабрикатов и стал сам готовить овощной суп минестроне, который всем очень нравился. На то, чтобы этот суп сварить, уходило немало времени, но выручка сразу же повысилась. Тогда Фрэнк стал платить Иде девяносто долларов в месяц за жилье и за аренду лавки. Кроме того, она теперь больше зарабатывала на своих погонах и перестала бояться, что умрет с голоду.
– Почему вы даете мне так много? – спросила она Фрэнка, когда он впервые вручил ей девяносто долларов.
– Может быть, Элен сможет оставлять себе больше денег от своего жалованья? – предложил он.
– Элен больше вами не интересуется, – сухо сказала Ида.
Он не ответил.
Но в этот вечер, поужинав яичницей с ветчиной и насладившись сигарой, Фрэнк освободил место на столе и стал подсчитывать, сколько ему понадобится денег, чтобы Элен смогла бросить работу и все свое время посвятить учебе. Подытожив все доходы и расходы и выяснив из справочника, какова будет для Элен минимальная плата за образование, Фрэнк понял, что денег у него ни за что не хватит. Он помрачнел. Позднее он подумал, что, может быть, он сумеет выкарабкаться, если Элен поступит в бесплатный колледж. Он мог бы давать ей достаточно на повседневные расходы и даже вносить ту сумму, которую она сейчас дает матери. Он понимал, что это будет ужасно трудно, но он должен был это сделать, в этом была его единственная надежда, ничего другого он придумать не мог. Все, чего он хотел для себя, – это возможность дать Элен что-то, что она не могла бы вернуть ему обратно.
И еще одна трудность заключалась в том, чтобы поговорить с Элен и сообщить, что именно он собирается сделать. Фрэнк давно хотел ей это сказать, но у него не хватало духу. Заговорить с ней после того, что произошло, казалось ему делом совершенно невозможным – чем-то опасным, постыдным и болезненным. Каким волшебным словом начать разговор? Фрэнк отчаялся когда-нибудь в чем-нибудь ее убедить. Она бесконечно от него отдалилась, он против нее согрешил, она ничего к нему не чувствовала, а если и чувствовала, то только омерзение. Сколько раз он себя ругал за то, что сам выкопал себе яму, из которой теперь не мог выбраться.
В один из августовских вечеров, увидев, что Элен вернулась с работы в сопровождении Ната Перла, Фрэнк, сатанея от неопределенности своего жалкого положения, решил, что разрубит этот гордиев узел. Он стоял за прилавком и укладывал бутылки пива в сумку покупательницы, когда увидел, что Элен прошла мимо окна со связкой книг под мышкой. На ней было новое летнее платье, красное с черным кантом, и при виде ее Фрэнк ощутил новый приступ вожделения. Все лето она бродила одна по вечерним улицам, пытаясь прогулками убить одиночество. Фрэнка подмывало начать ходить за ней следом, но до тех пор, пока он не обдумал как следует свою идею, он не знал, что ей сказать, чтобы она от него попросту не убежала. Постаравшись как можно скорее отделаться от покупательницы, Фрэнк наскоро умылся, причесался и надел новую спортивную рубашку. Затем он запер лавку и кинулся следом за Элен. Днем было жарко, но теперь, к вечеру, повеяло прохладой. Золотисто-зеленое небо постепенно темнело. Пробежав квартал, Фрэнк о чем-то вспомнил и потащился обратно в лавку. Он посидел в задней комнате, прислушиваясь, как у него бьется сердце, и через десять минут зажег свет в витрине лавки. Вокруг лампочки начал кружиться мотылек. Зная, как много времени Элен обычно проводит в библиотеке, Фрэнк побрился. Затем он снова запер лавку и направился по направлению к библиотеке. Он решил подождать на другой стороне улицы, пока Элен не выйдет из библиотеки, а потом перейти улицу и поравняться с ней, когда она будет идти домой. Не успеет она его увидеть, как он выпалит все, что хочет сказать. Элен может ответить «да» или «нет»; если «нет», то он на следующий же день закроет лавочку и смотается.
Фрэнк приближался к библиотеке, когда увидел Элен: она шла ему навстречу по другой стороне улицы и была от него примерно на расстоянии в полквартала. Он остановился. на зная, куда идти, боясь заговорить с ней, такой красивой. и стоял, как собака с подбитой лапой; и она прошла мимо. Он хотел уже было бежать назад, но тут Элен его заметила, повернулась и быстро пошла в обратном направлении. Снова, как раньше, он пошел за ней, и не успела она скрыться, как он ее догнал и коснулся ее руки. Оба вздрогнули. Не дав ей времени высказать свое презрение, он быстро выпалил все, что давно уже собирался ей сказать.
Когда Элен поняла, что именно Фрэнк предлагает, ей показалось, что сердце вот-вот выскочит у нее из груди. Едва увидев его, она поняла, что сейчас он ее догонит и заговорит с ней, но она бы и за тысячу лет не догадалась, что он скажет именно это. Зная, в каких условиях Фрэнк жил, Элен была как громом поражена, что он до сих пор умудряется преподносить ей сюрпризы, и один Бог ведает, что он выкинет в следующий раз. Его настойчивость совершенно ее ошарашивала и даже пугала, ибо с того дня, как погиб Уорд Миногью, она почувствовала, что ее ненависть к Фрэнку медленно, но верно испаряется. Хотя ее до сих пор приводило в ярость даже воспоминание о том, что произошло в парке, теперь она стала вспоминать и о том, как страстно она в ту ночь хотела отдаться Фрэнку – и, может быть, отдалась бы, не прикоснись к ней Уорд Миногью. Она ведь тогда действительно хотела Фрэнка. Не будь Уорда, не было бы и насилия. Если бы он овладел ею не в парке, а в постели, она ответила бы на его страсть. «Я ненавижу его, – подумала Элен, – так же, как и себя».
Но в ответ на его предложение Элен ответила твердым «нет». Она произнесла это слово почти жестоко, чтобы не быть ничем обязанной Фрэнку, чтобы еще раз не попасть к нему в ловушку.