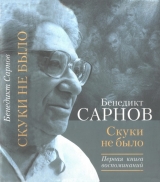
Текст книги "Скуки не было. Первая книга воспоминаний"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Обои на стене, газета на подоконнике, старая наша вилка, которую мы привезли с собой из Москвы, и другая вилка, со сломанным черенком, которую бабушка одолжила у соседей, – все, что ни попадалось мне на глаза, все напоминало мне о папе: папа не любил обоев, он говорил, что от них клопы; папа любил спать летом на улице, накрыв лицо газетой; папа ел этой вилкой, а этой вилкой он никогда не ел…
Тогда я стал нарочно думать о нем. О том, как до войны я ходил с ним в зоопарк или в кино. Стал вспоминать старые, давнишние наши разговоры.
Особенно отчетливо запомнился мне почему-то один такой разговор.
Это было вечером, в один из обыкновенных довоенных вечеров. Мама ходила из комнаты в кухню и из кухни в комнату, гремела посудой. Папа сидел на диване и читал газету, а я, по обыкновению, приставал к нему с расспросами о той, старой войне, в которой он когда-то участвовал.
– Пап, – спросил я, – а ты стрелял?
– Нет, сынок, не стрелял, только палочкой махал…
– Какой палочкой?
– Своей, капельмейстерской, дирижерской.
– И совсем не стрелял? Ни одного разочка?
Отец задумался и вдруг оторвался от газеты:
– Один разочек был. До сих пор вспомнить страшно…
Он встал, прошелся по комнате и опять надолго замолчал, словно забыл про меня.
– Ну! – требовательно сказал я.
И он начал рассказывать:
– Наша часть заняла Жлобин. Маленький городишко… Я остановился на квартире у врача. Квартира большая, а в ней только трое: врач, его жена и красавица-дочь…
– Ну уж, красавица… – это сказала мама.
– Я тебе говорю, Маша… Кра-са-вица! – весело сказал отец.
– Ну? – нетерпеливо сказал я.
– Ну и вот, – продолжал отец, – вечером эта красавица стала спрашивать у меня, вот совсем как ты, – сказал он мне, но посмотрел при этом почему-то на маму, – умею ли я стрелять, да заряжен ли у меня револьвер… Ну, я возьми и скажи: «Хотите, я вам покажу?» Она говорит: «Покажите!» Да… Стала у печки. Там у них в столовой такая белая кафельная печь была, большая. Стала и говорит: «Стреляйте!» И смеется… Я глянул: в барабане всего три патрона. Сейчас ударит вхолостую, а следующий выстрел уже будет настоящий. Ну, прицелился я в нее, и словно толкнул меня кто – не могу! Даже холостым не могу стрелять в живого человека… Поднял руку чуть повыше и спустил курок…
Отец замолчал и посмотрел на маму.
– Ну?! – еще раз сказал я.
– Ка-ак тут бабахнуло! От печки только осколки посыпались. Красавица стоит белая, как та печь, я весь дрожу… Оказывается, что произошло: когда на курок нажимаешь, барабан поворачивается и подает следующий патрон. А я про это забыл…
– И всё? – спросил я.
– А тебе мало? Ни за что ни про что чуть человека не убил.
– Ну-у, – сказал я разочарованно, – это не считается… А где теперь эта девушка?
Я плохо помню, что мне ответил тогда папа. Кажется, сказал:
– Ну, мало ли где теперь может быть эта девушка! Столько лет прошло…
Во всяком случае, мне тогда и в голову не пришло, что девушка, которую он чуть не убил, – моя мама.
А теперь, вспомнив этот давний разговор, я сразу посмотрел на маму. Она стояла около печки. У нас была тогда такая круглая черная печка в комнате. Мама стояла около этой печки, и лицо у нее было белое-белое. «Как та печь», – вспомнилось мне.
– Мам! – сказал я. – Помнишь, давно, до войны еще, папа рассказывал, как он нечаянно выстрелил в девушку. Это он тогда в тебя?..
Мама быстро вышла из комнаты. Я побежал за ней. Она вышла в кухню, опустилась на низенькую скамеечку, машинально зачерпнула кружкой воду из ведра и стала пить.
– Мам, – сказал я, – ну не надо…
Мама посмотрела на меня, закусив губу. «Сейчас заплачет!» – испуганно подумал я. Не знаю, почему я так боялся ее слез. Может быть, мне казалось, что если мама не плачет, значит, все еще не так плохо? Не знаю…
Я стоял перед ней, изо всех сил сжимая ее руку, и бестолково повторял одно и то же:
– Не надо, мам… Прошу тебя, ну не надо…
9
Кончался учебный год.
Я принес маме табель, в котором уже были проставлены годовые отметки. Она взяла его в руки, посмотрела и сказала:
– Ничего не понимаю… Какой Феликс?.. Борис, это твой табель?…
Я даже не сразу понял, о чем она. Так много времени прошло и столько событий случилось за это время, что я совсем забыл про свое новое имя.
В школе к нему давно уже все привыкли, перестали обращать внимание на его необычность. Толстую белобрысую верзилу с задней парты – Малю Попову – звали Амалией. Меня звали Феликсом. Мало ли бывает на свете разных имен?
Учителя обычно называли нас по фамилиям. Для них я был просто Сазонов. Только Иван Сидорович, наш новый учитель по литературе, наткнувшись в классном журнале на мое имя, сказал:
– Феликс! От-то да! Удружили родители… Сейчас такое имя редкость! А раньше, бывало, еще и не то встретишь. Ведь как бывало: сумели ублажить попа – наречет младенца как положено, даст имя человеческое. Обидели батюшку, мало поставили на крестины – он такое имечко в святцах разыщет, и не выговоришь…
Труднее всего было бы, наверное, привыкнуть к новому имени мне самому. Но мне привыкать не пришлось. Ребята с легкой руки Петьки Ивичева, который стал своим человеком у нас дома, звали меня Борей. То, что мальчика, носящего трудное и малопонятное имя Феликс, в обыденной жизни зовут Борькой, казалось им таким же естественным, как то, что всех Александров зовут Сашками или Шурками, а всех Николаев – Кольками…
Короче говоря, я и сам давно уже забыл о том, что стал Феликсом…
– Какая дикая фантазия! – сказала мама, когда я ей во всем признался. – Какая нелепая, дурацкая выдумка! И почему именно Феликс?
Мне не хотелось объяснять, почему. Да если бы и хотелось, я, наверное, не смог бы это сделать.
– Вот что, Боря, – сказала мама. – Эту глупую историю надо как-то кончать. На днях ты получишь свидетельство об окончании семи классов. Как ты себе представляешь, там тоже будет стоять какое-то чужое имя? Пойми, ведь это документ! Первый в твоей жизни настоящий, серьезный документ, который ты сам заработал. Это итог семи лет твоей жизни. И вдруг там будет написано, что ты – это не ты… Завтра же пойди и расскажи обо всем завучу!
Я молчал.
Я вдруг отчетливо увидел: фотография, два человека стоят рядом, и солнечные блики лежат на полу. На одном – шинель внакидку, у него худое изможденное лицо, острая бородка. Другой очень молод, он в кожаной куртке, в фуражке со звездой.
Фелька Кононенко сидит на столе, покусывая ноготь и обдумывая ход. «Да, – говорит он, – это отец рядом с Дзержинским… Поэтому меня и назвали Феликсом…»
Имя Феликс звучало тогда для меня почти так же, как самое главное слово на земле – «революция». А революция, думал я, – это праздник. Это солнце, сверкающее в медных трубах духового оркестра, это красные флаги…
Мне казалось, что если бы меня звали Феликсом, я бы тоже жил совсем в другом мире – в том большом, веселом и праздничном мире, в котором живут все настоящие революционеры.
Как давно это было! Каким маленьким и глупым я был тогда!
Но пойти и сказать Марье Алексеевне, что на самом деле я не Феликс, – этого я тоже не мог. Это значило отказаться от чего-то неизмеримо большего, чем имя. Тогда я не понимал, от чего. Теперь понимаю. Это было для меня все равно что перейти в другое гражданство.
– Не дури, Борька, ты уже не маленький! – сказала мама. – Завтра же пойдешь к завучу. Ну, договорились?
Я молчал.
Мама запустила пальцы мне в волосы, притянула голову к себе, посмотрела мне прямо в глаза.
– Глупый, – сказала она. – Совсем еще глупый…
10
На другой день в школе я, конечно, вспомнил бы об этом разговоре, если бы не выпускной вечер.
Наша школа была семилеткой. Если бы я кончил седьмой класс в Москве, это значило бы, что я перешел в восьмой. Только и всего. А здесь все было совсем иначе. Седьмой класс был самым старшим, последним.
Многие наши ребята вовсе не собирались учиться в восьмом классе. Некоторые уходили в техникум. Другие вообще бросали учебу.
– Работать пойдем, – говорили они, – хватит, выучились!
– А куда? – спрашивал я изумленно.
Они отвечали:
– В завод…
Отвечали так, как будто это было чем-то само собой разумеющимся.
Раньше мне и в голову не приходило, что, окончив седьмой класс, можно вообще перестать учиться в школе.
Школой измерялась вся моя жизнь. Я никогда не говорил о себе: «Это было, когда мне было одиннадцать лет». Я говорил: «Это было, когда я был в пятом классе».
Жизнь делилась на учебный год и каникулы. Каникулы означали конец учебного года и переход из одного класса в другой…
Все это было незыблемым, как порядок мироздания.
И вдруг оказалось, что этот порядок может быть изменен. Я сам могу его изменить. Стоит мне только захотеть. Захочу – пойду в восьмой класс, захочу – пойду в техникум. А захочу – вообще не буду учиться.
Так приятно было думать: «Надо решать».
В глубине души я, правда, не сомневался, что ничего решать мне не придется. Все произойдет само собой и так или иначе кончится тем, что я пойду в восьмой класс: бросить школу и мама не позволит, и вообще… Нет, я не собирался воспользоваться внезапно открывшейся мне возможностью. Но меня волновало, что такая возможность есть. Все-таки я не просто перешел из класса в класс – я кончил школу! Через три дня состоится выпускной вечер. Марья Алексеевна даже обещала, что у нас на вечере, возможно, будет ситро. Почти довоенная роскошь! Но даже если б не ситро, одних этих слов – «выпускной вечер» – было достаточно, чтобы я забыл обо всем на свете.
Неудивительно, что я не сразу вспомнил про свой неприятный разговор с мамой.
А тут еще прошел слух, что Марья Алексеевна запретила устраивать на выпускном вечере танцы. Нам, мальчишкам, конечно, было плевать на это. Но девчонки подняли страшный визг. Они требовали, чтобы классный организатор пошел к завучу и спросил, почему нельзя, чтобы были танцы!
Классным организатором у нас был Борц.
В Москве я привык к тому, что звание это не дает избранному никаких прав и не накладывает на него решительно никаких обязанностей. У нас обычно классным организатором выбирали самую тихую девочку, отличницу. Аккуратным, красивым почерком она составляла списки отсутствующих на уроке, и к этому, пожалуй, сводилась вся ее деятельность.
Когда на собрании в классные организаторы выдвинули Борца, я подумал, что он откажется. По моим понятиям, этого требовали приличия. Но Борц был откровенно рад и даже не пытался этого скрыть. Полыценно улыбаясь, он сказал:
– Ладно… Только, чур, слушаться!..
Его слушались. «Борц велел» – это было законом. Зато и он всегда был заодно с классом, даже если рисковал получить за это нагоняй.
Но тут Борц вдруг заупрямился. Идти к завучу и спрашивать, будут ли на нашем вечере танцы, он не хотел ни под каким видом.
– Хучь будут, хучь нет, – твердил он, – не пойду!
Но девчонки не успокаивались. Они сначала орали, потом стали умолять Борца, а когда и это не помогло, у них у всех стали такие жалкие, несчастные лица, что я не выдержал.
– Ну вас к черту! – сказал я. – Я пойду!
В учительской было тихо и непривычно пусто. На диване сидел Иван Сидорович и с сердитым, обиженным лицом читал газету. Он даже не поднял головы, когда я вошел, и пока я раздумывал, нужно ли поздороваться с ним или лучше незаметно пройти мимо, из соседней комнаты донесся голос, от которого я вздрогнул.
– Я понимаю, что эта глупость доставит вам много забот, но что ж поделаешь… – услышал я.
Никаких сомнений: это был голос моей мамы.
Я стал за шкаф с учебными пособиями, чтобы Иван Сидорович не мог меня увидеть, и прислушался. Говорили обо мне.
– Мало ли что может случиться, – сказала мама, – госпиталь могут неожиданно перевести в другой город, и тогда в восьмом классе Боре придется учиться уже не здесь…
– Ну конечно, – сказала Марья Алексеевна, – я и представить себе не могла… Разве можно угадать все, что они в состоянии выдумать! Он такой серьезный…
К Ивану Сидоровичу, видимо, кто-то подсел, потому что он вдруг громко сказал:
– От бисова душа!
И стал ругать Черчилля за то, что он долго не открывает второй фронт. Из-за Черчилля я прослушал, что говорила обо мне маме Марья Алексеевна.
Иван Сидорович ненадолго замолчал, и я услышал, как мама сказала:
– После разговора с ним я поняла, что он сам ни за что этого не сделает. Мальчишки в этом возрасте так самолюбивы!
– Да, – сказала Марья Алексеевна, – переходный возраст самый трудный.
Тут Иван Сидорович снова стал объяснять кому-то, что англичане всегда любили загребать жар чужими руками. Когда он замолчал, мама и Марья Алексеевна говорили уже о каких-то совершенно неинтересных и не касающихся меня вещах: об умении управлять своей фантазией, о сдерживающих центрах и еще какую-то ерунду о переходном возрасте.
Все это они говорили уже в дверях кабинета Марьи Алексеевны, буквально в двух шагах от меня. Я видел, как мама близоруко щурится. Потом она протянула Марье Алексеевне руку и улыбнулась, и сразу стало видно, что у нее сбоку не хватает двух зубов.
Когда она улыбнулась, острое чувство жалости к ней вдруг пронзило меня.
Раньше я бы сгорел со стыда от одной только мысли, что мама может прийти в школу и разговаривать обо мне, как о маленьком. Я не мог бы после этого посмотреть Марье Алексеевне в глаза.
А теперь – странное дело! – мне было решительно все равно, что подумает обо мне Марья Алексеевна и вообще кто бы то ни было.
«Не пойду я в восьмой класс, – вдруг твердо решил я. – И в техникум не пойду. Пойду работать на завод, как Колька Чапаев, как другие ребята. Получу зарплату и дам маме, и пусть она себе вставит золотые зубы…»
11
Через три дня, на выпускном вечере нашего класса, Марья Алексеевна вручала нам свидетельства об окончании школы.
Все было очень торжественно. На сцене нашего маленького школьного зала сидели все учителя, директор школы и еще какие-то незнакомые нам люди. Марья Алексеевна, улыбающаяся, в новом нарядном платье, называла имя и фамилию. Тот, кого выкликали, поднимался на сцену. Его поздравляли, говорили ему разные торжественные слова и давали свидетельство.
– Борц Григорий! – громко выкрикнула Марья Алексеевна.
Борц, красный от смущения, встал и подошел к столу. Марья Алексеевна стала что-то говорить ему, радостно улыбаясь.
Я представил себе, как дойдет очередь до меня и она так же громко, на весь зал, крикнет:
«Сазонов Борис!»
И, радостно улыбаясь, объявит:
«Вы думали, Сазонова зовут Феликс? Я тоже так думала! Но недавно выяснилось, что Сазонов нас обманул. Оказывается, все это была его фантазия…»
«Ну и пусть!» – подумал я и приготовился к самому худшему. И все-таки, когда очередь дошла до меня, сердце у меня ёкнуло.
– Сазонов Борис! – сказала Марья Алексеевна.
«Сейчас начнется! – пронеслось у меня в голове. – Сейчас все так и вытаращат глаза. Почему Борис? Какой такой Борис?»
Держа свидетельство в обеих руках, с напряженным, застывшим лицом, ни на кого не глядя, я прошел в самый конец зала и плюхнулся на стул рядом с Борцем.
– Дай помацать! – сказал Борц и потрогал мое свидетельство пальцем.
– Знаешь что!.. – зло сказал я. И вдруг осекся.
Я ждал насмешек. Самые безобидные слова в тот момент я принял бы за издевку. Но у Борца было такое бесхитростное и простодушное лицо, что я вдруг сразу поверил, что в словах его нет ничего, кроме простого любопытства.
Я поднял голову и поглядел на ребят.
Одни слушали, что говорила в этот момент Марья Алексеевна, другие, как мы с Борцем, бережно разглядывали только что полученные новенькие свидетельства.
Никто ничего не заметил.
Феликс Сазонов перестал существовать. Он пропал, растаял, рассыпался, растворился в воздухе. И никто этого не заметил.
Я был так поглощен случившимся, что не сразу понял, почему все вдруг встали и гурьбой двинулись в учительскую. Марья Алексеевна тоже не сразу это поняла. Она оборвала на середине длинную, торжественную фразу и уже не радостным, а обычным учительским голосом громко спросила:
– Что? В чем дело?
Все вразнобой закричали:
– Сообщение… Важное сообщение…
Только тут я сообразил: радио! Кто-то услышал позывные! Сейчас по радио передадут важное сообщение.
Когда я добежал до учительской, туда уже было не пробиться. Сзади меня, запыхавшись, шла Марья Алексеевна. Она осталась стоять в дверях, а я с трудом протиснулся внутрь. Борц, увидев, что я пытаюсь пробраться вперед и не могу, раздвинул толпу ребят, взял меня за плечи и поставил перед собой, прямо напротив нашего старенького школьного репродуктора. Его ручищи так и остались у меня на печах. Стоять было неудобно и жарко, но я бы ни за что не согласился, чтобы Борц убрал руки. Мне казалось, что он нарочно положил руки мне на плечи, чтобы показать, что считает меня товарищем, своим парнем.
Вот в последний раз прозвенели позывные, и знакомый голос Левитана сказал:
– От Советского Информбюро…
Я представил себе, как сейчас этот торжественный и печальный голос скажет: «После продолжительных, ожесточенных боев наши войска оставили город…»
Наверное, не я один так подумал. Мы все привыкли к этой фразе. Она почти не менялась. Менялись названия городов. В тот день на очереди был Воронеж.
Но тут голос Левитана внезапно утратил свой торжественно-печальный тон. Спокойно, как будто в этом не было ничего особенного, он сказал:
– Налет советских самолетов на Кенигсберг. На днях большая группа наших самолетов в сложных метеорологических условиях бомбардировала военно-промышленные объекты города Кенигсберга в Восточной Пруссии. В результате бомбардировки в городе возникло тридцать восемь очагов пожара, из них семнадцать пожаров в центре города…
Я осторожно оглянулся.
На всех лицах застыло одно выражение. Это было и напряженное внимание, и удивление, и робкая, недоверчивая радость, смесь радости и страха, что радость может оказаться преждевременной.
Я подумал, что и у меня сейчас, наверное, точь-в-точь такое же лицо.
– Четырнадцать пожаров, возникшие на юго-западной окраине города, – гремел голос Левитана, – сопровождались десятью взрывами. Семь очагов пожара и три сильных взрыва возникло на северо-западной окраине города…
Я вдруг вспомнил, как в самом начале войны прошел слух, что наши взяли Кенигсберг. Я не сомневался тогда, что это правда. Неужели это было так недавно? И неужели тогда уже была война? Не может быть! Это было тыщу лет назад, еще в той, прежней, довоенной жизни…
Теперь все было другое. Немцы были в Киеве, в Крыму и на Кавказе. Они были в той маленькой волжской деревушке, в которой мы с мамой жили, когда началась война.
И вот наши бомбят Кенигсберг! Это казалось чудом. Если б я не слышал это только что сам по радио, ни за что бы не поверил!
– Все наши самолеты вернулись на свои базы, – сказал Левитан.
Передача важного сообщения была окончена.
Мы стояли и молчали.
УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ
О Ленине мы узнавали от Сталина, о Марксе мы узнавали от Ленина и Сталина, о Дюринге мы узнавали из «Анти-Дюринга».
Эрнст Неизвестный
1
Борька Сазонов – это, конечно, я. (Недаром даже инициалы – первые буквы его имени и фамилии – совпадают с моими). И в то же время это – не совсем я. (Я ведь не зря предупреждал, что заменить не написанные мною главы воспоминаний о моем детстве эти два рассказа не смогут.)
Дело это в литературе самое обыкновенное. Можно даже сказать, что это – правило, не знающее никаких исключений. Литературный персонаж никогда не бывает тождествен своему прототипу. Даже Николенька Иртеньев – герой «Детства и отрочества» Л.Н. Толстого – это не совсем Толстой. А ведь во всей мировой литературе, я думаю, днем с огнем не сыщешь второго такого беспощадного самоаналитика, как Лев Николаевич.
Угол отклонения, неизбежно возникающий даже в самых правдивых автобиографических книгах, может быть не слишком велик. Но может достичь и девяноста градусов, а в иных случаях даже приблизиться и к ста восьмидесяти.
Вот, например, на всю жизнь врезавшаяся мне в память сцена из знаменитого романа Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» (кстати, одной из любимейших книг моего детства):
Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багрово-синими щеками… Она широко, по-мужски, расставила толстые ноги в белых войлочных чулках и погрозила дому кулаком.
– А, жидовские морды! – закричала она пронзительным, привозным голосом – Попрятались? Ничего, мы вас сейчас найдем!..
Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. Загремело листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков…
На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог, десятикратно усиленный в коробке парадного хода. Отец трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро, застегнулся на все пуговицы и бросился к двери…
– Папочка! – закричал Петя и бросился за отцом.
Прямой и легкий, с остановившимся лицом, в черном сюртуке, отец, гремя манжетами, быстро бежал вниз по лестнице.
Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Ее рука в нитяных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый голыш… За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чернобакалейщиков.
– Милостивые государи! – неуместно выкрикнул отец высоким фальцетом, и шея его густо побагровела. – Кто дал вам право врываться в чужие дома?.. Я не позволю!..
Женщина переложила камень из правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо.
Отец покачнулся, но ему не позволили упасть: чья-то красная веснушчатая рука взяла его за шелковый лацкан сюртука и рванула вперед. Старое сукно затрещало и полезло.
– Не бейте его, это наш папа! – не своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами. – Вы не имеете права! Дураки!.
Петя видел сочащуюся царапину на носу отца. Видел его близорукие глаза, полные слез, – пенсне сбили, его растрепанные семинарские волосы, развалившиеся надвое.
Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать.
– У, зверье! Скоты! Животные! – сквозь зубы стонал, отец, пятясь от погромщиков…
Маленький Петя Бачей – это, конечно, не кто иной, как сам автор романа. (Бачей – девичья фамилия матери Валентина Петровича Катаева.) И есть все основания предполагать, что сцена эта – не выдумана, что в ней отразились подлинные детские впечатления маленького Вали Катаева, оказавшегося свидетелем разразившегося тогда в Одессе еврейского погрома. Быть может, и чувства, охватившие сердце маленького Пети, – боль и негодование, ужас и гадливая ненависть к погромщикам – тоже не были выдуманными, сочиненными. Может быть, в душе писателя, создававшего эту сцену, на миг ожило, всколыхнулось все, что он на самом деле чувствовал тогда, в 1905-м…
Но несколькими годами позже (19 ноября 1911 года) тот же Валя Катаев, которому было тогда четырнадцать лет, опубликовал на страницах «Одесского вестника» – органа Одесского губернского Союза русского народа – такое стихотворение:
И племя Иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.
Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?
А спустя два года (27 января 1913 года) на страницах того же «Одесского вестника» – еще и такое:
ПРИВЕТ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА В ДЕНЬ СЕМИЛЕТИЯ ЕГО
Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый.
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал…
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни, Господь, Россию и царя.
Видит Бог, я припомнил тут эти два стихотвореньица Валентина Катаева, обозначившие самые первые его шаги на литературном поприще, совсем не для того, чтобы уличить автора романа «Белеет парус одинокий» в лицемерии и лжи.
Не сомневаюсь, что воссоздавая (вспоминая, а может быть, и воображая) в 1936 году картину погрома, разразившегося в Одессе тридцать лет назад, в дни его детства, он был искренен. А что касается его стишков, напечатанных в «Одесском вестнике», то они как раз вряд ли были такими уж искренними. Скорее были подсказаны политической конъюнктурой «дело Бейлиса» и, разумеется, страстным желанием – любой ценой! – напечататься, увидеть свое имя на страницах настоящей (все равно – какой) газеты.
Так-то оно так.
Но стишки эти, я думаю, в какой-то мере все-таки отражают атмосферу, царящую в семье юного поэта. Во всяком случае, прочитав их, трудно поверить в достоверности такого, например, ночного разговора, который ведут отец и тетка маленького Пети Бачея:
– Боже мой, Боже мой, страшно подумать, до чего дошла несчастная Россия! Бездарные генералы, бездарные министры, бездарный царь…
– Ради бога, Татьяна Ивановна. Услышат дети!
– И прекрасно, если услышат. Пусть знают, в какой стране они живут. Потом нам же скажут спасибо. Пусть знают, что у них царь – дурак и пьяница, кроме того, еще и битый бамбуковой палкой по голове. Выродок! А лучшие люди страны, самые честные, самые образованные, самые умные, гниют по тюрьмам, по каторгам…
Легко представить себе, как реагировали бы люди, ведущие по ночам такие разговоры, доведись им прочесть на страницах черносотенного листка приведенные выше стихи их любимого сына и племянника. Да и самому сыну такого отца и племяннику такой тетки вряд ли пришло бы в голову посылать в откровенно черносотенную газету откровенно черносотенные стихи, пусть даже и сочиненные из чисто конъюнктурных соображений.
Как ни крути, а угол отклонения тут виден ясно. При желании его можно даже довольно точно вычислить, измерить. Поскольку выражается он не только в эпизодах, которые можно толковать и так и эдак, но и в некоторых вполне конкретных подробностях, деталях, в чисто анкетных обстоятельствах и фактах, в которых «вилка» между биографической реальностью прототипа и его художественным отражением может быть установлена с абсолютной, математической точностью.
В повести «Белеет парус одинокий» отец Пети Бачея («либеральный господин», как называет его учитель закона Божьего в Петиной гимназии) – «преподаватель ремесленных училищ из школы десятников». А из другой – тоже автобиографической – книги Валентина Катаева («Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона»), увидевшей свет тридцать шесть лет спустя после появления романа «Белеет парус одинокий», мы узнаем, что отец маленького Вали Катаева вовсе не был преподавателем ремесленного училища. А был он, как там сказано, учителем в епархиальном училище, а по совместительству – в юнкерском.
Тут дело не только в том, что упоминание об этой – в общем-то, вполне невинной – подробности в романе «Белеет парус одинокий» было по тем временам нежелательно. Но назвав Петиного отца преподавателем епархиального – или юнкерского – училища, Катаев не только не укрепил бы, но даже слегка разрушил бы создаваемый им образ «либерального господина», чуждого и даже враждебного касте чиновников в крахмальных манишках и синих мундирах с орденами и золотыми пуговицами. А превратив своего отца в преподавателя ремесленного училища, он как бы даже приблизил его к пролетариату.
Еще более существенная метаморфоза произошла с дедом Валентина Катаева – отцом его матери. В романе «Белеет парус одинокий» мальчик просит бабушку прислать ему мундир покойного ее мужа (его прельщают пуговицы с орлами, которые должны красоваться на том мундире): «Ведь покойный-то дедушка, мамин папа, был майор!»
Из книги «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» мы узнали, что дед Валентина Петровича – «мамин папа – Иван Елисеевич Бачей» был не майором, а генералом. В 1972 году об этом не только можно было упоминать, этим можно было уже даже гордиться.
Повторю еще раз: все это я вспомнил совсем не для того, чтобы разоблачить, «вывести на чистую воду» писателя Валентина Катаева. Этот угол отклонения – явление в литературе самое обычное. И даже неизбежное.
Литературоведов, стремящихся с точностью до самого малого градуса вычислить величину такого угла, часто попрекают. Говорят, что занятие это (лезть в чужие тайны, копаться в чужом белье) не совсем приличное. А главное – совершенно зряшное. Вот, мол, перед вами текст, его и изучайте. В тексте есть все, остальное – от лукавого.
На самом деле, однако, стремление понять, в какую сторону, как далеко, а главное, с какой целью, с каким тайным умыслом отклонился автор от реальности, создавая свое автобиографическое или лирическое полотно, далеко не бессмысленно. Вычислив этот самый угол отклонения, сплошь и рядом можно проникнуть в такие глубины художественного текста, до которых иным способом, пожалуй, и не добраться.
Все это можно было бы показать на примере того же Катаева. (А можно, скажем, и на примере «Записок из мертвого дома» Ф.М. Достоевского.)
Но я пишу не о Катаеве и не о Достоевском, а о себе.
Когда мне пришло в голову включить в эту книгу те давние мои два рассказа, более всего меня тут привлекала – теперь в этом уже можно признаться – возможность определить, вычислить вот этот самый угол отклонения. Понять и увидеть разницу между моим Борькой Сазоновым и мною – тем мною, каким я тогда был.
Но сделать это я хотел совсем не для того, для чего это делают литературоведы, а с другой, скорее даже с противоположной целью.
Для литературоведа в этом случае, как я уже сказал, важна открывающаяся перед ним возможность лучше понять текст. Для меня же тут главное – вспомнить, понять, вытащить из себя все, что осталось за пределами текста.
2
«Каждый день, – почему-то написалось у меня в первом рассказе, – вернувшись из школы и пообедав, я должен был брать ноты и идти к нашим соседям Волковым, у которых стоял рояль…»
На самом деле, чтобы отрабатывать мою ежедневную музыкальную каторгу, ни к каким соседям мне ходить было не надо: у нас было свое пианино.
Когда мой рассказ был напечатан и я дал его прочесть отцу, тот, помню, был очень удивлен и, кажется, даже обижен этой дурацкой, по его мнению, выдумкой. Тот факт, что у нас было свое пианино – и не какой-нибудь там «Красный Октябрь», а «Бекштейн», – был предметом величайшей его гордости. И он никак не мог взять в толк, почему обладания «Бекштейном» надо было стыдиться.
Другое отклонение от реальности тогдашнего нашего бытия его, однако, не удивило. Во всяком случае, не вызвало у него никаких возражений. А состояло это отклонение в том, что если бы моя мама звонила с работы по телефону, чтобы справиться, прошел ли час, как я сел за пианино, то справлялась бы она об этом не у старушки-соседки, а у нашей домработницы Наташи. Но и у Наташи ей справляться об этом было не нужно, потому что, в отличие от матери моего героя, моя мама нигде не работала. Так было не всегда – в разные годы это бывало по-разному, но в описываемое мною время она числилась, как это тогда называлось, домашней хозяйкой.








