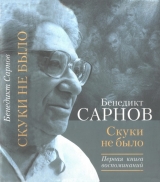
Текст книги "Скуки не было. Первая книга воспоминаний"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Спрошу я его, бывало, о положении рабочего класса и трудового крестьянства в дореволюционной России. Он – для порядка – ответит казенными газетными фразами, что положение это было неизменно тяжелое. А потом вдруг унесется мыслями куда-то вдаль, улыбнется размягченной блаженной улыбкой и вздохнет:
– Эх, Билюша!.. Знал бы ты, как все было просто… Ветчину эту, колбасу, которую сейчас днем с огнем не сыскать, тогда никто и не брал. Называли: «собачья радость»… За пятак возьмешь стопку водки, а закусывай – сколько влезет. Бесплатно. Никто закуски этой не взвешивал и не считал…
У них с отцом вообще было много общего.
Оба они не признавали безопасных бритв с трудно доставаемыми лезвиями. Оба ловко и быстро брились по-солдатски так называемой опасной, к которой мне строжайшим образом запрещалось даже прикасаться.
Впрочем, бритва – это пустяки. Главным, что сближало отца с Иваном Ивановичем, было то, что оба они жили до революции. «При старом режиме», как говорил отец, или «при Николашке», как говорил Иван Иванович, или «в мирное время», как говорили они оба.
Для меня вся мировая история начиналась в 1917 году. Все, что было до этой даты, я воспринимал как времена доисторические. А они в то доисторическое «мирное» время – уже жили. И даже были тогда уже взрослыми людьми. И поэтому знали про ту доисторическую жизнь что-то такое, чего нельзя было узнать ни из каких книг. Только вот из этих их разговоров.
И вот из этих их разговоров как-то так выходило, что до революции жизнь была лучше, чем сейчас. Во всяком случае, проще, естественнее, нормальнее теперешней.
Иван Иванович, правда, проговорившись, быстро спохватывался. Размягченная ностальгическая улыбка сменялась суровым, важным, «партийным» выражением. Лицо его словно бы озарялось светом некоего высшего знания, полученного им – там, в его ком– или промакадемии.
– Зато, – говорил он, строго подняв палец, – у нас не было химической промышленности. А теперь у нас есть химическая промышленность.
Но была одна тема, при малейшем приближении к которой Иван Иванович и отец сразу становились единомышленниками.
Этой темой был Сталин.
Нет-нет! О том, что сказал потом про Сталина в своем знаменитом докладе Хрущев, а тем более обо всем, что знаем мы про Сталина сегодня, они тогда не говорили. Речь шла совсем о другом…
Сравнительно недавно я читал воспоминания актрисы Е. Тяпкиной о Николае Эрдмане. И один рассказанный там эпизод вдруг сразу, как вспышкой молнии, высветил в моей памяти те давние их разговоры.
В 1925-м году Мейерхольд поставил первую эрдмановскую пьесу – «Мандат». (Тяпкина играла в ней Настю.) И вот однажды на репетиции произошел такой случай. Показывая матери и сестре свой фальшивый, им же самим состряпанный «мандат», ошалевший от собственной смелости Гулячкин (его играл Эраст Гарин) в экстазе выкрикивал:
– Копия сего послана товарищу Чичерину!
Реплика эта была эффектная – под занавес (ею заканчивалось второе действие комедии). А в устах Гарина она прозвучала так, что Мейерхольд смутился. Он сказал:
– Товарищи, все-таки Чичерин такое лицо… Неудобно!.. Надо кого-нибудь помельче.
И предложил заменить Чичерина Сталиным.
Прочитав это, я вдруг вспомнил, как Иван Иванович в ответ на жадные мои расспросы рассказывал мне, что вблизи («вот как тебя») видел всех вождей – и Ленина, и Троцкого, и Каменева, и Зиновьева.
– А этого-то, нынешнего хозяина, сколько раз видел! – закончил он свой рассказ.
И надо было слышать, сколько пренебрежения было в этой реплике, чтобы почувствовать, какой мелюзгой в сравнении с теми, «настоящими вождями» был в его глазах этот «нынешний хозяин».
Отец в разговорах с Иваном Ивановичем не раз повторял, что до смерти Ленина он имени Сталина вообще не слыхал. Иван Иванович возражал, но как-то вяло. Потом они долго о чем-то шушукались, и из этого шепотка однажды вылупилась хорошо запомнившаяся мне фраза: «Повар сей любит острые блюда». Отец вскользь заметил, что Ленин выразился именно так, а не иначе, потому что в старой армии поварами, как правило, были грузины. И тут меня озарило, что фразу эту Ленин сказал про Сталина. А в другой раз из этого их шушуканья выплыло слово «завещание». Потом оно стало мелькать в их разговорах все чаще, и спустя какое-то время до меня дошло, что речь шла о каком-то завещании Ленина, которое зачитывали на Пятнадцатом партийном съезде, на котором Иван Иванович был делегатом. Потом это завещание куда-то делось. Во всяком случае, от партии и от народа его скрыли. А говорилось там, что Сталин груб и поэтому не должен занимать пост Генерального секретаря.
Все это я постепенно сложил из их реплик, подслушанных в разное время, как в раннем детстве складывал, бывало, из своих детских кубиков цельную картинку.
Так или иначе, картинка сложилась довольно ясная. И вот поэтому-то я и не мог – никак не мог! – поверить, что Ленин считал Сталина своим единственным и законным наследником.
Я понимал, что из Сталина искусственно делают вождя. Понимал даже, что все эти выкрикиваемые пронзительными голосами здравицы в его честь, портреты, искусственно подогреваемые многочасовые овации и даже самая знаменитая, чуть ли не ежедневно повторяемая фраза – «Сталин – это Ленин сегодня», – что вся эта вакханалия как раз потому-то и нужна, что настоящих, законных прав на то, чтобы называться «Лениным сегодня», у Сталина как раз и не было. Но самым интересным и самым необъяснимым в тогдашних моих представлениях было то, что, зная и понимая все это, я ни разу, ни на секунду не усомнился в том, что ТАК НАДО.
Больше того! Как я уже говорил, читая печатавшиеся в газетах отчеты о больших московских процессах, я твердо знал, что ни Каменев с Зиновьевым, ни Бухарин с Рыковым, конечно же, не были предателями, за деньги продавшимися иностранным разведкам. Но в необходимости самих этих судебных процессов и суровых приговоров при этом не сомневался. Да, конечно, они не были теми чудовищами, которыми их изображали. Но они были против Сталина. Они были его врагами. Может быть, даже и в самом деле не прочь были бы отстранить его от власти, выполняя то самое завещание Ленина. Но – законно или незаконно, а так уж случилось, что Сталин – это Ленин сегодня. И поэтому выступать против Сталина – это значит бороться с советской властью, вредить советской власти, быть врагами советской власти. А с врагами, как сказал тот же Сталин, мы будем поступать по-вражески. Ничего не поделаешь: ТАК НАДО.
Вспоминая себя одиннадцатилетнего, и двенадцатилетнего, и четырнадцатилетнего, и даже шестнадцатилетнего, я теперь и сам с трудом понимаю, как все это могло уживаться в моем сознании, не разрушив, не разодрав, не взорвав всю тогдашнюю мою систему координат, всю мою ориентацию в мире. Насколько умнее – нет, дело не в том, что умнее, – насколько нормальнее меня был мой сверстник Гена, который довел свои сомнения до логического конца и пришел к выводу, что у нас в стране фашизм, и Ленин, будь он жив, сидел бы в тюрьме вместе с Троцким, Зиновьевым, Бухариным и другими своими соратниками.
Обретя эту новую, гораздо более ясную и стройную систему координат, я мог бы с тем же волнением, что и прежде, слушать свою любимую песню – «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных…».
Впрочем, нет! Все равно не мог бы. Слова – «Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах» – и в этом случае звучали бы фальшиво: ведь те, кого бы я в этом случае считал своими товарищами, ни при какой погоде уже не могли бы оказаться вместе с нами, в наших первомайских колоннах. Да и разве мыслимое это дело – быть заодно и с жертвой и с палачом? Не отречься от тех, кого объявили врагами, и в то же время не разорвать и свою связь с теми, кто призывал «поступать с ними по-вражески»? Такой «плюрализм в одной голове» был бы уже не метафорической, а самой что ни на есть настоящей, доподлинной шизофренией.
Хотя, что значит – был бы? Был! Без всякого сослагательного наклонения.
12
Мне рассказывали, что Зинаида Николаевна Пастернак (жена Бориса Леонидовича) с восторгом говорила, что ее дети больше всех людей на свете любят Сталина, а потом уже – ее, Гарика (первого ее мужа, Генриха Нейгауза) и Борю. И ей совсем не казалось диким и ничуть ее не оскорбляло, что в иерархии сердечных привязанностей ее маленьких сыновей Сталин безоговорочно занимает первое место, и только на втором и третьем идут родители.
Замечательное высказывание это говорит о многом. И свидетельствует оно отнюдь не только о некоторой – скажем так – умственной ограниченности его автора. Скорее наоборот: оно свидетельствует о том, что душа Зинаиды Николаевны была очень чутким барометром (или сейсмографом, уж не знаю, название какого прибора тут более уместно). Жена великого нашего поэта очень верно почувствовала (и сформулировала) основу основ сталинской системы ценностей.
Сталин, как известно, учился в духовной семинарии и следовательно хорошо знал известную формулу Христа, записанную в Евангелии от Матфея: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня… Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее».
Я не берусь судить о том, какой смысл вкладывал в эти слова Спаситель (или записавший их евангелист), но Сталин в эту свою претензию (а она у него, безусловно, была: тут, пожалуй, уместно вспомнить, что в газетах победоносного 45-го года Сталина неоднократно именовали Спасителем – с большой буквы) вкладывал смысл очень определенный. Он имел в виду, что любить его больше, чем отца и мать, – недостаточно. Надо еще быть готовым предать отца и мать. Совершивший такое предательство «ради Него» не только не потеряет душу свою, но, напротив, сбережет ее.
Высшей формой понимания – принятия в душу свою – этой сталинской претензии и самым лучшим ответом на нее был Подвиг Павлика Морозова.
«Подвиг» этот (хоть он и именовался подвигом, то есть чем-то исключительным, из ряда вон выходящим) ни в коем случае не следует рассматривать как явление уникальное и даже редкое: это был образец поведения для всех.
Когда я работал в «Пионере», позвонил мне однажды Лев Эммануилович Разгон и сказал:
– Не сердитесь, пожалуйста! Я послал к вам одну женщину. Она пишет рассказы… Рассказы, между нами говоря, довольно слабые. Но я вас прошу: будьте с нею поласковее. Если не сможете ничего отобрать, так хоть откажите ей как-нибудь помягче: она, бедняга, только-только вернулась. Отсидела двадцать лет…
Двадцать лет! Это произвело на меня впечатление.
Оттуда возвращались тогда многие. Но максимальный и чаще всего мелькавший в разговорах на эту тему срок отсидки определялся цифрой семнадцать. Сам Лев Эммануилович тоже отсидел ровно семнадцать лет. А тут – двадцать!
Естественно, я ожидал, что по этой рекомендации Разгона ко мне явится изможденная, быть может, даже дряхлая старуха.
Явилась, однако, весьма привлекательная молодая женщина. Молодая даже по тогдашним моим понятиям.
– Сколько же вам было, когда вас… Когда вы… И как вы ухитрились загреметь на целых двадцать лет? – не удержался я от вопроса.
И она рассказала такую историю.
Дело было в 1934 году (а не в тридцать седьмом, как у всех: отсюда и двадцать лет вместо семнадцати). Ей было девятнадцать лет, она была, как говорили тогда, на пионерской работе. Попросту говоря, была пионервожатой. Пописывала разные очерки и статейки, печаталась иногда в «Пионерской правде». То есть – была уже как бы на виду. И вот в награду за все эти ее комсомольско-пионерские заслуги послали ее на лето пионервожатой в знаменитый пионерский лагерь «Артек».
Работа эта ей нравилась, детей она любила, легко и хорошо с ними ладила, поскольку и сама была ненамного старше своих питомцев.
Но однажды произошел такой случай.
Созвал всех вожатых к себе в кабинет начальник лагеря и сделал им такое сообщение.
– Завтра, – сказал он, – к нам прибывает партия детей, повторивших подвиг Павлика Морозова. И мы должны устроить им торжественную встречу.
Все приняли это как должное. А если кто и удивился, то виду не подал, понимая, что возражать тут не приходится. Не смолчала только она – моя рассказчица.
– Понимаю! – прервал я ее рассказ. – Вы не удержались, наговорили им сорок бочек арестантов, сказали, как это чудовищно, когда сын доносит на родного отца, а общество не только поощряет доносительство, но даже объявляет это подвигом…
– Нет, – покачала она головой. – Ничего подобного я им тогда не сказала. Да по правде говоря, я тогда так и не думала. Я сказала всего лишь, что дети эти, конечно, герои: они действительно совершили подвиг, поступили как подобает настоящим пионерам, верным ленинцам. Но все-таки, сказала я, донести на родного отца или на родную мать – не просто. Для нормального ребенка это огромная душевная травма. Поэтому, сказала я, мне кажется, что не следует устраивать этим детям торжественную встречу. Да и вообще не стоит им напоминать об этом их подвиге. Надо просто принять их в наш коллектив и сказать всем нашим ребятам, чтобы они были к ним повнимательнее, чтобы ни в коем случае не заводили никаких разговоров на эту деликатную тему, ни о чем таком их не расспрашивали…
Ей, конечно, дали суровый отпор. Начальник лагеря сказал, что выступление ее по существу является антипартийным, что его даже следовало бы рассматривать как вылазку классового врага. Но зная ее как хорошего работника, настоящую комсомолку, преданную делу партии Ленина-Сталина, он считает возможным на первый раз ограничиться замечанием.
Тем бы, наверно, дело и кончилось. Но упрямая девчонка на этом не успокоилась.
Под впечатлением услышанного она сочинила рассказ о мальчике, который донес на своего отца, а когда отца арестовали, промучившись несколько дней угрызениями совести, не выдержал, кинулся в озеро – и утонул.
Мало того. Сочинив этот рассказ, она прочла его своим питомцам на пионерском костре.
Ну, и тут, конечно, уже ничто не могло ее спасти.
Судьба этой несчастной женщины, конечно, тоже меня впечатлила. Но более всего тогда поразило меня в ее рассказе, что детей, повторивших подвиг Павлика Морозова, было так много.
В тот день, который сыграл столь роковую роль в ее судьбе, их прибыла в Артек целая партия. Человек, наверное, тридцать или даже сорок. Но ведь были и другие дни. И Артек был хотя и главным, но все же не единственным пионерским лагерем в Советском Союзе. Прикинув мысленно, сколько же детей, повторивших подвиг Павлика Морозова, могло оказаться во всей нашей необъятной стране, я пришел в ужас.
На самом деле, однако, ужасаться надо было не этим поразившим меня цифрам.
Ужасаться надо было тому, что чуть ли не все население нашей страны состояло из Павликов Морозовых. Все мы в той или иной степени были Павликами Морозовыми.
Взять хотя бы вот эту несчастную девочку, про которую рассказала мне Ольга Львовна Слиозберг.
Ей смертельно не хотелось становиться Павликом Морозовым. Она честно написала матери, что лучше бы все-таки оказалось, что та никогда не была троцкисткой. Пусть уж лучше она окажется изгоем в этой стране, только бы не пришлось ей отрекаться от своей матери, предавать ее. Но если все-таки окажется, что мать – троцкистка, что ее арестовали не зря… Тогда… Что ж! Тогда никакого другого выхода у нее уже не будет. Тогда, не раздумывая, она откажется от матери и останется со всей страной, с партией, с комсомолом, с товарищем Сталиным.
А Александр Трифонович Твардовский даже и колебаться не стал. Сразу отказался от родителей, когда их выслали, хоть и твердо знал, что никаким кулаком его отец никогда не был. И – мало того! – убедил себя в том, что Тот, Главный его Отец, отправляя на медленную мученическую смерть с миллионами других ни в чем не повинных крестьян и его родителей, БЫЛ ПРАВ. Прав той самой своей, «нелегкой временами, крутой и властной правотой».
В сущности, каждый из нас стоял перед этим страшным выбором – предать или не предать родного отца.
Знаменитая сталинская формула – «Сын за отца не отвечает» – казалась тогда верхом великодушия. Она вполне всех устроила бы, если бы не была чистейшей воды лицемерием. Повторяя ее как заклятие, в глубине души все мы прекрасно знали, что при случае ответим за все: и за отца, и за двоюродную бабушку, и даже за то, что нам приснилось однажды в каком-нибудь странном и нелепом сне, который и сам Зигмунд Фрейд не исхитрился бы расшифровать.
Двойственность этой формулы и всю чудовищность проистекающей из нее психологической коллизии с предельной наглядностью обнажил Илья Ильф в одном раннем своем рассказе:
Иногда мне снится, что я сын раввина. Меня охватывает испуг. Что же мне теперь делать, мне, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов?
Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед. Он был гробовщиком. Гробовщики считаются кустарями. Не кривя душой, можно поведать комиссии по чистке, что я правнук кустаря.
– Да, да, – скажут в комиссии, – но это прадед. А отец? Чей вы сын?
Я сын раввина
– Он уже не раввин, – говорю я жалобно. – Он уже снял…
Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы. Это священники снимают рясу. Что же он снял?..
Я поеду домой, к отцу, к раввину, который что-то снял. Я потребую от него объяснений. Будет крупный разговор…
В том-то вся и штука, что знаменитая сталинская формула была не только лицемерна. Она отражала самую суть тех исключительных обстоятельств, в которые нас загнали, в которых нам приходилось жить. Истинный смысл формулы заключался в том, что каждый должен был в любой момент быть готовым к тому, чтобы отречься от отца, от всех своих связей, от своего собственного прошлого, и лишь тогда, став в каком-то смысле идеальным членом этого удивительного общества, он получит право надеяться, что общество, быть может, посмотрит сквозь пальцы на эти разорванные, но все же когда-то ведь существовавшие связи.
Формула «Сын за отца не отвечает» вполне устроила бы нас, если бы с нами играли честно. Если бы декларируемое в ней великодушие было истинным, а не фальшивым. Мы не понимали тогда, что формула эта безнравственна в самом своем существе. Потому что на самом деле СЫН ЗА ОТЦА ОТВЕЧАЕТ. Только нравственный урод, недочеловек, ублюдок может искренно, от души стремиться к тому, чтобы НЕ ОТВЕЧАТЬ за своего отца. Нормальному человеку такое насилие над собой – не под силу.
Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоедском галстуке возвращается к отцу. Стуча каблуками, он вбегает по лестнице из вареного мрамора на четвертый этаж… Сын не видел отца десять лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие порохом и селитрой.
Отец тревожно спрашивает:
– Тебе надо умыться? Пройди в ванную.
В ванной темно, как десять лет назад, когда вылетевшие стекла заменили листом фанеры. Ничего в отцовской квартире не изменилось за десять лет.
В темноте я подымаю руку кверху (там была полка и лежало мыло в эмалированной лоханочке), и рука находит мыло.
Зажмурив глаза, я могу пройти по всей квартире, не зацепившись за мебель. Память убережет меня от столкновения со стулом или самоварным столиком. Закрыв глаза и лавируя, я могу пройти в столовую, взять налево и сказать:
– Я стою перед комодом. Он покрыт полотняной дорожкой. На нем зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотография моего брата…
Отец стоит рядом со мной, поправляя пороховые усы…
Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его…
Позор, я люблю раввина!
Сердце советского гражданина, гражданина, верящего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа. Как могло это произойти? Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знакомо, и я скажу, кто тебя съест…
И съели бы. Со всеми потрохами.
Да, дело шло о жизни и смерти – ни больше ни меньше. И тем не менее, все решилось сразу, в один миг: сын почувствовал, что у него недостанет сил отмежеваться от родного отца. Он только воскликнул с безнадежностью отчаяния:
– Зачем, зачем ты был раввином?
И тут (такое, увы, могло быть только во сне) все вдруг разъяснилось самым счастливым образом.
– Я никогда не был раввином, – удивленно ответил отец. – Тебе это приснилось. Я бухгалтер, я герой труда…
Приснится же, в самом деле, такая чушь человеку!
Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь радостный и возбужденный. Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца, если он бухгалтер, если он пролетарий умственного труда, а не раввин.
К сожалению, не всем советским гражданам, даже свято верящим в строительство социализма, в отцы достались пролетарии умственного труда. Некоторым не повезло: их родители действительно были раввинами. Или попами. Или дьяконами. Или просто имели несчастье петь когда-то в церковном хоре. И с невезучими детьми этих недальновидных родителей все то, что с героем рассказа Ильфа случилось во сне, происходило наяву. Я уж не говорю о том, что и от пролетариев умственного – да и не только умственного – труда тоже приходилось отрекаться, если случалось им попасть в кровавую сталинскую мясорубку. А кто был от этого застрахован?
Нет, не зря, совсем не зря Зинаида Николаевна Пастернак говорила, что ее дети Сталина любят больше, чем ее и Борю.
Сыновья Зинаиды Николаевны (старшие; младший, Ленечка, родился в 1937 году, поэтому в середине тридцатых любить Сталина еще не мог) были моими сверстниками. Но я не могу себе представить, чтобы моя мама – не говоря уже об отце – сказала про меня такую глупость.
О любви к Сталину у нас вообще не было речи. Хотя…
Когда я был совсем маленьким и давился манной кашей или супом, а мать хотела впихнуть в меня еще хоть несколько ложек, она, бывало, говорила:
– Ну, еще одну… За папу… А эту – за маму… Теперь за бабушку… За Еву (это была младшая, самая любимая моя тетка)… А теперь – за Сталина… Нет-нет, еще одну, последнюю – за Ворошилова… Ну, ладно, самую-самую последнюю – за Калинина…
Выплюнуть кашу, которую мне предлагалось съесть за Сталина или Ворошилова, я не отваживался и, преодолевая отвращение, проглатывал и пятую, и шестую ложку. Но даже если считать, что в этом проявлялась моя любовь к Сталину и Ворошилову, следует все-таки признать, что Сталин и Ворошилов в маминой иерархии семейных авторитетов занимали все-таки не первое и второе, а в лучшем случае пятое и шестое место.
Из этого, однако, не следует, что всенародный психоз обошел меня стороной.
Я тоже рос (и не только рос, но и вырос) Павликом Морозовым.
Вспомните душевные терзания моего двойника – Борьки Сазонова:
…Мой отец никогда не работал с Дзержинским. Он работал…
Вот так всегда! Всякий раз, когда мне приходилось отвечать на вопрос, где работает мой отец, я краснел, заикался и не знал, что ответить.
Все наши ребята хвастались отцами. С нарочитой небрежностью произносили они звучные, иногда короткие и простые, а чаще длинные и малопонятные слова:
– Мой батя работает на «Шарикоподшипнике».
– А мой отец в Цэсэу…
– А мой в Главпуре РККА!
Не каждый из нас знал, что Главпур РККА – это значит «Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Да и те, кто знал, наверное, не очень ясно представляли себе, что это такое – «Главное политическое управление». Но все мы понимали, что люди, работающие в учреждении с таким названием, делают что-то очень важное. Не просто важное, а важное для революции.
Тогда все измерялось этой мерой. Если человеку хотели сказать, что его поступок не имеет решительно никакого значения, ему говорили: «Революция от этого не пострадает». А разве пострадала бы революция, если бы ушел с работы мой папа?
Он был преподавателем консерватории. Это слово — «консерватория» – казалось мне таким же противным и старорежимным, как мое имя.
У нас дома на стене тоже висели фотографии. Но это были совсем другие фотографии, не похожие на ту, что я видел у Фельки. На одной из них отец был снят в очень твердом, подпирающем шею крахмальном воротничке и в галстуке бабочкой. На другой – в высокой фуражке с кокардой с блестящим козырьком В таких фуражках до революции ходили студенты консерватории.
Я стыдился профессии отца. Мне казалось унизительным и глупым, что большой, взрослый мужчина, вместо того чтобы быть военным, моряком или летчиком, занимается таким не настоящим, не мужским делом
Это был первый, еще очень робкий, но все-таки шаг к тому, чтобы мой герой стал Павликом Морозовым.
Пока еще он отца ни в чем плохом не подозревает. Он только стыдится его и – втайне – мечтает о том, чтобы у него был другой папа. То есть он уже предал отца – пока еще не на деле, а только в сердце своем.
Но за первым шагом следует второй:
Я стал рыться в столе и наткнулся на фотографии. Они были совсем не интересные, не фронтовые. На табуретке сидит здоровенный толстомордый парень в начищенных до блеска сапогах. Рядом с ним стоит такая же здоровая, наверное, очень краснощекая, девушка На обороте очень крупными каракулями написано: «На память Николаю Петровичу от Афанасия и Веры».
– Пап, это кто? Это же не на фронте, а ты говорил, что здесь фронтовые…
Отец оторвался от нотного листка, взглянул на фотографию и улыбнулся:
– Это мой денщик со своей невестой.
– Денщик? – Я был поражен. – У тебя был денщик?.
Я бы, конечно, так скоро не оставил его в покое, но тут мне на глаза попалась еще одна фотография. Да, уж тут не могло быть никаких сомнений – это была настоящая, фронтовая! У сломанного дощатого забора стоят трое военных. Один из них – отец. У всех на фуражках – круглые маленькие кокарды, на плечах – погоны.
С ужасом, не веря, что это может оказаться правдой, я спросил:
– Па, ты был белый?
– Что?! – Отец поднял голову от нотного листка – Что за чушь ты городишь?
– А почему погоны?
– Ну ей-богу! Ты ведь не маленький. Должен знать. Это было еще в империалистическую. Я служил в старой армии. Тогда все носили погоны…
– Но ты был офицер? У тебя был денщик, значит, ты был офицер!..
Тут до «подвига Павлика Морозова» совсем уже недалеко.
Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от своего героя, я никогда не завидовал ребятам, отцы которых работали на «Шарикоподшипнике», в ЦСУ или Главпуре РККА. И никакого Феликса Кононенко, отец которого работал с Дзержинским, в моей жизни тоже не было. И никогда в жизни я не подозревал моего отца в том, что он был «белый». Все это я выдумал. Выдумал, наверно, как раз для того, чтобы показать, как близок был мой герой к Павлику Морозову.
Стало быть, я тут ни при чем?
Да, вроде – ни при чем. Хотя… Выдумать-то я это выдумал, но все-таки не высосал из пальца. Что-то такое во мне все-таки было. Какую-то крохотную искорку, еле-еле тлевшую в детской моей душонке, я в себе обнаружил и – расшевелил, раздул ее, претворив в эту выдуманную сцену.
Нет, все-таки я таким не был. До откровенного предательства, даже такого крохотного, на которое оказался способен мой герой, я все-таки не дошел.
Но значит ли это, что я был умнее и лучше моего героя?
Умнее – может быть. Своего Борьку Сазонова я и в самом деле – сознательно или неосознанно – в сравнении с собой сильно оглупил.
Но лучше?
Нет, на самом деле я был хуже, гораздо хуже своего героя.
Ведь он свое маленькое предательство совершил в детстве. И тогда же, в детстве, изжил, задушил в себе Павлика Морозова.
А я, сам того не подозревая, оказался Павликом Морозовым уже будучи вполне взрослым человеком, – когда сочинял вот эти самые свои рассказы.
Герой рассказа Ильфа даже во сне не смог отмежеваться от своего отца. А почему? Что ему помешало?
Ему помешала память. Память сердца, которая, как известно, сильней печальной памяти рассудка.
Ему помешало то, что рука его сама знала, где находится эмалированная лоханочка, в которой лежало мыло. И то, что, закрыв глаза, он мог бы пройти по старой отцовской квартире, безошибочно сказав, что вот сейчас он стоит перед комодом, покрытым полотняной дорожкой. А на комоде – зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотография…
Но ведь и я, когда писал свои рассказы, тоже мог бы, закрыв глаза, вспомнить комнату моего детства. Пианино, на котором стояли старинные бронзовые часы с фигуркой крестьянского мальчика, сидящего на бронзовой лошадке. Он сидел на ней боком, свесив ноги, и я любил глядеть на его маленькие бронзовые ступни. Левой рукой он обнимал маленький снопик бронзовых колосьев, а правой придерживал лежащее на коленях бронзовое птичье гнездо с крохотными яичками. На корпусе – слева – из бронзовых завитушек высовывалась крохотная рогатинка, на которой висел медный ключик: им – точно раз в две недели – отец заводил часы. Делать это надо было медленно, совершая ровно десять полных оборотов, чтобы, не дай бог, не лопнула пружина.
Перед часами – гуськом – шли друг за другом семь маленьких мраморных слоников – один другого меньше. Слева и справа от часов стояли две узкие стеклянные вазы, в которые мама иногда ставила цветы (особенно запомнилась почему-то ветка мимозы). А перед вазами – в рамочках – фотографии. На одной – я, совсем маленький, годовалый. На другой – дед, которого я живьем ни разу не видел, с усами и бородкой, как у французского короля Генриха Четвертого, – тот самый дед, в честь которого меня назвали бы Феликсом, если бы я родился на шесть лет позже…
Но моя «память сердца» не помешала мне в одно мгновенье, легко и просто отречься от всех этих аксессуаров моего детства и выдумать, будто мой герой (то есть – я) уходил терзать свою домажорную гамму к соседям, потому что у них (в отличие от нас!) был рояль.
Впрочем, это мелкое предательство было совершеннейшим пустяком по сравнению с изменой, совершенной мною во втором моем рассказе.
Я постыдился описать моего отца таким, каким он был. Я предал его, сочинив себе другого отца, который, провожая нас в эвакуацию, не прыгнул в последний момент в теплушку, чтобы уехать с нами, а, отправив нас, ушел в ополчение и погиб.
Не знаю, не помню, что я думал тогда об этом, и думал ли вообще. Но совершенно очевидно, что где-то в глубине своего сознания (или подсознания) я верил, что не найти в себе сил расстаться со мною и с мамой, не смочь бросить нас одних на произвол непонятной военной судьбы – было неправильно. А записаться в ополчение и бессмысленно, без всякой пользы погибнуть в первые же месяцы войны или попасть в плен вместе с миллионами окруженцев, загубленных наложившим в штаны величайшим полководцем всех времен и народов, – вот это было бы правильно.
Вот и выходит, что и я тоже был одним из тех, кто – пусть не на деле, а только в сердце своем – но все-таки повторил подвиг Павлика Морозова.








