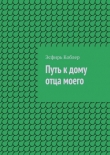Текст книги "И было утро... Воспоминания об отце Александре Мене"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Стараниями учителей и родителей в нашей гимназии была создана такая обстановка, что мы почти не чувствовали гнёта существовавшего тогда в стране режима. Иногда учителя прямо говорили о том, что полицейско–монархический строй является несправедливым и что наступит время, когда в России будет, если не демократическая республика, то по крайней мере, ответственное министерство. Слова «казённая гимназия» означали для нас нечто очень мрачное, и мы очень жалели тех детей, которые туда попадали. Наш учитель истории, Василий Николаевич, был одновременно преподавателем казённой гимназии. Поэтому он, единственный из наших учителей, носил мундир.
Однажды кто‑то из учеников пожаловался на трудность учебника Виппера по древней истории, добавив, что нигде не занимаются по этому учебнику, так как он запрещён циркуляром министерства народного просвещения. В. Н. весь вспыхнул. «Хорошо, – сказал он, – в таком случае давайте жить по циркуляру». И он яркими красками описал нам, во что превратилось бы все наше обучение и вся наша школьная жизнь, если бы мы стали жить «по циркуляру». Картина получилась достаточно убедительная. С тех пор никто уже не заговаривал о трудностях учебников.
Préparons‑nous pour la guerre!
Préparons‑nous pour la paix!
(Будем готовы к войне!
Будем готовы к миру!)
А. Г. каждое лето ездила в Париж и закупала там для нас французские учебники и книги для чтения. В третьем классе мы в последний раз получили учебники из Парижа, в 1914 году они могли быть доставлены только из Швейцарии. Книги эти имели особую прелесть. Близкие сердцу ребёнка художественные образы заставляли забыть о том, что рассказы написаны на иностранном языке. Стремление к сильным переживаниям и героическому так сильно на пороге отрочества! Разве можно забыть маленького барабанщика или того маленького героя времён Великой французской революции, которому вандейцы обещали жизнь, если он воскликнет «Viva la Roi!», и который предпочёл умереть с возгласом: «Viva la Republique!»
«Кто из вас поступил бы так же, как этот мальчик?» – спросила А. Г. Наступило глубокое молчание. Казалось, каждый взвешивал силы и не решался подвести итоги. «Я», – робко ответило 2–3 голоса. Много рассказов и стихов было посвящено эпохе франко–прусской войны. Поэты советовали нам:
Préparons‑nous pour la guerre.
Préparons‑nous pour la paix.
L’avenir obscure naguère
Soulevé son voit épais.
(«Будем готовиться к войне. Будем готовиться к миру. Будущее – вчера ещё тёмное, приподнимает своё густое покрывало»).
Будущее поднимало своё густое покрывало, надвигалась первая мировая война.
В деревне, где мы проводили каждое лето, стояли гусары. Они размещались по два–три человека в каждой избе. Это были большей частью молодые крестьяне с Украины. Они нравились нам своей ловкостью, весельем и простодушием. Мы любили их красивых стройных коней и мелодичные призывные сигналы горна, раздававшиеся по несколько раз в день, но приятней всего было слушать их хоровое пение по вечерам. Мы как-то сжились с их бытом, как и с бытом самой деревни.
Часов в 8 вечера гусары собирались у колодца на краю деревни, пели хором вечерние молитвы, а затем воздух долго оглашался то грустными, то весёлыми звуками украинских песен. Мы, дети, уже лёжа в постели, заслушивались их пением, в котором, казалось, изливалось всё, что накопилось в душе каждого из певцов и которое так гармонировало с наступлением летней ночи.
В деревне от времени до времени появлялся торговец мясом. Он проезжал по главной улице на небольшой старой тележке и, сзывая покупателей, протяжно выкрикивал: «У–е-ду, не приеду!» Эти слова оставляли непонятный след в душе и казались мрачным предзнаменованием. Вскоре мясник был взят в армию и убит на фронте. Веничка до конца своей жизни вспоминал эти слова. И ему суждено было уехать и больше не возвращаться…
Стояло лето 1914 года. Все упорней становились слухи о войне. 19–го июля была объявлена мобилизация.
Казалось, всё изменилось с этого дня. Война стала реальностью, повседневной жизнью. Наши друзья – гусары уехали на фронт. Немногие из них остались в живых. Днём и ночью шли мимо нас поезда: на фронт с мобилизованными, с фронта с ранеными.
По ночам раздавались тревожные гудки паровозов, а в стуке колёс слышались зловещие слова:
«у – е д у, – не приеду!»
Война изменила все. Как будто все сразу выросли и сблизились между собой. Героическим дышала страна. И сердце росло, расширялось за пределы узкого круга семьи и друзей. Родными казались матери и дети солдат, ушедших на фронт. Наша гимназия организовала свой лазарет. Мы помогали ухаживать за ранеными, читали им, писали за них письма, катали бинты, собирали подарки для фронта. С волнением открывали каждое утро газеты, ждали вестей с театра военных действий. Искали отклика пробудившимся чувствам в искусстве и литературе. Помню, в первые дни войны на концерте я услышала песню, слова которой меня поразили и заставили задуматься:
Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.
Все связанное с войной переживалось особенно остро. Однажды я прочла во французской хрестоматии стихи, которые буквально потрясли меня глубиною описанных в них переживаний. Там говорилось о молодой девушке, весёлой и жизнерадостной. Она жила мирно и беззаботно и имела жениха, которого очень любила. Но вот объявлена война. Родина в опасности. Жених уезжает на фронт. Девушка плачет о нём, но и смеяться она не перестала.
«Она закрыла рояль и надела чёрное платье…» Она уходит на фронт сестрой милосердия. Там узнает о том, что жених её убит. Она не предаётся отчаянию, но ещё с большим усердием продолжает исполнять долг милосердия. Однажды в палату приносят умирающего пленною. Она самоотверженно ухаживает за ним. Вечером, рассматривая бумаги больного, она с ужасом узнает, что это тот самый неприятельский солдат, который убил её жениха.
Подавив собственные страдания, во имя Высшей Любви, она продолжает ухаживать за раненым врагом всю ночь. Утром пришёл врач. Больной был вне опасности, но голова девушки стала совершенно седой.
Так вот она, война! Вот она, жизнь!
Мужество, отказ от себя, любовь к врагам!
Я не заметила, что это случайно прочитанное мною стихотворение стало для меня первой проповедью христианства.
В 5 классе к нам поступил новый учитель. Сергей Николаевич должен был быть нашим классным наставником и преподавать русский и латинский языки. Два года пробыл у нас Сергей Николаевич. Я не могу вспоминать о нём без чувства самой глубокой благодарности.
Трудные были годы. В общественной жизни: затянувшаяся война, государственные неурядицы, две революции… В личной – сложный и мучительный переход от отрочества к юности.
Сергей Николаевич чем‑то резко выделялся из среды наших учителей: в нём не было свойственной всем интеллигентам того времени сложности, которая при всём большом культурном богатстве, оставляла чувство неопределённости, неуверенности. В Сергее Николаевиче поражала цельность, глубокая внутренняя честность и принципиальность, основанная на незыблемом твёрдом фундаменте, которого мы не чувствовали у других педагогов, «колеблемых ветром учения». И это именно здоровое ядро его личности, «высокий строй души», ясность взгляда на жизнь, уверенность и простота во всём – так благотворно и целительно влияли на неокрепшие ещё, мятущиеся души подростков. Даже сама манера держаться, исходившая изнутри его личности, имела большое значение. До сих пор помню, как С. Н. входил в класс, здоровался, доставал книги и начинал урок.
При воспоминании об этом я всегда представляю себе ясное зимнее утро, залитый солнцем класс, нерастаявшие снежинки на усах и бороде С. Н. Он вселял какую‑то бодрость, спокойствие, желание работать; каждому делу он отдавался целиком со всей свойственной ему искренностью и честностью, в его присутствии всё делалось осмысленным и интересным. Чем бы мы ни занимались на уроке, были ли это памятники древней русской словесности, стихи Овидия или латинские склонения, – всё становилось интересным, понятным и необходимым. С. Н. учил нас работать.
Сочинение по русскому языку всегда задавалось за месяц вперёд, но начинать работать над ним мы должны были в тот же день, когда оно было задано. СН. просматривал план каждого сочинения, черновики, те части работы, которые были сделаны в течение недели. Он как бы хотел видеть и чувствовать самый ход мысли каждого. Как это помогало упорядочить не только свою работу, но и свой внутренний мир!
Каждый предмет приобретал в руках С. Н. такой несомненный смысл, что уроки его нельзя было забыть. Сейчас, когда прошло уже больше 40 лет с тех пор, и многое забылось, исторические или художественные образы, данные С. Н., остались в памяти на всю жизнь: Владимир Мономах, Юлания Лазаревская, Ниобея, Филимон и Бавкида и многие другие.
Бесчисленные вопросы вознйкали у каждого из нас в связи со всем, что приходилось видеть и переживать. На переменках все обступали С. Н., и каждый что‑то горячо доказывал. Раз в неделю собирались по вечерам. С. Н. внимательно выслушивал всех, никому не навязывая своих убеждений. Однажды С. Н. спросили, как относится он к учению Л. Н. Толстого. «Ещё студентом, – рассказывал С. Н., – я ездил в Ясную Поляну. Лев Николаевич долго со мной беседовал, но он не мог убедить меня в истинности своего учения». В другой раз кто‑то спросил С. Н. о марксизме, С. Н. кратко отвечал: «Изучайте марксизм. И я изучал, но не принял».
Некоторые учащиеся считали себя сторонниками той или иной политической партии. С. Н. говорил: «Не так важно, будете ли вы эсерами, большевиками или монархистами, важнее всего, чтобы вы были честными эсерами, монархистами или большевиками».
Каждое слово, сказанное С. Н., исходило из глубокого внутреннего убеждения и потому было действенным и незабываемым.
По пятницам мы собирались после уроков, чтобы катать бинты в помощь фронту. Накануне экзамена по географии большинство не явилось для участия в этой работе. На следующий день, поздравляя всех со сдачей экзамена, С. Н. особенно горячо поздравил тех, кто даже перед экзаменом нашёл возможным участвовать в помощи раненым. «Помните, – сказал он, – что общественное дело всегда должно быть на первом месте, а личное – на втором».
Однажды нам задано было сочинение на тему о войне. Все написали в обычном патриотическом духе, и только Катя Г. (дочь толстовца) и Слава Д. (сын большевика) написали нечто совершенно противоположное. Возвращая тетради, С. Н. обратился к ним и сказал: «Я не согласен с вами обоими, но я рад за вас, что вы решились высказать свои убеждения против всех. Так всегда должен поступать честный человек».
При ясном сознании общественного долга С. Н. не способен был ни на какие компромиссы или сделки с совестью. Он говорил: «Я могу бороться против какого‑либо предложения, которое кажется мне нецелесообразным, но как только оно стало законом, я обязан ему подчиниться. Я обязан подчиняться обществу и государству во всём, исключая то, что противоречит моим нравственным или религиозным убеждениям. Здесь я не подчинюсь никакой человеческой власти».
Сколько раз вспоминались слова С. Н.!
С. Н. сумел вызвать у девочек и мальчиков такое доверие, что они охотно рассказывали ему о своих личных делах и первых увлечениях. С. Н. необычайно чутко и бережно относился к этим детским переживаниям и никому не позволял говорить о них в шутливом тоне. Однажды С. Н. и сам рассказал нам о своей первой любви, а уезжая на фронт, оставил на память нашему классу «Мадонну» итальянского художника, которую подарила ему коща‑то любимая девушка.
Неизгладимо запечатлелась в памяти наша беседа о смысле жизни, которой было посвящено одно из наших вечерних собраний. Каждый спешил высказать всё, что было у него на душе. Чего только не наговорили мы в этот вечер! С. Н. внимательно и терпеливо выслушивал всех и не возражал никому. И лишь после того, как все высказались и попросили его изложить свои мысли, он спокойно ответил: «Вы можете считать меня глупым или отсталым, как вам угодно, но для меня весь смысл жизни заключён в словах Евангелия: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен».
Во время весенних каникул (Страстная и Пасхальная недели) мы были много заняты общественной работой (разборка писем на почтамте и т. п.). С. Н. мы видели редко. Мы знали, что эти дни он проводит в церкви.
С. Н. уехал добровольцем на фронт. Его отъезд не был для нас совсем неожиданным. Мы знали, как страдает его чуткая совесть оттого, что в то время, как его братья проливают свою кровь, он остаётся в безопасности, не разделяет их страданий. Так долго не могло продолжаться.
После отъезда С. Н. наш класс разделился на 2 части. Одни перешли в гимназию С., где больше занимались политикой и играли в парламент. Мы же (человек 15) остались в своей гимназии и ещё ревностней принялись за изучение наук, преподавание которых велось у нас тогда отчасти по университетскому типу. Незадолго до окончания курса мы получили долгожданное письмо от С. Н. Фронт тогда принимал уже своеобразный характер – начиналась гражданская война. С. Н. находился в то время в ужасных условиях и тяжело переживал все происходящее.
«Единственное, что поддерживает меня, – писал он, – это религия. Дай Бог каждому из вас такую же твёрдость и твёрдую опору в жизни».
Это были последние слова, с которыми обратился к нам С. Н. Больше мы ничего о нём не слышали, а вскоре и сами покинули навсегда любимую школу.
* * *
Публикуются впервые.
[Закрыть]
Памяти моей мамы
Много у вас наставников,
Но немного отцов.Я родил вас во Христе.
послание к Коринфянам, 4,15.
Перед рассветом (лат.).
[Закрыть]
«Пути Божии неисповедимы». Чем больше проникаешься этим чувством и сознанием, тем труднее обращаться к прошлому, тем труднее делиться своими воспоминаниями, осознавая, что мы фактически так мало видим и понимаем по–настоящему, что даже свою собственную жизнь и судьбу мы познаем здесь лишь «яко зерцалом в гадании».
Встреча с о. Серафимом, общение с ним, крещение и последующее его руководство моей жизнью для меня самое подлинное и великое чудо и, в то же время, самая неопровержимая, центральная реальность моего существования.
Видимое руководство о. Серафима началось в 1935–м и окончилось в 1942 году с его смертью, но в действительности оно началось ещё в 1920 году, т. е. продолжалось более 20 лет, а незримо, несомненно, продолжается и сейчас, так как та духовная связь, которая создалась при крещении, когда он буквально «принял мою душу в свою», не может быть расторгнута концом земного существования.
Религиозное чувство родилось в моей душе очень рано, но возникло оно не изолированно, а в комплексе чувств, при первых попытках осознать жизнь. Оно возникало вместе с чувством истории, осознанием своей принадлежности к народу, который «открыл» Бога для человечества. Люди жили во тьме язычества, когда в Израиле «открылся» Единый Истинный Бог. Другие народы открыли вращение земли, электричество, закон тяготения и многое другое, но то «открытие», которое было дано еврейскому народу, стало самым важным. Мысль об этом наполняла детскую душу чувством большой нравственной ответственности.
У меня всегда была глубокая душевная связь с мамой. Я ей поверяла всё, что вырастало в душе (хотя многое было смутным, неясным для меня самой), и всегда находила отклик и поддержку. В её сердце закрадывалась тревога, и однажды она сказала мне: «Я боюсь, что ты будешь очень одинока».
И действительно, я ощущала это даже тогда, когда в 1918 поступила в университет и встретила там людей, близких мне по духу, разделяющих мои религиозные искания. Это были последние годы философского факультета в его старом составе. Мы слушали лекции И. А. Ильина, Г. И. Челпанова, собирались на религиозно–философские собрания, на которых обсуждались волновавшие всех вопросы духовной жизни и Евангелия. На лекции Ильина студенты сходились в таком количестве, что аудитория их не вмещала. Среди них было много «маросейских» – духовных детей о. Алексея Мечева. Хотя я сблизилась с некоторыми из них, но все же чувствовала себя как бы чужой и далёкой от их жизни. А в 1920 году, после смерти мамы, мир для меня опустел, утратил не только привлекательность, но и реальность. Занятия философией и психологией, хотя и глубоко захватывали, но не давали той пищи, которую просила душа.
Вскоре я поступила работать в детский сад, продолжая занятия в университете. В общении с детьми я больше чувствовала возможность взаимного понимания, чем со взрослыми. «Отчего мне так хорошо с детьми?» – спросила я однажды много лет спустя у о. Серафима. «Это оттого, – объяснил он, – что ваша душа отдыхает».
Среди детей (в «дошкольной колонии», как это тогда называлось) я сразу почувствовала себя иначе, чем среди взрослых. Дети как будто угадывали мои самые затаённые мысли и чувства, которые я не решалась никому высказать.
Так, например, однажды вечером, когда на душе было особенно тяжело, кто‑то из старших мальчиков (таких весёлых и резвых в течение дня) позвал меня, сказав: «Посиди с нами, нам страшно». Мои собственные страх и тоска словно исчезли. С тех пор я каждый вечер сидела с детьми, пока они не засыпали спокойным сном.
Никогда не забуду этих вечеров! Вспомнить содержание наших бесед почти невозможно: дети рассказывали о доме, о переездах, о пушках и пулемётах, о зиме, о звёздах, рассказывали сказки. Это не была беседа педагога с воспитанниками. Несмотря на разницу в возрасте, мы были равными перед вечерней зарёй, перед наступающей ночью, перед страшным миром, который нас окружал, перед Богом, которого они чувствовали яснее, чем я. Я не умела ответить на многие их вопросы, но они всегда отвечали на мои. Некоторые девочки знали наизусть молитвы и иногда читали вслух. Я не знала молитв и слушала их, затаив дыханье. В устах детей они звучали с особенной силой и неведомой мне радостью.
Днём во время прогулок говорили мало. Мы слушали, что говорили нам птицы, цветы и деревья, леса и овраги.
Помню, однажды вернулась я с прогулки и села на крыльце дома. У меня в руках был большой букет васильков; прижавшись к нему лицом, я на минуту задумалась. Ко мне подбежал маленький черноглазый мальчик, один из самых больших наших шалунов, и спросил: «Ты знаешь, кто всех лучше?» Я не нашлась, что ответить. «Бог», – сказал он. «Ты знаешь, что Бог может сделать? – опять спросил мальчик и, не дождавшись ответа, добавил: – Человека сотворить!»…
По воскресеньям мне всегда было особенно грустно, но я не могла понять причину этой грусти. В одно воскресное утро я вышла в поле: было тихо, издалека доносился колокольный звон. «У всех воскресенье, а у тебя не воскресенье», – сказал неожиданно один из малышей, находившихся возле меня.
«Почему они всегда все знают?» – подумала я.
В детском саду я познакомилась с Тоней 3., через которую я узнала впоследствии о. Серафима и которая четырнадцать лет спустя стала моей крестной. Видно, Сам Господь привёл меня в этот детский сад.
Мне было 18 лет, Тоне 19. Она так же, как и я, потеряла недавно любимую мать. Она, как и я, чувствовала себя чужой среди окружающих и находила отраду и утешение в общении с детьми. Тоня работала с младшей группой (3–4 года), а я со средней (5–6 лет). Мы обе любили ночные дежурства. Так хорошо охранять сон детей. Спящий ребёнок кажется беседующим с ангелами. Столько безграничного доверия и безмятежности в его позе, в его улыбке! Они точно не подозревали о существован ии зла – эти «дети страшных лет России», которые успели уже пережить многое.
Нам обеим не хотелось спать в эти летние ночи, и мы стали проводить ночные дежурства вместе. Я говорила Тоне о своей маме, она мне – о своей. Я знала, что Тоня живёт совсем особенной жизнью, резко отличающей её от всех остальных Я чувствовала в ней большой ровный свет, который озарял её душу и жизнь и как бы переливался за пределы её личности. Я не умела и не решалась спрашивать об этом, она не умела и не решалась рассказывать.
Лишь один раз, когда мне было особенно грустно, Тоня сказала: «Есть люди, с которыми можно говорить, как с мамой». Эти слова глубоко запали в моё сердце, но и об этом я не решалась спросить. Это была тайна, которая должна была раскрыться когда‑нибудь сама собой.
Мы всё больше сближались с Тоней и понимали друг друга без слов. Тот мир, в котором жила Тоня, всё больше привлекал меня, но попытаться проникнуть в него казалось так же невозможно, как невозможно войти в чужой сад, как бы прекрасен он ни был, если тебя не звали. Тоня рассказывала мне, что находила возможным, но не всегда называла вещи своими именами, а часто пользовалась аллегориями. Делала она это из удивительной чуткости и бережного отношения к чужой душе, и я глубоко это ценила. Позже она призналась мне, что боялась нарушить «тончайшее переплетение» – так называла она ту внутреннюю работу, которая протекает, несомненно, под непосредственным водительством свыше.
Однажды Тоня рассказала сон. «Мне снилось, – говорила она, – что я гуляю по лугу, усеянному чудесными цветами. Мне хочется собрать большой букет этих прекрасных цветов и подарить их тебе. Моё сердце полно радости: ведь нигде, нигде не найти таких цветов! Букет растёт в моих руках, и хочется поскорее отдать его тебе. Но вдруг я замечаю, что ты стоишь на другом берегу реки. Я протягиваю тебе букет, но ты не можешь взять его. Река глубока, а моста нет… «Я не могу передать тебе цветы, – с грустью говорю я. – Но ведь ты слышишь, чувствуешь их аромат!»…
Чувствовала ли я? Я чувствовала его везде, весь мир менялся и оживал для меня, как оживает лес в лучах восходящего солнца.
Холодом веет ветер перед наступлением утра, тревожно щебечут птицы в предрассветной мгле…
Тоскует душа человека, пока не засияет в сердце Утренняя Звезда.
«Печаль перед рассветом» – так называли поэты это состояние души…
Тоня уезжала каждое восресенье. Я знала, что она бывает там, где есть «люди, с которыми можно говорить, как с мамой».
Однажды, во время нашего ночного дежурства, Тоня сказала: «Я говорила о тебе. Там тебя помнят». – «Спасибо», – сказала я. Она мало говорила, но всегда просила меня высказаться. «Тогда и мне легче будет, – убеждала она. – Ведь я могу обо всём спросить». Но я не могла говорить. Что‑то медленно созревало в душе. Слов не было.
Лишь когда мы расставались в конце лета, я подарила Тоне на память книжку, надписав на ней любимое четверостишие Виктора Гюго:
У подножья Креста
Все вы, кто в слезах, вверьтесь
Богу сему, ибо слезы Он льёт.
Вы, кто в скорбях, прийдите к Нему,
Он целенье даёт.
Вы, кто знает лишь страх, прийдите к Нему,
Он улыбку вам шлёт.
Вы, чья жизнь – только прах, прийдите к Нему,
Он вечно живёт.
Зимой мы почти не встречались. Я была загружена работой и занятиями в университете. Тоня – домашними заботами (на её руках осталась семья) и болезнями.
На следующее лето мы встретились в дошкольной колонии, но на этот раз мы работали в разных детских садах. Один раз Тоня пригласила меня к себе в свободный день, и я осталась ночевать у неё. Обстановка комнаты произвела на меня неизгладимое впечатление. Особенно запомнилась мне картина «Благословение детей». Когда я уже легла, увидела, как Тоня подошла к иконам и, осенив себя крестным знамением, прочла краткую молитву. Эта молитва, казалось, пронизала меня насквозь, я всей душой почувствовала ту силу веры, которая возможна только в христианстве. Я никогда не думала, что Бог так близко!
В этом году ночные дежурства я проводила одна, но со мной всегда было Евангелие, которое я читала по ночам, оберегая сон детей.
Не имея возможности часто встречаться с Тоней, которая жила в эти годы уже за городом, я начала писать ей письма.
Не сразу начала получать ответы, но когда они, наконец, стали регулярными, я поражена была той силой чувства и глубиной мысли, с какой они были написаны. Трудно было представить себе, что их писала неопытная больная девушка. Я знала, что она часто подолгу не отвечает на письма, потому что ей надо «поехать посоветоваться», но долго не знала, кто был настоящим автором этих писем. Не скоро я узнала о том, что писал их отец Серафим, а Тоня только переписывала, как бы от себя.
Шли годы. Однажды Тоня сказала мне при свидании: «Знаешь, что мне сказали там о тебе? Мне сказали: «Она прошла половину пути».
Значит, я была не одна в течение всех этих лет, но кто‑то незнакомый, с удивительным вниманием и любовью, «как мама», следил за всеми движениями моей души.
В 1931 году я болела тифом и воспалением лёгких. После болезни мне дали путёвку в дом отдыха – в Оптину пустынь. И вот я очутилась в удивительно благодатной атмосфере, в стенах скита, среди оптинских лесов. Об Оптиной я знала только из Достоевского. То обстоятельство, что там был теперь дом отдыха со множеством отдыхающих, не смущало и не отвлекало меня.
Тишина векового соснового леса, аллея, ведущая в скит, цветник при входе в него, домики скита и монастырские стены – все это захватывало, всё говорило об одном, и все остальное становилось неважным, почти нереальным. Целыми днями я бродила по лесу, а рано утром и вечером перед закатом уходила в большой опустевший храм, где находилась столярная мастерская. Когда рабочие уходили, там было пустынно и тихо, только ласточки хлопотали под крышей. Все стены и потолки внутри храма были расписаны удивительными бледно–розовыми тонами, которые, казалось, были взяты непосредственно из красок заката. Невозможно было оторваться от этих чудесных картин. Особенно запомнились мне «Рождество» и «Путь в Эммаус».
По приезде я поделилась своими впечатлениями с Тоней. Та была несколько удивлена тем восторженным настроением, в котором я приехала с Оптиной. «Да, – сказала она, – для тебя это хорошо, но я бы не могла жить там теперь… в доме отдыха, мне было бы тяжело».
В следующем году, весной, моя сестра Л [4]4
Л., Леночка – Елена Семёновна Мень, мать Александра. – Ред.
[Закрыть]. вышла замуж и летом уехала с мужем на юг. Я переживала трудный период жизни, но ни с кем не делилась своими переживаниями. Неожиданно получила письмо, в котором были следующие строки, явно не принадлежащие Т., так как звучали не как совет подруги: «То, что Л. вышла замуж, ни в коем случае не должно служить тебе примером, это не твоя дорога». Это был ответ человека, который видит далеко вперёд и которому дана сила и власть указывать путь.
Однажды я писала Тоне о том, как мучительно хотелось мне в юные годы иметь своего ребёнка, и заканчивала печальным, как мне казалось, выводом: «Наверное, я недостойна». – «Так и думай, что недостойна», – был ответ. А в одном из последующих писем о. Серафим писал: «А я понимаю твоё желание иметь и воспитывать ребёнка, как желание покоить в своём сердце Младенца Христа». Эти слова показались мне странными. Однажды я писала в письме, что Христос для меня единственный маяк во мраке жизни. На это о. Серафим ответил: «Наступит время, когда Христос будет не маяком, но Кормчим, направляющим всю твою жизнь».
В следующем году я проводила отпуск на озере Селигер. Мне захотелось поехать вместе с туристами, участвовать в экскурсиях и попробовать «быть как все», не отличаться от окружающих, как мне советовали в то время многие. Общество подобралось очень хорошее. Я и не подозревала, что снова попадаю в святые места (Нилова пустынь). Несмотря на все моё старание не отделяться от общества, на следующий же день моя соседка обратилась ко мне с вопросом: «Вы, видно, любите уединение?» Это меня очень удивило.
Кругом царила такая красота, что трудно было оторвать взгляд. Любимым моим местом стала небольшая вышка, на которую можно было взобраться и спокойно обозревать окрестности. Во все стороны расстилались бесчисленные живописные озёра с причудливыми островами и полуостровами, а на одном из островов возвышались белые стены бывшего монастыря и красовалась высокая белая колокольня [5]5
В это время там была бактериологическая станция. Сейчас – дом престарелых.
[Закрыть].
Как‑то, после грозы, когда воздух был особенно прозрачен и чист, и было хорошо видно все окружающее до линии горизонта, я поднялась на свою любимую вышку, чтобы ещё лучше почувствовать красоту Божиего мира, и стала писать письмо. Мне захотелось, насколько возможно, передать в словах всё, что я видела, что наполняло мою душу в эти тихие минуты ничем не омрачённого созерцания природы озёрного края.
Однажды, накануне экскурсии к истокам Волги, я уснула и видела удивительный сон. В белой церкви шла служба, пели Символ Веры. Я старалась внимательно вслушиваться в это стройное пение, которое шло оттуда, сверху, из белой церкви, и, казалось, забыла обо всём на свете. И вдруг снизу, с озера, раздались другие звуки: там плыли лодки, наполненные людьми, гремела музыка, резким диссонансом прозвучал «Интернационал». У меня закружилась голова, и я потеряла сознание. Сон прервался. Рассветало. Надо было вставать и идти на экскурсию. Шли долго чудесной лесной дорогой. В глубине леса я заметила часовню и отошла от своих спутников. На стенах часовни я увидела полностью написанный Символ Веры, который только что так ясно слышала во сне. Я никогда не думала, что сновидение может так живо перекликаться с действительностью.
На другой день, вернувшись на базу, я застала письмо от Тони, продиктованное о. Серафимом. Оно было, как я потом узнала, написано в двух экземплярах, один был послан в Москву по домашнему адресу, другой – на базу озера Селигер. Это письмо было ответом на то, которое я писала на вышке. Начиналось оно словами: «Без воли Божией ничего не бывает. Подумай, в какие удивительные места приводит тебя Господь. Ещё недавно ты дышала благодатным воздухом Оптиной пустыни, а теперь ты находишься на озере Селигер, на месте подвигов Нила Столбенского» (впоследствии о. Серафим называл Нила Столбенского моим небесным покровителем). О. Серафим подробно разбирал моё письмо, приводя из него целый ряд выдержек. В моём письме были слова: «Отчего так трогают меня ласточки, особенно, когда они вьются над гнездом?» – «Это благодать Божия касается тебя. Это ангелы вьются над твоей душой, не отгони их», – был ответ.
О. Серафим приводил и тот отрывок из письма, где были описаны цветы лугов и полей, заключающих в себе такую гармонию красок и ароматов, и каждый из них как будто стремится отдать все, всю полноту совершенства, которой наделил его Создатель в порыве любви и жертвы. Это та совершенная любовь, о которой говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, «любовь, которая не имеет своего».О. Серафим сравнивал это письмо, написанное в уединении на вышке у озера Селигер, с теми чувствами, которые испытывала великомученица Варвара, жившая среди язычников и познавшая истинного Бога через природу. Для него это письмо было прямым указанием на то, что для меня настало время принять, крещение.