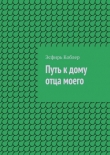Текст книги "И было утро... Воспоминания об отце Александре Мене"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
«Условия, которыми окружил нас Господь, это – первая ступень в Царство Небесное – это единственный для нас путь спасения. Эти условия переменятся тотчас же, как мы их используем, обративши горечь обид, оскорблений, болезней, трудов – в золото терпения, безгневия, кротости».
«Пот, слезы, кровь… Если проливается пот с внутренним противлением, злобой, проклятиями; если слезы – от боли, обиды, злобы; если кровь без веры, то ничего доброго душа не приобретает.
То же самое, когда происходит с послушанием, с покаянием, с верою – очищает и возвышает нас».
«Только первые шаги приближения к Богу легки… – несомненно, видит меня из своего далека о. А.Ельчанинов —… окрылённость и восторг явного приближения к Богу сменяются постепенно охлаждением, сомнением, и для поддержания своей веры нужны усилия, борьба, отстаивание её».
А вот и прямой ответ на вопрос, что мне делать дальше: «..люди живут вне церкви, а искать разрешения своих трудностей приходят в Церковь. <…> Войдите в Церковь, примите весь чин церковной жизни, и тогда трудности разрешатся сами собой».
1981–й год. Второго января в храме у Речного вокзала о. А. Мень отпевал Н. Я. Мандельштам.
О смерти Надежды Яковлевны мне сказали накануне Нового года, когда пришла навестить Наталью Александровну Великанову. Ещё осенью выписанная из больницы, Наталья Александровна так и не отошла от инсульта. Разум, правда, при ней, речь разборчива, она добра и гостеприимна. Но… правосторонний паралич… Тане дали 4 + 5(4 – лагеря, 5 – на поселении). Она – недалеко от Потьмы. Шьёт варежки, 66 пар за смену. Учит французский язык. При ней – Библия.
От гостьи H. A. я и услышала о смерти Мандельштам. Отпевать, она сказала, будут в Новой Деревне, хоронить в Пушкино. Поздно вечером поправка: нет, везти в Пушкино не разрешили. Второго в 11 в храме у Речного вокзала.
Народу на отпевании – сотни. Как быстро расходятся по Москве вести! В толпе вижу знакомых поэтов.
Слышу голос отца Александра, трёхкратной мощи, если сравнивать со Сретенским храмом: «Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему, с м–и-иром…»
Озноб по спине не от страха – от волнения: присутствуем при акте, крамольном с любой точки зрения, кроме Божественной. Поп–выкрест по–христиански провожает усопшую «в роскошной бедности, в могучей нищете» старую еврейку, известную своим бунтарским духом, непокорством властям. Обе её книги о муже–поэте, по сути же о вечном противостоянии гения и злодейства, мы читали в машинописи, тайком, «на троих»: муж, я и наш друг, передавая листочки друг другу.
«Н. Я. – отважная и умная женщина, но что в ней христианского?» – наверное, не одна я задавала себе этот вопрос.
Когда в очередной раз приехала к Меню обсудить животрепещущие проблемы моего нового существования, разговор коснулся и Н. Я. (я не была с ней знакома).
Оказывается, крещённая в детстве, человек глубокой внутренней веры, она вернулась в лоно церкви только десять лет назад. Отец Александр – её духовник. Не одно лето провела она у него в Семхозе. Скорая на хлёсткое словцо, острую шутку, Н. Я. несла с собой электрическую атмосферу так и не кончившейся для неё грозовой эпохи. «Злыдня!» – отзывались о ней обиженные мемуарами литераторы. «Озорница!» – называл её Мень. Это было в его стиле и тесно переплеталось с христианским отпеванием, с духовным дочерничеством, с историческим статусом Вдовы гонимого гения…
Александра Владимировича интересуют мои новости. Их две: я рассказываю о беседах со своим учителем, старым известным поэтом, и «рабочим секретарём» писательской организации. Беседах малоутешительных.
Александр Владимирович выслушал все необыкновенно заинтересованно, всплёскивая руками, сопереживая.
– Не важно, что думают о вас люди… – его широкий рукав лёг на подлокотник моего кресла. – Важно, что думает о вас Бог! А перед Ним вы правы… – О, как понимает он, что даже минутное сожаление о содеянном вконец развалит мою душу, сделает меня пожизненным инвалидом. К счастью, ему не надо кривить душой. И, ощупывая массивный крест на груди (признак волнения?), он заключает мой сегодняшний визит словами, которые я унесу с собой:
– Даже если вас не будут печатать несколько лет, всё равно не стоило уезжать. Стихи, и неопубликованные, делают тут своё дело. Как это у Волошина: «почётней быть не книгой, а тетрадкой…» [31]31
У Волошина:
Мои ж уста давно закрыты. Пусть!Почётней быть твердимым наизустьИ списываться тайно и украдкой,При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
[Закрыть]
Испила эликсира бодрости. Готовлюсь к изматывающим живую силу боям.
Случилось маленькое чудо. Два года назад тот факт, что меня хотят напечатать в ежегоднике «День поэзии», чудом мне не показался бы. Пожалуй, я была бы оскорблена, отвергни редколлегия мои вирши. Но то было в другой жизни. Теперь приглашение к участию в сборнике, высказанное поэтом Владимиром Лазаревым, составителем ДП—81, – сюрприз для меня. Чтобы не подводить товарища, выкладываю все как есть. И знакомые функционеры, и рабочий секретарь, дали мне понять, что, пока я не восстановлена в СП, ни одна моя строчка напечатана не будет: ни в родной «Юности» (публиковалась там дюжину раз), ни в неведомом «Уральском следопыте». Циркуляры тиражируются у нас щедро.
– Ну, это мы ещё посмотрим! – прищуривается, намечая невидимые цели для поражения, борец за справедливость В. Лазарев.
Даю для «Дня поэзии» написанное совсем недавно и молниеносно получаю положительный ответ. Особая радость, что среди отобранного – стихи с посвящением А. В. М.
А чудеса продолжаются… Поэт из Волгограда Юрий Окунев присылает мне сто рублей. Маргарита Агашина – посылку с яблоками. Тоня Искандер, жена Фазиля, привозит курицу. Смущённо, не смотря почему‑то в глаза, словно не даёт, а отбирает, сует при встрече деньги Дмитрий Сухарев. Из Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы, от которого выступала двадцать лет, звонит Надя Белоногова. Голос, подавленный волнением: женщины из бюро знают о моём положении, хотели бы помочь. Но… официально запрещено меня занимать. Вот когда буду восстановлена… Надя назначает мне встречу в метро и отдаёт 30 рублей: свою премию.
Одно событие тех дней резко выделилось даже на этом волшебном фоне. Анатолий Жигулин, – кроме того, что оба мы на «жи» и часто соседствуем в поэтических сборниках, связывает нас издавна и душевная тяга, – дарит мне свою книгу «Жизнь, нечаянная радость». В неё от руки вписаны стихи, ранее мне неизвестные. Почему не напечатаны – ясно: не та тематика. А вот то, что вписаны для меня в такой момент моей жизни, ошарашивает. Не о себе думаю – об отце Александре. Это же – прямо для него. Надо срочно ехать и порадовать его жигулинскими стихами. Нет, правда, нельзя же все только купаться в неиссякаемой доброте о. Александра. Надо и ему доставить радость…
A. B. я захватила перед всенощной. Ему только что привезли из Ташкента картину «Сошествие во ад» – кисти старой художницы, реэмигрантки. Впервые слышу фамилию автора: Рейтлингер. Узнаю, что она – духовная дочь о. Сергия Булгакова.
Картина стояла на диване, а хозяин комнаты – напротив. Он и меня пригласил стать и смотреть. Весьма приблизительно знала я о Христе, спустившемся после смерти в преисподнюю, чтобы спасти грешников от вечных мук. Отец Александр знал об этом все! Но моё невежество и его знание, как это бывает сплошь да рядом, не мешали друг другу. Я ни о чём не спрашивала. Он ничего не объяснял, заметил только, что Христос вытягивает Адама и Еву обеими руками – так спасают утопающих…
В этот приезд я прочла вслух стихи Жигулина, и «Сошествие» каким‑то образом соучаствовало в моём чтении. Тот, Кто на картине, казалось мне, тоже доволен.
Отдам еврею крест нательный,
Спасу его от злых людей…
Я сам в печали беспределыюй
Такой же бедный иудей.
Судьбою с детства не лелеем
За неизвестные грехи,
Я мог бы вправду быть евреем,
Я мог бы так писать стихи:
По дорогой моей равнине,
Рукой качая лебеду,
С мечтой о дальней Палестине
Тропой российскою иду.
Иду один, как в поле ветер.
Моих друзей давно уж нет.
А жизнь прошла,
И не заметил.
Остался только тихий свет.
Холодный свет от белой рощи
И дальний синий полумрак…
А жить‑то надо было проще,
Совсем не так, совсем не так…
Но эту горестную память
И эту старую поветь
Нельзя забыть, нельзя оставить—
Осталось только умереть.
А в роще слышится осина.
А в небе светится звезда…
Прости, родная Палестина,
Я не приеду никогда.
Отец Александр был страшно тронут, расспрашивал об авторе. Забегая вперёд, скажу, что Анатолий и его жена Ирина познакомились с Менем, дважды или трижды встречались с ним. Прочитав книгу стихов Жигулина, A. B. послал ему письмо, одну фразу из которого рискну привести по памяти: «Какой чистый заповедник души! Как будто по нему никогда не ходили в сапогах…»
Услышав о моих чудесах, Мень просиял:
– Ну, вот видите… Как все вовремя! Обыденности нет. Жизнь – это сказка…
* * *
Все хорошо бы, только не могу получить никакой литературной работы. Я не простаиваю: пишу прозу, стихи. Но когда это ещё напечатают?!
Друзья не дают пропасть. У меня четыре «псевдонима», два мужских и два женских, пишу в основном внутренние рецензии, редактирую. Пользуюсь случаем поблагодарить всех, кто доверил мне своё имя, – что может быть дороже для писателя?
Увы, литературные деньги – неверные деньги. Без штатной работы не обойтись. Я согласна хоть страховым агентом, хоть машинистом уборочных машин в метро. Но… Непроходимый барьер – отсутствие трудовой книжки. В любом отделе кадров придётся объясняться, рассказывать «свою историю». Ясное дело: последует звонок в СП.
Я – тут. Но меня – как бы нет. Наверное, только в России стёрты так изначально, метафизически, грани между видимым и невидимым, реальным и ирреальным. «Мёртвые души» Гоголя и «Поручик Киже» Тынянова – воистину русские творения.
Наконец плотину прорвало. Подруга юности Маргарита, урождённая Брюхоненко, из рода графов Шереметевых, не нашла – вырвала для меня работу газетного корректора. Все оговорено заранее. Соответствующий департамент в курсе. Буду на твёрдом окладе при единственном условии: если вижу ошибки в газетной полосе. Оказывается, мало быть грамотной – надо ещё обладать въедливым, впивающимся в каждое слово наподобие энцефалитного клеща недрёманным оком. Такое свойство у меня, благодарение Богу, есть! После краткого испытательного срока зачислена в штат корректором с окладом 130 рэ в месяц.
Теперь мне труднее выбраться в Новую Деревню, но без встреч с A. B., без его ободряющего голоса, без церковных служб, без книг, которые он мне выписывает, как целебные настои – выздоравливающему, я себя уже не мыслю.
Раньше я не знала, но, прочитав книгу «Таинство, Слово и Образ», подаренную Менем, узнала, что не крещённые, а только зреющие для крещения, как я, допускаются лишь к вводной части литургии. Она так и называется: литургия оглашенных. Патриарх Пименл своё время справедливо заметил: «Если мы не можем их оглашать, то хотя бы молиться за них должны».
Мне важно знать, что за меня молятся в маленькой церкви. Я ещё не задумывалась над тем, что такое церковная молитва. Я ещё не уверена, что буду креститься. Одно для меня очевидно: я жила плохо. Всё шло через пень–колоду, за всё приходилось платить по ценам чёрного рынка. Тут мне обещана забота – другое имя любви. Переступая порог церквушки, видя облачённого в храмовые одежды отца Александра, я чувствую: тут меня ждалй, тут я – своя, после долгих прижизненных мытарств вернулась к себе домой.
Обычно по окончании литургии оглашенных я не выходила во двор, как требует строгий канон, а лишь отступала поближе к выходу. И заповеди блаженства (то же, что Нагорная проповедь) находили во мне самого внимательного и благодарного слушателя. Жиденький хор певчих бедной Сретенской церкви доносил до меня свежую, как только что срезанный в зимнем саду цветок, эманацию мысли двухтысячелетней давности:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят…
Ябыла плачущей, я жаждала правды, я вынуждена была быть кроткой…
«У Т. два пути, – сказал моему мужу наш сосед, в то время рядовой, а ныне один из «генеральных» писателей, – путь цинизма и путь смирения; так как цинизм не в её натуре, остаётся смирение». Ведь как в воду смотрел! Я старалась быть милостивой к своим недругам, рассуждая примерно так: мне тяжело на моём месте, а им тяжело на их – откуда я знаю все их обстоятельства, комплексы, заскоки?.. Всё это, – я уже знала из богословской литературы, – и есть осознание нищеты своего духа, то есть крайней его неполноты по сравнению с тем Духом, к которому он тем не менее стремится.
Была ли я чистой сердцем? Не знаю. Хотела быть – это точнее. Тому, что существует связь между «узрением Бога» (верой) и таким стремлением, есть немало Доказательств. Указывает на такую связь и Клайв С. Льюис: «… одним Он являет Себя гораздо больше, чем другим, – и не потому, что у Него есть любимчики, а потому что невозможно Ему явить Себя человеку, весь ум и характер которого не в состоянии принять Его, точно так же, как солнечный свет, хотя и не имеет любимцев, не может отразиться в пыльном зеркале столь же ясно, как в чистом».
Фигурально выражаясь, я омывала слезами своё пыльное зеркало, и оно становилось чище, и в нём отражался Бог.
Так что «заповеди блаженства», считала я, имеют ко мне непосредственное отношение. «Радуйтесь и веселитеся!» – мажорный призыв хора на каждой литургии – животворил сердце. Я выходила из церкви совершенно в другом настроении, чем входила в неё.
Не так давно, уже на шестом году перестройки, старинный приятель, тоже поэт, всеми силами отбивающийся от «официального христианства» (другого он не знает), объяснил мне, что именно отталкивает его в этом столь распространённом ныне «увлечении». Те житейские и прочие блага, которые надеются извлечь из принадлежности к церкви неофиты. «То вступали в партию, а теперь идут в церковь», – довершил он своё «фэ».
Не буду ни топить, ни защищать неофитов. Все они – разные, у каждого свой путь.
Нам лишь указано на иерархию ценностей: «… не говорите: «что нам есть?» или «что нам пить?» или «во что одеться?» Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»(Мф. 6 – 31, 33, подчёркнуто мной – Т. Ж.).
Пребывая все в той же точке земного шара, я отправилась на поиски Царства Божия, но что греха таить, надеялась и на приклад. Я устала от долгой череды передряг, от домашней распутицы, от постоянных нехваток. Как герой тогда ещё не снятого фильма А. Тарковского, я просила Небо сделать хотя бы так, как было прежде, собрать целое из обломков. Я готова была послужить Ему, соглашаясь на «жертвоприношение».
– Рассказывайте!
* * *
Отец Александр придвигается ко мне со своим стулом. Ему все интересно: как меня восстанавливали на бюро поэтов, кто и что говорил. Многие фамилии он слышит впервые, но я догадываюсь: отдельные штрихи, реплики складываются для него в единое лицо – лицо фантасмагорического сообщества, именуемого советской творческой интеллигенцией.
Объясняя трудности эмиграции, Мень не раз говорил, что мы, советские люди, отлиты по особому образцу, в наших головах все перевёрнуто: «… край – всем краям наоборот! – Куда назад идти —вперёд Идти…» – это все та же премудрая Марина Цветаева.
Так что с определением «советская» все вроде ясно.
«Творческая…» Все производные от слова «творчество» звучат неизменно сладко только для дилетанта. Тот, кто внутри профессиональной творческой среды, знает, насколько они бывают обманчивы.
Как наивна я была в свои молодые годы! Верила всему, чему учили. Едва начав что‑то соображать, только и слышала, что писатель должен отразить, да не как зеркало, а как увеличительное стекло, ведущие в земной рай тенденции общественного развития. Среди добродетелей творца назывались – порой впереди таланта – партийная принадлежность и преданность идеям коммунизма. О том, что такое талант, предпочитали умалчивать или пошучивали: талант, как деньги, есть – есть, нет – нет.
Мень выражал общехристианскую точку зрения на творчество, на природу таланта, на права и обязанности того, кто им наделён. Захватывало дух при мысли, что Творец приглашает каждого, в ком бьётся жилка художника, к сотворчеству, к соучастию во вселенском преображении всего сущего. «Есть реальность физического мира и есть реальность мира духовного, которая не даётся в ощущениях, – любил повторять A. B. – Люди творческие, тем не менее, её ощущают, так как харизма идёт извне».
Именно от него я впервые–усдышала про харизму – благословение свыше. В древности она давалась пророкам, великим поэтам, истинным сотворцам. Но неужели и нам, малым сим, капает что‑то с неба? Приходится предположить, что да. «И просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь», – просто и глубоко сказала об этом Анна Ахматова.
Свобода – не столько право харизматической, то есть талантливой личности, сколько главное условие, при котором она только и может максимально себя проявить. Иначе «поручение» (Баратынский) будет не расслышано или дурно выполнено. «Мне с небес диктовали задачу – я её разрешить не смогла», – это уже Белла Ахмадулина…
Итак, чтобы творить, надо иметь талант, свободу и «харизму». Если чего‑то нет, творчество получается ущербным, жизнь – тоже. Зерно, не посеянное художником из‑за лени, боязни неудачи или неблагоприятных обстоятельств, разбухает внутри него, вызывает патологию или разрывает сердце. Среди моих строгих судий были и «чокнутые», и «живые мертвецы». Могу ли я на них сердиться?
Ну, а что интеллигенциянынешняя является побочным, но кровным дитём «передовой» интеллигенции прошлого, —надо ли это доказывать?
В воспоминаниях об А. Мечеве, вышедших, увы, там, а не здесь, есть даже специальное разъяснение особенностей работы с интеллигенцией: «… какого труда стоила «разгрузка» какого‑нибудь профессора или современного общественного деятеля, художника, писателя, которых только безысходное отчаяние кидало в его комнатку». А дело происходило в 20–х годах нашего века. Грустная вырисовывается картина. Достоевский и Толстой не считали зазорным для себя ездить в Оптину Пустынь. Но потом или одновременно, задолго до 17–го года, русская интеллигенция, во всяком случае самая мобильная её часть, победоносно отвернулась от религии. Стоит полистать трижды клятые, недавно выпущенные щедрым тиражом «Вехи», где черным по белому:
«К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога – народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом – абсолютизмом <…> интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества. <… > К идеологии же, которая в центре ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, с заранее составленным волевым решением отвергнуть и изобличить».
«… любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине».
«…человекопоклонство и народопоклонство… Подлинная же любовь есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Божьяго образа в каждом человеке».
И автора этих, будто в домне сегодняшних страстей выплавленных слов молодой писатель недавно назвал «гениальным пустословом». Мальчик! Неужели вас тоже надо пропустить через сминающую душу мясорубку бюрократического литературного комбайна, чтобы в бердяевских словах вы увидели истину, а не празднословие?
Если таковы были наши предшественники, то сколь же хуже мы! Как тут не быть злым, воинственно–тёмным? Уж Мень‑то знал нашего брата, как никто, но хотел узнать ещё лучше, жадно расспрашивал меня, представителя все того же сословия, о поведении в экстремальной ситуации моих защитников и хулителей.
Как‑то Мень сказал:
– Я не знаю вашего мужа, но очень хочу, чтобы он тоже остался…
Это он за меня – хотел. Это моё жгучее невысказанное желание дошло до него через наэлектризованный воздух кабинета–исповедальни.
В назначенный день – это была пятница – мы с мужем приехали в Новую Деревню. После службы в сторожку набилось человек восемь, а я‑то, наивная, думала, что, если пятница, мы будем одни. С удивлением увидела знакомого писателя. Муж его тоже знает. Неизвестно, к добру это или к худу.
Принял нас на закуску, усадил Павла в гостевое кресло, меня – на стул. Спросил, как у нас дела. Муж начал рассказывать очень подробно, вдаваясь во все тонкости, заново переживая обиды. Я нервничала. A. B. – после службы, ничего не ел, до нас принял восемь человек… Но что скажешь, когда течёт и течёт горькая исповедь? И снова разговор об эмиграции. Для меня этот поезд ушёл, я давно помахала ему платочком. Но для мужа все свежо.
Мень перебирал чётки. Я подметила: когда беседу можно уравнять сбегом на короткую дистанцию, он обходится без них. Когда же предстоит марафон, чётки тут как тут. В тот раз или потом я впервые заметила на нижних суставах пальцев пятна псориаза? Это наши грехи огневицей проступили у него на коже.
– Был у меня такой Наум… – издалека начинает он, как если бы вышел из затвора и, встретив старых друзей, наслаждается и никак не может насладиться роскошью человеческого общения. – Этот Наум подавал на выезд шесть раз. Наконец добился своего. И что же? В Израиле не усидел. Уехал в Америку. Теперь хочет уехать и оттуда… Для «гомо советикус» нет в мире экологической ниши, ибо мы – не такие, как все.
Муж заметил, что через поколение это уже не будет чувствоваться.
– Но кроме этих соображений есть и наши личные судьбы, – мягко возразил хозяин. – Вы думаете, мне не бывает противно? Ещё как бывает! Когда я спрашивал своих духовных детей, почему они уезжают, мне отвечали: мы не можем тут жить. Многие считают, что тут нельзя быть и священником. Нет, можно. Жизнь идёт. Мы окружены людьми, которые в силу исторических причин, – так складывалась культура, цивилизация, – не хуже, а даже лучше, чем в других странах. Еврейская проблема… – не свожу глаз с его сильных, пружинистых пальцев, чётко передвигающих боб за бобом, – … будет решена в России в ближайшие 10–20 лет. Одни уедут. Другие, сознавая себя евреями, сознательно останутся. Третьи ассимилируются Ортодоксов это, понятно, не устраивает, но для меня ортодоксы все на одно лицо, будь у них на груди звезда, свастика или магендовид…
На «страшно здесь оставаться после предпринятого шага» отец Александр отвечает, что жить – везде страшно Туг мы хотя бы знаем, чего надо опасаться. А там ужасы непредсказуемы.
Уходим. Почти ушли. Нет, ещё «лестничный разговор» как бывает «лестничное остроумие». Об «Истоках религии» Павел рассказывает, какое впечатление на него, атеиста, произвела эта книга.
Хозяин находит в себе силы заинтересоваться. Говорит что писал «в пространство», не для печати. Читательских писем он не получает. Поэтому так важны для него устные отзывы «Атеиста» пропускает мимо ушей. Обычно он парировал незамедлительно: «Атеистов нет. Есть идолопоклонники те кто ставит на место Бога карьеру, деньги, славу, иногда собственного ребёнка или машину – мало ли у нас фетишей?» Но сегодня у него другая задача: не доказать истину, а удержать любимого мной человека.
На прощанье обещает мужу;
– Ябуду за вас молиться.
Это очень важно. Новодеревенская знакомая Зоя М передала мне чьи‑то горячие слова: «Наш батюшка помолится – мёртвый встанет». Но для моего атеиста – это чистая абстракция.
Зоя – не единственная, кого я здесь узнала. Однако для меня – человек номер один. Люди встречаются не случайно – убеждён Мень. Кто‑то послан вам, кому‑то посланы вы. И то и другое, в конце концов, для вашего же блага. В отношении моей новой знакомой это особенно справедливо. Круглолицая серьёзная, но без надутости, похожая на финку Зоя излучает доброжелательство.
Она первая заговорила со мной. Оказалось: живёт тут неподалёку, круглый год снимает комнату. Под влиянием отца Александра бывшая «невера» начала совершенно иную жизнь совершенно с другими измерениями. Несколько лет назад хулиганы устроили дикий разгром в её мастерской, побили почти все работы. Но она спокойна. Говорит: «Бог расчищает пути». Странно слышать это от профессионала, лепившего Пастернака, Ахматову. Какое мужество!
Зоя всей душой хочет мне помочь. Поэтому тяну к ней своего упирающегося мужа Не в коня корм… К простенькой опрятной комнатушке с изображением Сретенской церкви на стене, к хозяйке, которая любовно написала её в румянце зари, у меня – чувство притяжения, по сродству, у мужа – отталкивания, по несходству.
Посыпались разрешения на выезд. «К съезду!» – толкуют отъезжающие.
26–й съезд партии, как никакой другой, проник в мои поры. Это мне дано такое «послушание». До глубокого вечера, часто до полуночи корректирую я в газете съездовские материалы. Не приведи Бог пропустить ошибку. Теперь, правда, не те времена, когда за газетную опечатку можно было поплатиться головой. Ещё помнят старые корректоры, как за «Сказку о царе Сталине» (вместо Салтане) сажали в тюрьму. Но всё равно вызовут на ковёр, а то и уволят с работы.
В какой‑то приезд я сказала Меню: «Не хочу, чтобы меня вызывали на ковёр». Он не понял: «Если мы не пожелаем работать на ковре, на нём будут бить в барабаны из человеческой кожи».
Пока я потею на ковре корректорской. Впрочем, люди вокруг—душевные. Работаем парами. То я за подчитчика, то за сверяющего текст. Долго, нудно, однообразно.
Муж получил разрешение на выезд. И отказался, остался. Из любви к дочке и немного – ко мне. На все мои жалобы и сетования Мень твердит одно:
– Любите его! Молитесь за него! – И видя, как я измучена, присовокупляет: – Конечно, прижимая к груди дикобраза, рискуешь испытать неприятные ощущения. Но его тоже жалко.
Моё восстановление в СП дальше бюро не пошло. Неведомые мне барьеры. Раздвигать руками серую протоплазму, как ветки в дремучем бору, чтобы выбраться на дорогу, – этого я не умею.
Дочь старается поменьше бывать дома. И угодила в плохую компанию. Вытягиваю её обеими руками, как на той ташкентской картине. Первое, что приходит на ум, – ехать в Новую Деревню. По счастью, она не сопротивляется: Александр Владимирович ей по душе.
Как добр он и ласков, каким проникающим в самую глубь взором встречает наше «страшное» признание: в лихую годину жизни мы занимались спиритизмом, чтобы узнать у духов, как вести себя дальше.
Притягивает за плечи нас обеих – сам олицетворённое сострадание:
– Бедные девочки – мёртвых спрашивали…
Фатализм, – вразумляет нас отец Александр, – свойство грубых натур. Все мы хотим готовых решений. Нас тянет назад, к зверю, к неживой природе. По Фрейду – это регрессивный синдром.
Выслушиваем притчу о страдальце, который, не выдержав напастей, воззвал к Богу:
– Ты же видишь, как я мучаюсь. Почему не поможешь мне?
– А я жду, – отвечает Бог, – что ты решишь, чтобы не мучиться так…
Ему хочется нас отвлечь, повеселить, и он к восторгу Саши, любящей всякую живую тварь, начинает рассказывать об… обезьянах. Выясняется, что он изучал их поведение и привычки. Обезьяна–мать никогда не расстаётся с детёнышем – вот главное правило. Это избавляет от чувства страха и его, и её.
Туг, пожалуй, ответ и на «плохую компанию», и на дочкины побеги из дому. Делаю вывод: пусть побольше будет у меня на глазах. Школьные каникулы дочь проведёт, работая внутренним курьером в моей же газете. Побегав 40 раз в день вверх-вниз по лестнице (редакторская, корректорская, типография), она вдруг пожелает получить высшее образование. Станет посерьёзнее относиться к учёбе, а до того занималась шаляй-валяй.
Лето – жаркое. Парюсь в застеклённой до потолка теплице газетного комбината. Зато какое счастье – выбраться за город. С первого класса ранние вставания были мукой для меня. Мне, сове, легче всю ночь не ложиться, чем на рассвете продрать глаза и поспеть к открытию метро. Теперь – не то. Теперь встаю как миленькая и еду. Есть куда и есть к кому…
Сегодня я не одна – со мной коренная жительница Пушкино Нина Р., молодой технолог, умненькая, милая, крещённая во младенчестве, но от церкви далёкая. Парадокс нашего парадоксального бытия: не она – меня, я – её привела в Новую Деревню, что в трёх километрах от её дома, 7 минут на автобусе. Об отце Александре Нина даже не слышала. Но буквально накануне нашей с ней встречи у московских знакомых почему-то упрекнула свою мать: «Все ставят родным свечки за упокой, а мы бабушке никогда не поставим…» (бабушка её и крестила). По пути с кладбища, – тут же, рядом, за пустырём, – впервые зашли в Новодеревенскую церковь, купили свечу. Незнакомый священник прошёл мимо них, и Нинина мать проводила его недоверчивым взглядом: «Никак наш батюшка – еврей?!»
И вот мы сидим у этого нетипичного батюшки. Отец Александр посте отпуска, провёл его, как обычно, в Коктебеле. Бронзовый. Но скорбный какой‑то, озабоченный. Нина стесня–ется. Говорю за неё я. Надо же, такое совпадение: впервые за 30 лет жизни переступить церковный порог, заострить внимание на необычном служителе и почти тут же быть ему представленной.
– Все это закономерно, – не удивляется Мень. – Если закономерна молекула, закономерна снежинка, то тем более не может быть случайной человеческая судьба. Это все‑таки не снежинка.
Нину он принимает радушно. Точно всю жизнь ждал. Но грустен против обыкновения.
– Что случилось? – допытываюсь у Зои. И узнаю: у A. B. неприятности. Одна из певчих настрочила жалобу: он, мол, принимает «чужих» в ущерб пушкинским. Это – заведомая ложь.
Но как бы там ни было, конфиденциальные беседы в сторожке кончены. Отца Александра вызывали в Совет по делам религии, допрашивали, разрешили посетителей «со стороны» принимать только вне ограды.
– Не переживайте, – утешает меня Зоя, – контакты не прекратятся. Ведь все это – человеческие судьбы. Отец никогда не согласится на разрыв–отношений с «чужими», то есть с интеллигенцией. Но пойти на уступки придётся.
Как же мудро и своевременно послана мне Нина! Она – «своя». Ей разрешено будет входить в кабинет. Можно передать книгу, записку. А я вместе с другими буду ловить отца Александра за оградой. Ох–ох–охонюшки…
Решаюсь: креститься. Знаю, что отец никого не подталкивает, пуще всего опасаясь, как бы крещение не вылилось во что-то чисто внешнее.
Креститься, не приняв «всего чина церковной жизни», по Меню, всё равно что поезд дальнего следования снять с железнодорожного пути и водрузить на траву.