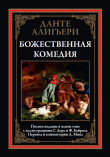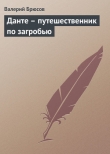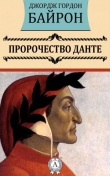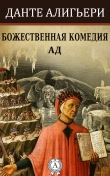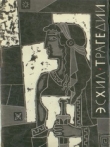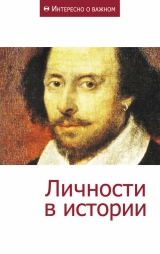
Текст книги "Личности в истории"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 48 страниц)
Иоганн Гутенберг: человек тысячелетия
Наталья Алякринская
XX век уходит, уводя с собой целое тысячелетие. Оно подарило человечеству массу открытий. Но среди них было одно, которое потомки назвали самым важным. Речь не о пенициллине или электричестве, не об атомной энергии или компьютере.
Человеком тысячелетия ЮНЕСКО объявило Иоганна Гутенберга, изобретателя европейского книгопечатания. Скромный немецкий труженик, не оставивший свое имя ни на одной созданной им книге, перевернул всю европейскую культуру и подарил ей возможность небывалого взлета…
Все написанное об Иоганне Гутенберге едва ли дает представление о нем как о человеке – Человеке Возрождения, гении со смятенной душой, окрыленном идеей победы слова над временем. Его образ крайне туманен – как и его биография. Цепляясь за внешнюю канву фактов, пытаюсь представить, как он жил, что за люди его окружали, какие мысли владели им… И больше всего догадываюсь о том, что он был бесконечно одинок – как любой человек, отважившийся опередить свою эпоху.

Иоганн Гутенберг
…Начало XV века. Средневековая Германия. Город Майнц. Кто знает, состоялся бы Гутенберг как человек своего тысячелетия, если бы не Майнц – город непревзойденных ювелиров, литейщиков и граверов. Это была первая – и самая главная – школа Гутенберга: в этом городе мастеров идеи буквально носились в воздухе, а руки соперничали с разумом. Юный Иоганн быстро освоил ювелирное и граверное искусство, литейное дело. В частности, овладел он и техникой резьбы печатей и штемпелей для чеканки монет (не здесь ли корень его будущей, до гениальности простой идеи?). Гений Возрождения – по определению универсален, и именно Майнц сделал Гутенберга универсалом.
Но было в его жизни и другое. Обстоятельства часто вынуждали Гутенберга вести практически кочевую жизнь, полную лишений. Первый раз он стал изгнанником в 20 лет: майнцские ремесленники вытеснили из города местных «патрициев», и Гутенберг (чья семья принадлежала к знатному роду) был вынужден поселиться в Страсбурге. Жизнь в родительском доме, полная достатка и даже роскоши, закончилась навсегда. Пришла бедность – верная спутница и нечаянная вдохновительница многих великих открытий. Она не отпускала Гутенберга почти до конца жизни. И именно она побудила его заняться в Страсбурге предпринимательством.
Гутенберг начал с производства зеркал. Но в его «зазеркалье» тем временем уже зрело главное дело жизни. Мы не знаем, что именно натолкнуло Гутенберга на открытие. Но знаем, что он вынашивал его десять лет, бережно храня свою тайну от посторонних глаз… Во Франкфурте-на-Майне есть памятник Иоганну Гутенбергу: великий книжник стоит в полный рост, а в левой руке держит маленькую литеру. Этот столбик с вырезанным на нем изображением буквы стал символом новой эры в истории человечества. Человечество снова переживало детство – складывая слова из «кассы» букв и слогов. Но это было особое детство – детство Возрождения…
Конечно, попытки множить книгу печатным способом были и до Гутенберга. Например, с помощью ксилографии – печатания с цельногравированных деревянных досок. Но этот способ был чрезвычайно неудобен и сопровождался невероятным количеством ошибок. Гутенберг догадался разрезать эту деревянную доску на отдельные буквы – и получил типографский набор. Деревянные литеры были подвижны и легко заменяемы. Правда, они очень быстро изнашивались. Но Гутенберг выходит из положения, изобретая специальный металлический сплав (гарт) и форму для отливки литер. Наконец, он создает первый печатный станок, приспосабливая для типографских нужд ручной винтовой пресс. Это был «человек-оркестр» – целый творческий коллектив в одном лице. На вопрос – что же изобрел Иоганн Гутенберг? – правильнее всего будет ответить: он разработал типографский процесс в целом и создал европейский способ книгопечатания.
Вряд ли Гутенберг до конца осознал, что он сделал. Рукописные фолианты, целые гильдии переписчиков – с изобретением Гутенберга все это вдруг стало стремительно становиться историей. Сегодня мы с изумлением узнаем, что в средневековой Италии за экземпляр книги Тита Ливия можно было купить роскошную виллу, а книги в библиотеках во избежание кражи приковывали к стенам цепями! Гутенберг разорвал эти цепи, дав книге свободный полет. Еще недавно считавшаяся роскошью и достоянием избранных, книга могла теперь попасть в руки простого человека – как бы по-марксистски это ни звучало. Гуманистические идеи получили долгожданную свободу выражения. Европа по-новому обретала античность и стряхивала с себя пыль средневековой схоластики. Она возрождалась – для новых знаний и нового творчества…
Увы, любое достижение человеческого разума можно обратить не только во благо, но и во зло. Книгопечатание не стало счастливым исключением, открыв дорогу не только просвещению, но и распространению «бытовой» литературы. Стремительное наступление «масс-культуры» уже в нашем веке, который Гессе называл «фельетонной эпохой», – во многом тоже плод изобретения печатного станка… Однако – к счастью – Историю вспять не повернешь. А дело, которому посвятил свою жизнь Иоганн Гутенберг, безусловно было одним из камней того пути, по которому История идет вперед.
Однако идеи Гутенберга воплощались в жизнь мучительно. Ему фатально не везло. Нехватка денег на эксперименты, вечные долги, затем – череда судебных процессов. И снова нищета. Боясь преследования кредиторов, Гутенберг скрывался и не ставил своего имени на печатаемых книгах. Именно поэтому учеными долгое время обсуждался так называемый «гутенберговский вопрос» – вопрос о приоритете изобретения книгопечатания. Голландцы настойчиво оставляли его за своим соотечественником Лауренсом Костером. Бельгийцы до сих пор считают первым типографом человека по имени Жан Брито. А в маленьком итальянском городке Фельтре стоит памятник поэту и доктору права Памфилио Кастальди. На его постаменте надпись: «Изобретатель книгопечатания».
Здесь, пожалуй, уместнее всего процитировать Гете, сказавшего несколько веков спустя: «Что носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть одновременно в ста головах без всякого заимствования». Действительно, еще при жизни Гутенберга книгопечатание стало распространяться по Европе с поразительной быстротой. За 40 лет в 260 городах возникло более тысячи типографий: Германия (1450 г.) – Италия (1465) – Швейцария (1468) – Франция (1470) – Бельгия и Венгрия (1473) – как по бикфордову шнуру, огонь, зажженный Гутенбергом, бежал по всем европейским странам. Эти типографии выпустили в свет около 40 тысяч книг общим тиражом в 10–12 миллионов экземпляров!
Любопытно, что во Франции появление первой печатной Библии вызвало судебные процессы о колдовстве: церковники не верили, что человек мог без участия дьявола извлечь из одной рукописи так много экземпляров. По злой иронии судьбы, Библию в Париж привез Иоганн Фуст – тот самый Фуст, который был компаньоном Гутенберга, разорил его и отсудил у него типографию. Обвиненный в колдовстве, Фуст попал в парижскую тюрьму, где вскоре умер от чумы. Однако почти 200 лет изобретение Гутенберга приписывалось именно Фусту. И лишь благодаря одному из самых талантливых учеников Гутенберга – Петеру Шефферу – удалось узнать правду. На одной из книг, напечатанных им вместе с Фустом, он сделал надпись: «В 1450 году в Майнце изобретено талантливым Гутенбергом удивительное типографское искусство, которое впоследствии было улучшено и распространено в потомстве трудами Фуста и Шеффера»…
О Гутенберге можно было бы не писать ничего – лишь привести один факт: свою первую, знаменитую 42-строчную Библию он печатал в течение пяти лет. Это был один из самых одержимых людей раннего Возрождения – и как большинство гениев, при жизни он был несчастен и гоним. Но и признание заслуг Иоганна Гутенберга перед человечеством оказалось поистине вселенским: памятник ему сегодня есть в каждом доме. Этот памятник – книга. Неважно, что на смену гутенберговской уже пришли другие технологии. (Пришли, впрочем, совсем недавно. Больше пяти веков книги печатали практически так же, как это делал Гутенберг!) Он подарил человечеству самое главное – возможность. И начало XXI века – это вовсе не конец книгопечатания. Это снова возможность – бесконечного совершенствования.
Думается, что слухи о скорой кончине печатного слова очень сильно преувеличены. Экран компьютера никогда не даст той теплой энергии, которая исходит от шелестящих страниц, – так же, как телефонный разговор не заменит живого общения. Наверное, даже самый завзятый пользователь Интернета готов повторить вслед за Цицероном: «Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души».
Флоренция превыше всего. Жизнь Никколо Макиавелли
Илья Бузукашвили
В его жизни были взлеты и падения. Он познал сполна и милости Фортуны, и горечь поражений. Молва сделала из него жестокого циника, но он им никогда не был. Он умел хранить верность, извлекать уроки из прошлого и не мыслил себя без служения родному городу.
Флоренция. Утро 10 мая 1527 года. В Зале Пятисот в Старом дворце – Палаццо Веккьо – собрался Большой совет. Предстояло избрание должностных лиц республики. В зале стоял зловещий гул. Всеобщее напряжение вызвало известие о том, что Никколо Макиавелли предложил себя на должность секретаря канцелярии Коллегии Десяти. Разве можно вступить в одну и ту же реку дважды?
Когда объявили кандидатуру Макиавелли, высокое собрание взорвалось. В единый миг с отцов города слетела степенность. Они вскакивали с мест, перекрикивая друг друга и яростно жестикулируя. Перепуганные протоколисты не успевали записывать.
«Макиавелли ведет жизнь нерелигиозную, кто его видел на проповедях?!»

Статуя в Уффици. Никколо Макиавелли
«Он сидит в трактире, хуже того – в библиотеке, читает старые книжонки. Не хотим философов! Долой философов!»
«Он ученый! Долой ученых!»
«Отечество нуждается в людях благонадежных, а не в ученых! Макиавелли историк… Он насмешник и считает себя выше всех!»
Не дожидаясь результатов голосования, Никколо покинул Палаццо Веккьо. Как же так? Ему 58 лет. Он любит Флоренцию больше всего на свете, больше близких людей, больше жизни. И в это трудное время его энергия, опыт и знания не нужны… Он перешел на другой берег по Понте Веккьо – Старому мосту – и свернул направо. Внизу текли мутные спокойные воды Арно. Под ногами лежали камни мостовой квартала, где прошло его детство…
Денег на учебу в университете у отца Никколо не было, а потому после школы юноша учился самостоятельно. Он много читал, особенно античных авторов: Тита Ливия, Тацита, Цицерона, Вергилия, Овидия. Любил музыку. А еще работал в адвокатской конторе отца, приобретая юридические знания. «Я родился бедным и скорее мог познать жизнь, полную лишений, чем развлечений», – вспоминал потом Макиавелли. Как мало мы знаем в начале нашего жизненного пути, что ожидает нас впереди! В 29 лет жизнь Макиавелли сделала крутой поворот, и он был готов к нему.
18 июня 1498 года Большой совет флорентийского правительства – Синьории избрал его секретарем второй канцелярии, занимавшейся внутренней политикой республики, а потом еще предложил возглавить канцелярию комиссии Свободы и Мира, ведавшей делами армии и ополчения.
Должности незавидные: низкое жалование, никакой перспективы продвижения и множество обязанностей.
Но те, кто назначал Никколо, знали, что не ошиблись: новый канцлер был готов не покладая рук работать на благо Флоренции, ведь его главными девизами были: «Трудом создано величие человека» и «Флоренция превыше всего».
Его переизбирали на эти посты долго. Очень долго. Четырнадцать лет. За эти годы из-под пера Макиавелли вышли многие тысячи дипломатических писем, донесений, правительственных распоряжений, военных приказов, проектов государственных законов. Он организовывал военные кампании, инициировал создание республиканского ополчения.
А еще он был дипломат от Бога. Умел убедить и переубедить, настоять, навязать. Дипломатические и военно-дипломатические миссии к различным итальянским государям, к папе, императору, четырежды к французскому королю – во все ответственные моменты итальянской и европейской истории Макиавелли отрывался от своих дел во Флоренции и направлялся в другие государства и чужие страны. Мало кто мог лучше него в короткие сроки точно и верно оценить политическую атмосферу в чужой стране. Когда Синьория торопила его с донесениями, он отвечал: «…серьезные вещи не отгадываются… если не хочешь излагать выдумок и сновидений, необходимо все проверить».
Стройный, подтянутый, изящно одетый, превосходно владеющий языками, ироничный и остроумный – таким был Никколо Макиавелли.
Нет, он и не думал превращаться в чопорного чиновника. Всегда оставался душой вечеринок с друзьями. И очень любил семью, с шутливой нежностью именовал ее своей «командой».
Классики древности были для Макиавелли друзьями и советчиками. Без них он не обходился даже в своих служебных поездках. Он никогда не относился к античным писателям лишь как любознательный читатель и эрудит, но всегда – как политик и практик. Не упускал ни единой возможности применять их идеи в жизнь. В 1502 году, находясь в Имоле с дипломатическим поручением, он попросил своего друга и коллегу Бьяджо Буонаккорси достать и выслать ему «Жизнеописания» Плутарха. «Во Флоренции их купить нельзя, – отвечал тогда Бьяджо. – Буду заказывать в Венеции».
Буонаккорси был преданным другом Никколо Макиавелли и не переставал восхищаться им. В одном из его писем читаем: «Я не хочу, чтобы вы благодарили меня за услуги. Если бы я даже не хотел любить вас и всецело принадлежать вам, я не мог бы этого сделать, ибо к этому меня вынуждает сама природа… Возвращайтесь же побыстрее, черт возьми, возвращайтесь!»
Бартоломео Руфини, еще один друг Никколо, писал ему: «Ваши письма к Бьяджо и к другим доставляют всем большое удовольствие. Попадающиеся там шутки и остроты заставляют всех хохотать до упаду».
Все изменилось в 1512 году. Во Флоренции случился переворот. Республика пала, и к власти в городе пришла Синьория Медичи. Ей не нужен был бывший секретарь второй канцелярии и глава комиссии Свободы и Мира. Его отправили в ссылку, где он пробыл 15 лет. Какое наказание могло быть более суровым для человека, который долгие годы верой и правдой служил своей любимой родине?
«Так долго продолжаться не может, – писал Макиавелли в одном из писем, – такая бездеятельная жизнь подтачивает мое существование, и если Бог не сжалится, то в один прекрасный день я покину свой дом и сделаюсь репетитором или писарем у какого-нибудь вельможи». Однако, когда старые знакомые пригласили его на службу к французскому королю, он ответил: «Предпочитаю умереть с голоду во Флоренции, чем от несварения желудка в Фонтенбло».
Письмо Никколо к флорентийскому послу в Риме Франческо Виттори не только проливает свет на жизнь Макиавелли в изгнании. Оно делает его образ более доступным и понятным. А по стилю и языку считается одним из самых знаменитых в итальянской литературе: «Встаю я с солнцем и иду в лес… Потом направляюсь к источнику, а оттуда к птицеловному току. Со мной книга. Либо Данте, Петрарка, либо Тибулл и Овидий… Затем я перебираюсь в придорожную харчевню и разговариваю с проезжающими – спрашиваю, какие новости у них дома, слушаю всякую всячину и беру на заметку всевозможные людские вкусы и причуды. Пообедав дома, я возвращаюсь в харчевню, где застаю обычно в сборе хозяина, мельника, мясника и двух кирпичников. С ними я убиваю целый день, играя в триктрак и в крику, при этом мы без конца спорим и бранимся и порой из-за гроша поднимаем такой шум, что нас слышно в Сан-Кашано… Так я задаю себе встряску и даю волю проклятой судьбе – пусть сильнее втаптывает меня в грязь, посмотрим, не станет ли ей, наконец, стыдно… С наступлением вечера я возвращаюсь домой и вхожу в мой кабинет; у дверей я сбрасываю будничную одежду, запыленную и грязную, и облачаюсь в платье, достойное царей и вельмож; так, должным образом подготовившись, я вступаю в старинный круг мужей древности. Там, дружелюбно ими встреченный, вкушаю ту пищу, для которой единственно я рожден. Здесь я без стеснения беседую с ними и расспрашиваю о причинах их поступков, они же с присущим им человеколюбием отвечают. На четыре часа я забываю о скуке, не думаю о своих горестях, меня не удручает бедность и не страшит смерть: я целиком переношусь к ним. И так как Данте говорит, что „исчезает вскоре то, что, услышав, мы не затвердим“, я записываю все, что вынес поучительного из их бесед…»
Похоже, у судьбы были на Макиавелли свои планы. Быть может, оставайся он до конца своей жизни успешным политиком и дипломатом, мало кто вспоминал бы о нем сегодня: сколько их было в нашей истории! А Макиавелли в своем изгнании взялся за перо.
«Я выскажу смело и открыто все, что знаю о новых и древних временах, чтобы души молодых людей, которые прочтут написанное мной, отвернулись бы от первых и научились бы подражать последним… Ведь долг каждого честного человека – учить других тому доброму, которое из-за тяжелых времен и коварства судьбы ему не удалось осуществить в жизни, с надеждой, что те, кто придут следом, будут более способными к этому».
В ссылке у Макиавелли оказалось время, чтобы написать те исторические, философские и художественные работы, которые обессмертили его имя: «Государь», «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия», «О военном искусстве», комедия «Мандрагора», «История Флоренции».
Как это часто бывает, народная молва оказалась к Никколо несправедлива. С чьей-то легкой руки – и на века – воззрения Макиавелли превратились в проповедь политического коварства и лицемерия. Его обвиняли в том, что он является учителем тиранов, советует им использовать вероломство, лицемерие, насилие, убийство. Но он только правдиво писал о том, что окружало его в жизни, где политика резко расходилась с моралью.
Ставшая крылатой фраза «Цель оправдывает средства» была лишь искусно выхваченной из контекста цитатой, весьма далекой от подлинного Макиавелли. Сам-то Никколо страстно мечтал как раз об обратном. В его изречениях мы найдем и мудрость древних, и актуальность сегодняшнего дня: «…не следует никому давать советы и пользоваться чужими советами, кроме общего совета каждому – следовать велениям души и действовать смело»; «Человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и подражать наидостойнейшим, чтобы если не сравняться с ними в доблести, то хотя бы исполниться ее духа».
В тот день, 10 мая 1527 года, Большой совет Флорентийской республики не утвердил кандидатуру Макиавелли. За него было отдано 12 голосов, против – 555.
Через месяц Никколо Макиавелли не стало. Его похоронили в базилике Санта-Кроче, флорентийском пантеоне, где покоятся лучшие сыны этого славного города…
А полвека спустя на стене одного из залов Палаццо Веккьо появился портрет Макиавелли кисти Санти ди Тито. Современники утверждали, что это наиболее достоверное изображение мыслителя. Проницательный умный взгляд, ироничная улыбка… Всех, причинивших ему горе, он давно простил. А Флоренция прилюдно призналась ему в любви. Он и вправду того заслужил.
Граф Сен-Жермен
Вадим Карелин
Этого человека по праву можно назвать самой загадочной личностью Западной Европы. Появившись в канун Великой Революции при французском дворе в прямом смысле слова из ниоткуда, он принял самое активное участие в политических событиях того времени. Он владел всеми европейскими и многими древними языками, был прекрасно образован, сказочно богат, демонстрировал навыки в алхимии и не старел. Знавшие его лично неизменно подпадали под его обаяние, прочие же либо восхищались им, либо его ненавидели. Он исчез так же таинственно, как и появился. Он использовал более десяти имен; история сохранила самое известное: граф Сен-Жермен.
Некто из ниоткуда
«Было это в 1743 году. Слухи донесли, что в Версаль только что прибыл некий несметно богатый, судя по украшавшим его драгоценностям, чужеземец. Откуда он прибыл? Об этом никто не знал. Самообладание, достоинство, интеллект поражали с первой минуты общения с ним. Он обладал гибкой и элегантной фигурой, руки его были нежны, ступни ног по-женственному малы, изящность икр ног подчеркивалась облегающими шелковыми чулками. Очень узкие панталоны также свидетельствовали о редчайшем совершенстве его телесных форм. Его улыбка обнажала прекраснейшие зубы, симпатичная ямочка красовалась на подбородке, волосы его были черны, а глаза – добры, взгляд – проницателен. О! Что это были за глаза! Я никогда не встречала равных им. На вид он казался лет сорока пяти».

Граф Сен-Жермен
Так описывает первое впечатление от встречи с Сен-Жерменом графиня д’Адемар, придворная фрейлина и близкая подруга французской королевы Марии-Антуанетты. В XVIII веке в среде аристократии было принято вести дневники, и именно воспоминания графини стали впоследствии одним из основных источников информации о Сен-Жермене. Но не единственным.
Вспоминает Дьедонне Тьебо: «Во внешности Сен-Жермена сквозили изящество и интеллект. В нем чувствовалось благородное происхождение и знание светских условностей… История же Сен-Жермена являет нам образцовый пример истории человека мудрого и предусмотрительного, остерегавшегося нарушить правила общепринятого поведения или оскорбить мораль. Чудес о нем рассказывают великое множество, однако они не скандальны и не низменны».
О чудесах, действительно, заговорили сразу же. Будучи прекрасным собеседником, граф поражал всех своей эрудицией. Мало того, что он свободно говорил на всех европейских и многих восточных языках, но он, казалось, обладал безграничными познаниями в области естественных наук и истории, о большинстве событий которой он говорил как. их очевидец.
Некоторые истории о Сен-Жермене уже напоминают легенды, которыми всегда окружена жизнь выдающихся людей, но что поделаешь – именно в таком виде дошли до нас впечатления современников об этом человеке. Коллэн де Планси вспоминает: «Однажды, когда он рассказывал, что хорошо знавал Понтия Пилата в Иерусалиме, он описал подробно дом римского наместника и начал перечислять блюда, поданные к столу в один из тех вечеров, когда Сен-Жермен у него ужинал. Кардинал де Роан, подумав, что все это бредни, обратился к камердинеру графа, седому старику с честным лицом:
– Друг мой, мне трудно поверить тому, что говорит Ваш хозяин. Может быть, он и в самом деле чревовещатель, я могу согласиться и с тем, что он делает золото. Но тому, что ему 2000 лет и что он виделся с Пилатом, – нет, этому верить не могу. Вы там тоже были?
– Нет, что вы, Ваше Высокопреосвященство, – ответил прямо слуга, – я всего лишь около 400 лет служу господину графу». Наверное, это была шутка. Но шутка со знанием дела.
Этим, однако, необычные способности графа не ограничивались. Еще один современник, Т. П. Барнум, рассказывал о Сен-Жермене: «Его память была удивительной. Прочитав однажды газету, он мог свободно пересказать все ее содержание от начала до конца. К прочим способностям относится и его умение писать обеими руками каллиграфическим почерком. Он мог, например, писать любовное письмо правой рукой, а левой переписывать стихи, и это с большой легкостью». Или, как свидетельствовали другие очевидцы, он мог одновременно обеими руками на двух листах бумаги под диктовку записать один и тот же текст, и два листа были абсолютно идентичными – совпадение можно было сличать на просвет.
Граф Сен-Жермен был богат. Ни разу ни у кого он не одалживал ни су. Его же подарки отличались всегда не только изысканным вкусом, но и высокой стоимостью. Никто не знает происхождения его состояния, но зафиксировано несколько случаев, когда, находясь в затруднительном положении, граф расплачивался не золотом, а бриллиантами, которые, казалось, всегда имел при себе. Ходили легенды о его способности устранять дефекты в драгоценных камнях и «плавить» алмазы, из нескольких маленьких создавая большой камень чистейшей воды. Такого рода услуги, в частности, он оказывал королю Франции Людовику XV.
Рассказывали и об алхимических способностях графа. Например, известно, что когда в Турне встречи с ним добивается знаменитый сердцеед Казанова, то он находит Сен-Жермена в собственной химической лаборатории разрабатывающим новые красители для шляп. Граф «берет у него монету в 12 су, кладет ее на раскаленный докрасна древесный уголь и работает паяльной трубкой; монета расплавляется и оставляется остывать. «Теперь, – говорит Сен-Жермен, – забирайте свои деньги». – «Но они же из золота!» – «Из чистого» [1]. Казанова забрал монету и впоследствии подарил ее прославленному маршалу Кейту, тогдашнему губернатору Невшателя.
Граф хорошо рисовал и потрясающе играл на скрипке. Краски для своих полотен он создавал сам, никому не раскрывая секрета. По свидетельствам современников, они отличались «особым блеском». Что же касается скрипичного мастерства, то спустя столетие о великом Паганини говорили, что «это Сен-Жермен в теле итальянского скелета».
Остается добавить всего несколько штрихов. Сен-Жермен постоянно присутствовал на званых обедах и ужинах, но никто и никогда не видел, чтобы он ел. Сам он объяснял это особой диетой, предписанной ему. И он предпринимал чрезвычайные меры предосторожности, чтобы не простудиться в холодное время года.
Наверное, если собрать воедино все воспоминания о графе Сен-Жермене, то получится длинное повествование наподобие «Тысячи и одной ночи» – настолько волшебной предстает в свидетельствах современников его жизнь. Впечатление, произведенное им на аристократию того времени, было действительно ошеломляющим и породило множество слухов и легенд. Но это был человек из плоти и крови; весьма и весьма необычный, но все же человек, чья официальная биография (насколько она вообще может так называться и быть известной) не менее интересна, чем след, оставленный им в умах и сердцах людей.
Официальная биография
Дата рождения графа Сен-Жермена неизвестна, как неизвестно и место рождения. Существует более пяти версий его происхождения, из которых заслуживающей внимания является одна. Согласно этой версии, его отцом является Ференц II Ракоци, князь Трансильвании[2]. Ландграф Карл Гессенский передает со слов Сен-Жермена: «Он поведал мне о том, что, вне всякого сомнения, был плодом брачного союза принца Ракоци из Трансильвании с первой его женой по имени Текели. Совсем еще ребенком отдан он был на попечение в дом последнего герцога де Медичи (Джовано Гасто), который обожал младенца и укладывал его на ночь в своей опочивальне». Ференц II Ракоци, столь любимый и почитаемый в Венгрии борец за освобождение страны из-под австрийского владычества, умер в изгнании в Турции 8 апреля 1735 г. По странному стечению обстоятельств, существует единственное свидетельство его смерти – слова его пажа. Это дало повод для предположения, что его смерть была всего лишь инсценировкой, а князь продолжал жить под именем собственного сына. Впрочем, это лишь одна из версий.
О первых годах жизни Сен-Жермена неизвестно практически ничего. Как будет ясно из дальнейшего повествования, применительно к этому человеку вообще затруднительно говорить о том, что такое «первые годы». Тем не менее, сохранились письменные свидетельства, позволяющие проследить его жизненный путь до триумфального появления при французском дворе.
С 1737 по 1742 год он находился в Персии при дворе Надир-шаха и занимался научными исследованиями. В 1745 году мы встречаем его в Англии, где он был арестован по подозрению в шпионаже в пользу якобитов, но тут же после дачи объяснений освобожден и впоследствии принят на высоком уровне лордом Харрингтонским. С 1745 по 1746 год Сен-Жермен жил в Вене, где занимал высокое положение и дружил с премьер-министром Фердинандом Лобковицем. Именно он познакомил графа с французским маршалом Бель-Илем, который пригласил Сен-Жермена посетить Париж.
Во Франции Сен-Жермен очень быстро заслужил расположение короля Людовика XV и его фаворитки маркизы де Помпадур. В разгар Семилетней войны в 1760 г. именно он был отправлен королем в Гаагу с секретной миссией – заключить сепаратный мир с Англией и Пруссией. Действуя таким образом, король вступил в противоречие с политикой собственного министра иностранных дел маркиза де Шуазеля, чем вызвал противодействие и интриги с его стороны. Тем не менее, шанс на заключение мира оставался, но он требовал более решительных шагов со стороны короля и его фаворитки. В разгар политических баталий Сен-Жермен написал маркизе де Помпадур: «Вам должна быть также известна моя преданность Вам, мадам. Поэтому приказывайте, и я – к Вашим услугам. Вы можете установить в Европе мир, минуя утомительные и сложные манипуляции Конгресса…» Но он не был услышан, а маркиз де Шуазель в итоге убедил короля прекратить его полномочия.
Согласно мемуарам барона де Глейхена, с 1760 по 1762 год Сен-Жермен находился в России, где содействовал восхождению на престол императрицы Екатерины II, с чьей матерью принцессой Анхальт-Цербстской был ранее знаком. Он дружил с Алексеем и Григорием Орловыми и пользовался большим их уважением. С графом Алексеем Орловым он потом неоднократно встречался в Европе, причем тот называл Сен-Жермена «caro padre» и «caro amico»[3].
Затем были Германия и Голландия, Италия и снова Германия. В 1779 году Сен-Жермен остановился в Эккерн-ферде, в герцогстве Шлезвиг, у знаменитого покровителя алхимиков князя Карла Гессен-Кассельского. Там он занимался изготовлением стойких красителей и лекарств из трав. Именно там 27 февраля 1784 года, как следует из записи, сделанной в церковной книге Эккернферде, он умер и был похоронен на местном кладбище.
Но на этом его жизнь не закончилась.
Не совсем официальная биография
12 мая 1821 года графиня д’Адемар написала: «Я виделась с Сен-Жерменом еще не раз, и каждая встреча сопровождалась обстоятельствами, которые повергали меня в крайнее удивление: в день убийства королевы; накануне 18 Брюмера; день спустя после кончины герцога Энгиенского (1804 г.); в январе месяце 1813 года; и в канун убийства герцога Беррийского (1820 г.). Жду с нетерпением шестой встречи, если на то будет Воля Божия». В той же заметке содержится упоминание о пророчестве, сделанном Сен-Жерменом в 1793 году, когда он предупредил ее о приближающейся печальной кончине королевы и, в ответ на ее расспросы о том, суждено ли им будет увидеться вновь, сказал: «Нас ожидает еще пять встреч, не более».
Графиня была далеко не единственным человеком, встречавшим Сен-Жермена после его официальной смерти. Согласно масонским реестрам, он неоднократно присутствовал на их конференциях, об этом есть упоминания даже в чисто католических источниках.