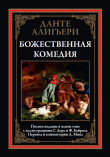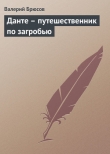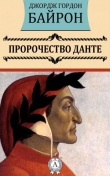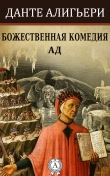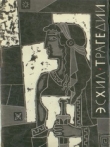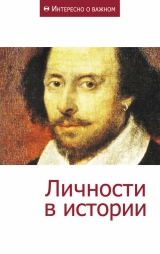
Текст книги "Личности в истории"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 48 страниц)
«Святой доктор» Гааз
Дмитрий Зубов
Есть люди, которые становятся знаменитыми не благодаря шумихе в прессе или масштабным рекламным кампаниям. Их имена с любовью и уважением повторяют люди, их помнят многие поколения, их величают по имени-отчеству. Доктора Фридриха Иосифа Гааза знали в Москве все и, признав этого немца своим, москвичом, называли просто Федором Петровичем.
Родился он в 1780 году в небольшом немецком городке Мюнстейфеле, окончил медицинский факультет в Вене, где специально занимался глазными болезнями. Вылечив русского вельможу Репнина, он поддался уговорам последнего и в 1802 году приехал в Москву. В 1829 году Гааз был назначен на должность старшего врача московских тюремных больниц, а московский генерал-губернатор Голицын предложил ему должность члена комитета попечительства о тюрьмах.

Фридрих Иосиф (Федор Петрович) Гааз
Столкнувшись с арестантским бытом, Гааз очень много сделал для того, чтобы создать человеческие условия для заключенных и хоть как-то облегчить участь своих пациентов. Его настоянием, например, металлический прут, который на марше продевался сквозь наручники попарно скованных заключенных, был заменен на легкие кандалы, изнутри обшитые кожей. Он добился отмены поголовного бритья арестантов и существенного улучшения их пищи. На эти цели он внес 11 тысяч рублей – огромные по тем временам деньги – от неизвестного благотворительного общества. На Воробьевых горах на собранные им пожертвования был перестроен московский «тюремный замок», при тюрьме же он организовал мастерские и школу для арестантских детей. В 1814 г. он издал – за свой счет – книжку «А.Б.В. христианского благонравия. Об оставлении бранных и укоризненных слов и вообще неприличных на счет ближнего выражений, или О начатках любви к ближнему». Для бродяг и неимущих он открыл Полицейскую больницу для бесприютных, которую москвичи называли гаазовской. При ней он и жил в маленькой квартирке, там лечил больных, там же и скончался.
Гааз присутствовал при отправке каждой партии заключенных из «замка» на Воробьевых горах, боролся с жестокостью тюремщиков. Больных и слабых арестантов он оставлял в городе до полного выздоровления, а когда арестанты прибывали на место назначения, Федор Петрович посылал им деньги, книги и вещи. «Святой доктор» – так звали Гааза и в пересыльном «замке», и во всех тюремных больницах Москвы и на длинных сибирских дорогах.
«Старый, худощавый, восковой старичок в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках и башмаках с пряжками», – таким описал доктора Гааза А. И. Герцен в «Былом и думах». Обращался к образу Гааза и Достоевский – в автобиографических заметках, романе «Идиот» и черновиках «Преступления и наказания» (там он именуется «Гасом»).
14 октября 1909 года во дворе Полицейской больницы (М. Казенный пер., 5, близ Курского вокзала; сейчас здесь Институт гигиены детей и подростков) был открыт памятник «святому доктору». Он был создан на средства, собранные общественностью Москвы. Скульптор Н. А. Андреев работал бесплатно – бюст стал его даром городу Москве.
На постаменте памятника Гаазу высечен его девиз, к сожалению слегка затертый нами сегодня: «Спешите делать добро».
Сотворившая чудо. Жизнь и судьба Элен Келлер
Татьяна Курбатова
Что испытывает человек, внезапно ослепнув и оказавшись в полной темноте? Панику, страх, ужас. И мечется, не зная, что делать, пока не успокаивается и не начинает прислушиваться… А если его лишить еще и возможности слышать?
Слишком трагично для начала?
Увы. Примерно с такой сцены начинается спектакль «Сотворившая чудо» в Российском академическом молодежном театре, только перед зрителями появляется не взрослый человек, а ребенок пяти лет, потерявший после болезни зрение и слух.
Капризная, нетерпеливая, своевольная девчонка. Она делает что хочет… Родители даже не пытаются ей перечить, угадывают желания, жалеют и ласкают, иногда едва сдерживая нетерпение, и только старший сводный брат называет вещи своими именами, призывая избавить дом от такого «ужаса».

Элен Келлер со своей учительницей Анной Салливан
Но если читатель узнает, что через несколько лет этот маленький «монстр», не умеющий ни читать, ни писать, ни говорить, ни слышать, поступит в колледж и закончит его, поступит в университет и закончит его, создаст Фонд поддержки глухих и слепых людей и удостоится признания Марка Твена: «В XIX веке были два по-настоящему великих человека – Наполеон и Элен Келлер», – не назовет ли он это чудом?..
Элен Келлер, наша героиня, родилась 27 июня 1880 года в маленьком городке на севере Алабамы. До полутора лет она отличалась от других детей разве что пылким и решительным характером и привычкой повторять все, что в ее присутствии делали другие. В середине второго года жизни, напишет она потом, «пришла болезнь, замкнувшая мне уши и глаза и погрузившая меня в бессознательность новорожденного младенца».
Девочка не поняла, что с ней случилось, постепенно привыкла к темноте и молчанию и забыла, что когда-то было иначе. Но пытливый ум, вопросы, рождавшиеся внутри, не давали Элен покоя.
«Бедное дитя! Ее мятежная душа ищет себе пищи во тьме, ее неумелые руки разрушают все, чего касаются, так как она попросту не знает, что делать со встречными предметами», – скажет о ней та, которая придет освободить Элен из темноты, – ее учительница Анна Салливан.
Это о ней спектакль РАМТ. Это она сотворила чудо, она обуздала и приручила неразумное дитя, как обуздывают и приручают норовистую лошадь. И она имела на это право, потому что любила свою ученицу. Она открыла для Элен путь к познанию: сначала познакомила с ручной азбукой и с именами всех предметов и явлений мира, затем отвечала на многочисленные вопросы, позже пересказывала лекции, читала домашние задания, отыскивала в словарях значения латинских, немецких и французских слов (когда Элен училась в университете). Она прожила всю жизнь рядом со своей воспитанницей, считая, что история ее преподавания и есть история ее жизни, а ее работа и есть ее биография. Их связывали узы искренней дружбы, которые с годами становились крепче и крепче. Анна Салливан достойна отдельных строк, которые непременно появятся в нашем журнале, а сегодня рассказ об Элен.
Ее судьба интересна не потому, что эта девушка смогла получить образование, будучи слепоглухонемой, а потому, что смогла раздвинуть границы возможного: страшный недуг не помешал ее душе впитать в себя все красоты и сложности этого мира, а ей самой искать – и обрести – смысл жизни.
Ее учителями были природа, книги и ее собственное сердце, требовавшее ответы на множество вопросов, а мисс Салливан помогла Элен услышать голос этих учителей.
«Поистине все, что жужжало, щебетало, пело и цвело, принимало участие в моем воспитании: громкоголосые лягушки, сверчки и кузнечики, которых я бережно держала на ладони, пока они, освоившись, не заводили вновь свои трели и пиликанья, пушистые птенчики и полевые цветы, цветущий кизил, луговые фиалки и яблоневый цвет.
…Однажды какой-то джентльмен… прислал мне коллекцию окаменелостей. Там были ракушки с красивыми узорами, кусочки песчаника с отпечатками птичьих лапок и прекрасный выпуклый рельеф папоротника. Они стали ключами, открывшими мне мир до потопа.
В другой раз мне подарили раковину, и с детским восторгом я узнала, как этот крохотный моллюск создал себе сияющий домик.
Рост цветка давал пищу другому уроку.
Одно время на подоконнике, уставленном растениями, стоял стеклянный шар-аквариум с одиннадцатью головастиками. Как весело было запустить туда руку и ощутить быстрые толчки их движения, дать головастикам проскальзывать между пальцами и вдоль ладони. Как-то самый честолюбивый из них подпрыгнул над водой и выскочил из стеклянной чаши на пол, где я и нашла его, скорее мертвого, чем живого. Единственным признаком жизни было легкое подрагивание хвостика, однако, едва возвратившись в свою стихию, он рванулся ко дну, а затем стал плавать кругами в бурном веселье. Он совершил свой прыжок, он повидал большой мир и теперь готов был спокойно ждать в своем стеклянном домике достижения зрелого лягушачества. Тогда он отправится на постоянное житье в тенистый пруд в конце сада, где наполнит летние ночи музыкой своих забавных серенад».
Об уроках природы Элен может говорить бесконечно. Ее книга «История моей жизни» полна красивейших описаний цветов, неба, морских брызг, золотых колосьев, коробочек хлопка, ветра, грозы… Каждое описание завораживает, очаровывает, как музыка или стихи, в каждом новое понимание себя и других, и невольно задаешься вопросом: «Кто из нас незрячий?»
«Я слышу песнь корней, радостно трудящихся в темноте… Они никогда не увидят своей прекрасной работы. Но именно они, скрытые во мраке, возносят к свету цветы!»
И вопросы, вопросы, вопросы. Едва научившись изъясняться с помощью ручной азбуки, она задает их тысячи, а научившись писать, заводит тетрадь (по договоренности с Анной), куда записывает все, что хотела бы узнать и понять: «Кто сделал землю и людей и все? Отчего Солнце горячо? Где я была прежде? Как я пришла к матушке? Растения растут из семян, но я уверена, что человек растет иначе? Почему земля не падает, если она такая тяжелая?.. Объясни своей маленькой ученице очень много таких вещей, когда у тебя найдется время».
Одна из родственниц, ревностная христианка, попробовала поговорить с Элен о Боге, но так как подбирала для этого не всегда понятные ребенку слова, рассказ не произвел на девочку впечатления. Однако через несколько дней Элен делилась со своей учительницей: «А. (так звали ту самую родственницу) говорит, что Бог сделал всех людей и меня из песка. Наверное, она пошутила. Ведь я сделана из мяса и костей, не правда ли? Еще А. говорит, что Бог везде и что он есть любовь. Но я не думаю, что можно сделать людей из любви. И еще она сказала такую смешную вещь: будто Бог – мой отец. Я очень смеялась, потому что знаю, что мой отец – капитан Келлер!»
Не принимая в ту пору Бога как отца, девочка встретила в одной из книг выражение «мать-природа», оно ей очень понравилось, и Элен долго приписывала матери-природе все, что неподвластно человеку. И вновь она размышляла: «Что делает отец-природа, ведь, если есть мать-природа, у нее должен быть муж?» Через несколько дней, проходя мимо глобуса, Элен спросила: «Кто сделал мир?» Анна Салливан ответила: «Никто не знает, как в действительности создавалось все сущее, но я могу рассказать тебе, как мудрые люди старались это объяснить. После долгих трудов и размышлений люди уверовали, что все силы исходят от одного всемогущего существа, и этому существу они дали имя Бог». Элен умолкла в глубоком раздумье и через несколько минут спросила: «Кто сделал Бога?»
Научившись читать, Элен заказывает одну книгу за другой, изучает и размышляет. Она обожает историю. В ее библиотеке Гете и Шекспир, Гюго и Шиллер, Бальзак и Мериме, «Герои Греции», «Илиада» и «Одиссея».
Читая о жизни Элен, можно удивляться и восхищаться без конца, судите сами: «Когда дождливая погода удерживает меня дома… я люблю вязать на спицах и крючком, иногда играю в шахматы или шашки.
Музеи и художественные выставки… представляют для меня источник удовольствия и вдохновения. Я получаю удовольствие, касаясь великих произведений искусства. Когда кончики моих пальцев обводят контур, изгиб или линию, они раскрывают мне мысли и чувства, которые художник хотел отобразить. Я осязаю на лицах мраморных богов и героев ненависть, отвагу и любовь, точно так же как ощущаю их на живых лицах, которых мне разрешают коснуться. Душа моя наслаждается безмятежностью и грацией изгибов тела Венеры.
Еще одно удовольствие, которое мне, к сожалению, приходится испытать достаточно редко, – театр… Во время действия мне вполголоса пересказывают, что происходит на сцене. Это нравится мне даже больше чтения, так как создается впечатление, что я нахожусь прямо в центре волнующих событий. Мне довелось испытать счастье встречи с несколькими великими актерами и актрисами… мне разрешили потрогать лицо и костюм Эллен Терри, когда она представляла королеву. В ней было божественное величие, превозмогающее глубочайшую скорбь.
Ничто не приносит мне большего удовольствия, чем посадить в лодку друзей и покатать их. Разумеется, я не могу определять направление подобной прогулки. Поэтому обычно кто-то садится к рулю, а я гребу.
Мне также нравится каное. Наверное, вы улыбнетесь, если я добавлю, что особенно люблю плыть на каное лунной ночью…
Из письма м-ру Крелю: Мой дорогой друг м-р Крель, я только что узнала… о Вашем любезном предложении купить мне ласковую собаку, и я благодарю Вас за эту добрую мысль. Я очень счастлива узнать, что у меня есть такие добрые друзья в других краях… теперь хочу рассказать Вам, что собираются сделать любители собак в Америке. Они собираются прислать мне денег для бедного маленького слепоглухонемого ребенка. Его зовут Томми, ему пять лет. Родные его слишком бедны, чтобы платить за школу. Так что вместо того, чтобы дарить мне собаку, джентльмены собираются помочь сделать жизнь Томми такой же светлой и радостной, как моя. Разве это не прекрасный план? Образование внесет свет и музыку в душу Томми, и тогда он непременно станет счастливым».
Элен учится, много читает и сравнивает, отдавая учению сил намного больше, чем любой другой студент колледжа Рэдклифф. Ее одолевают грусть и смятение, когда приходится читать быстро и много, когда перегруженный ум не в силах оценить сокровища, добытые столь дорогой ценой.
В колледже она обретает новую силу, знакомясь с трудами древних мыслителей, следуя за рассуждениями Сократа и Платона. «Когда я узнала Декартову максиму “Я мыслю, следовательно, я существую”, во мне пробудилось нечто, до сих пор дремавшее. Я поднялась над своими ограниченными способностями. Я не сразу поняла значение философии как путеводной звезды моей жизни, но теперь мне радостно вспоминать, сколько раз она меня ободряла в моих недоумениях, как часто позволяла мне вполне разделять наслаждение других чудесами жизни, недоступными двум моим запечатанным чувствам».
К этому моменту Элен научилась говорить, тренируясь днями и ночами правильно произносить звуки. Позже она читала лекции перед многочисленной аудиторией, выступала на конгрессах, посвященных проблемам слепых людей, беседовала в Белом доме с президентом Кулиджем о государственной поддержке Фонда помощи глухим и слепым людям. Этот Фонд был создан для заботы о школах для глухих и слепых детей, приютах для раненых, потерявших зрение на войне, и о тысячах других одиноких, потерявших надежду людях.
Элен поможет многим, напишет четыре книги и, заканчивая одну из них – «Историю моей жизни» – скажет: «Моя жизнь – хроника дружбы. Друзья каждый день создают мой мир заново. Без их ласковой заботы всего моего мужества не хватило бы, чтоб укрепить сердце мое для жизни. Но, как Стивенсон, я знаю, что лучше делать дела, чем воображать их».
Созидатель мостов. Памяти Иоанна Павла II
Вадим Карелин
Ушел из жизни Иоанн Павел II, и мир словно затаил дыхание. Шок первых дней, четыре миллиона паломников, соболезнования со всей планеты, траурная церемония… И над всем этим – попытка осмыслить произошедшее и такой несвойственный современной самоуверенности вопрос: «Что же будет дальше?» Единственным в мире телевидением, оставшимся в стороне от траурных событий, стало российское. Но даже несмотря на это мы ощутили себя причастными событиям, которые уже называют историческими. Мир стоя прощался с человеком, служившим ему.

Иоанн Павел II
Его запомнят как Иоанна Павла II, Папу Римского. Или как Кароля Войтылу, бесконечно доброго и миролюбивого поляка, совершившего более 100 (!) поездок в разные концы мира. И возможно, позабудется один из титулов, который носит Папа Римский, – Великий понтифик. «Понтифик» в переводе с латыни означает «тот, кто строит мост», мост между двумя берегами, мост между людьми и божественным. Именно этот титул лучше всего раскрывает суть той миссии, которую выполнял Иоанн Павел II.
Мост между человеком и Человеком
Папа был выдающимся общественным и религиозным деятелем – бесспорно. Но, прежде всего, он был неординарным человеком. Как сказал глава буддистов России Пандидо Хамбо-лама Дамба Аюшеев, «его политические взгляды должны анализировать политологи и историки. Для нас важнее, что он проповедовал мир, добро и общечеловеческие ценности». Стоит добавить: не только проповедовал, но и своим примером показывал, что значит быть Человеком. О нем напишут как о самом-самом: больше всех ездил, больше всех встречался, больше всех написал. Но поражает другое – его любовь к людям. Как иначе объяснить феноменальную память Папы на людей? Он встречался с десятками и сотнями людей в день и каждого запоминал с первого раза. А через несколько лет мог не только узнать человека, но и вспомнить его имя, содержание предыдущего разговора с ним.
Папу обязательно канонизируют. Формально – за чудеса исцеления, которые он совершил при жизни. Реально – потому что именно такие святые нужны людям: способные показать пример. В каждом из нас есть зерна подобных качеств, но далеко не каждый осмеливается эти качества проявлять. Он же своим примером показал, как можно быть, а не казаться. Он сам стал мостом между идеальными общечеловеческими ценностями и реальной повседневной жизнью. А благодаря его знаменитому «Не бойтесь!» (с которого Иоанн Павел II начал свое служение) этот мост долго будет крепким.
Мост между людьми
Формально перед Папой не стоит задача объединять людей. Этим должны заниматься политики и общественные деятели. Но они, как правило, стремятся не столько объединить, сколько уравнять, навязать людям политические, экономические и социальные шаблоны и загнать нас в эти рамки. И вот мы уже привыкаем мыслить одинаковыми категориями, забывая об их сути. Стремимся к формальным демократии и толерантности, почти забыв, что в основе этих понятий когда-то лежали идеи истинной свободы человека и братства людей. Иоанну Павлу II удалось найти другой путь к объединению людей – путь, ведущий к их сердцам. Где бы он ни был, он говорил о главном, о мире, любви и согласии. Ему верили, его слушали, его словам хотели следовать, как это было, например, в Ирландии, где множество людей на коленях и со слезами слушали его слова о необходимости мира и прощения.
Но в той же Ирландии сразу же после его отъезда прокатилась волна террористических акций ИРА. Неужели все было напрасно? Конечно нет. И доказательство тому – президенты Сирии и Израиля (стран, находящихся в состоянии войны), на глазах у всего мира пожавшие друг другу руки. Им пришлось объяснить возмущенным гражданам своих стран, что это было сделано в знак уважения к Папе.
Иоанну Павлу II удалось возродить древнеримский принцип конкордии – согласия между людьми. Согласия сердца с сердцем, согласия, способного объединить разных людей на основе общих человеческих ценностей, которые проповедовал Папа. И пусть его речи не всегда превращались в дела тех, к кому были обращены, «Горе мне, если я не проповедую!» – повторял он слова апостола Павла.
Мост между человеком и Богом
«Целиком твой» – девиз Папы Римского Иоанна Павла II на его гербе говорит сам за себя. Своей основной задачей он считал «показать миру Бога, ясного, как день», а для этого нужно было решить две проблемы.
Первую проблему Папа видел в современной цивилизации, которую описывал как цивилизацию страха. Люди боятся мыслить, люди боятся любить, люди боятся совершать поступки. И Папа призывал людей выпрямиться, освободиться, не бояться, проявить свое изначальное человеческое достоинство, достоинство человека как любимого создания Божьего. Своим собственным служением он являл пример бесстрашия, ведь последние годы он фактически был калекой, но не прекращал работы.
Вторую проблему Папа видел в современном состоянии Церкви, которая должна являться путем к Богу. Но путь этот за века изрядно зарос сорняками всевозможных предрассудков, которые необходимо искоренять. И благодаря Иоанну Павлу II полностью отошли в прошлое такие папские атрибуты, как кресло на носилках, целование туфли, местоимение «мы» в публичных выступлениях. В 1997 году Ватикан благодаря Папе реабилитировал Галилея. Мир увидел не формального деятеля, а «ученика Христова», как он сам однажды назвал себя.
Мост между религиями
Эту сторону его деятельности нам еще предстоит осмыслить, потому что не укладывается пока в голове, как такое вообще могло произойти в наше время. В вышедшей в 1994 году книге «Переступая порог надежды» Папа писал о том, что во многих мировых религиях содержатся «семена Слова» (semina verbi). Эта идея впоследствии нашла свое развитие в его действиях в отношении основных мировых религий.
Иоанн Павел II стал первым с апостольских времен Папой, который вошел в синагогу. Не только вошел, но молился в ней вместе с иудеями. Он прикоснулся к главной иудейской святыне – Стене Плача – и публично попросил прощения у евреев за Холокост. За время его понтификата между Ватиканом и Израилем были установлены дипломатические отношения. Находясь с визитом в Сирии, Папа молился вместе с муфтием (главой мусульман) этой страны в древней мечети Омейядов в Дамаске, став – опять-таки – первым Папой, вошедшим в мечеть. Иоанн Павел II восемь раз встречался с главой буддистов – Далай-Ламой XIV. Единственной Церковью, отказавшейся сделать хоть один шаг навстречу Папе, осталась, увы, Русская православная. Даже произнося слова соболезнования после смерти понтифика, Патриарх Алексий II обозначил свою позицию: «Надеюсь, что наступающий новый период в жизни Римско-католической церкви поможет обновить между нашими Церквами отношения взаимного уважения и братской христианской любви». А что же мешало сделать это раньше?
Но прислушаемся лучше к Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, назвавшему Папу «настоящим первооткрывателем в диалоге с другими религиями». Интересно, знает ли история еще хотя бы одного человека, сделавшего столько для устранения межрелигиозных противоречий, сколько сделал Иоанн Павел II?
Мост между эпохами
Александр Солженицын считает, что Папа «повлиял на ход всей мировой истории». Хочется верить, что это действительно так. Хочется верить, что не будет возврата к эпохе мелочного индивидуализма, страха и предрассудков, с которыми боролся Иоанн Павел II. Его понтификат пришелся не просто на стык двух веков и тысячелетий, а на стык двух эпох. Уходит в прошлое эпоха безнадежности, принявшей форму всеобщего цинизма. Идет новая эпоха, которой только предстоит дать название. Папа проповедовал надежду, он говорил о лучшем будущем для человека и человечества. Написанные им тексты, превосходящие по объему всю сумму документов предыдущих понтификов, полны присущей ему силы обновления традиции. «Будем все-таки надеяться, что красота спасет мир, как сказано у Достоевского!» – говорил Папа. Слыша эти слова, вспоминая Кароля Войтылу, Папу Римского Иоанна Павла II, хочется не только надеяться, но и сделать хоть что-то во имя новой эпохи, вернув тем самым малую толику любви, которой так щедро делился Понтифик. Его закон был простым: «Не бойтесь!»