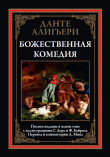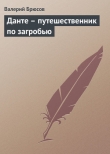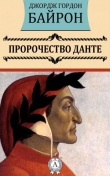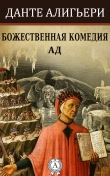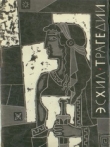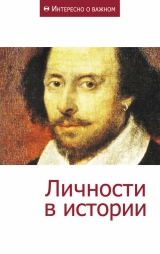
Текст книги "Личности в истории"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 48 страниц)
Томас Манн. Ученик жизни
Александра Кокотова
«А ты начни сначала» – такой совет дают обычно смутившемуся рассказчику в ответ на его: «Не знаю, с чего начать». И все же, вопреки совету, свой рассказ о Томасе Манне я начну с конца, точнее, с кульминации, с трагической вершины его творческого пути. С момента истины.
1945 год. Агония гитлеровского рейха. Весь мир охвачен ненавистью и мстительным торжеством над обреченным нацистским государством. То, что являла собой Германия на протяжении последнего десятка лет, поставило крест на всей ее истории и на самой сути слова «немецкий».
В это самое время на далеком западном побережье США Томас Манн, заболевший, вконец изнуренный физически и морально, заканчивает свою главную, итоговую книгу, «роман своей эпохи в виде истории мучительной и греховной жизни художника».

Томас Манн
Вот уже несколько лет, как писатель сменил немецкое подданство на американское, прекрасно, однако, понимая, что избавление от немецкого гражданства не снимет с него звания истинно немецкого художника и мыслителя, а стало быть, не позволит ему избежать собственной, личной ответственности за происшедшее. «Совесть немецкой нации» – никем не данный, но самодовлеющий и самой жизнью возложенный титул, титул непомерной тяжести. Кто еще, если не он, автор бюргерской саги «Будденброки», создатель насквозь пропитанной немецким эстетизмом новеллы «Смерть в Венеции» и романа-становления немецкого сознания «Волшебная гора»? Кто же, как не он, с младых ногтей впитавший в себя все наследие немецкой культуры: Гейне, Гете, Шопенгауэр, Ницше, Вагнер?.. Последние два имени у многих слишком ассоциируются с идеологией немецкого нацизма и с фигурой Гитлера в частности, чтобы не обратиться к Томасу Манну с вызывающим вопросом: «Как же так? Выходит, вы одного поля ягоды?»
Этот вопрос вопиюще нелеп для любого, кто знаком с творчеством и личностью Манна хотя бы поверхностно. Связывать утонченную, многогранную, честную и обстоятельную мысль этого художника с наглыми, слепыми и исступленными криками фашистов? Что за издевка! А между тем… Мемуары Манна хранят случай – вероятно, как и всякий факт, отражение некоей общей тенденции, – свидетельствующий о правомерности такой постановки вопроса. «Очень показательно в этом отношении письмо, полученное мною тогда от одного профессора литературы из штата Огайо – он осыпал меня упреками за то, что я виновен в войне. „Повредить сердцу, – записал я, – способна и несусветная глупость“».
Я возвращаюсь к началу своего рассказа и замечаю в утверждении о «кресте» на сути слова «немецкий» неточность. Победивший мир гуманизма относился к немецкому народу с известной долей снисхождения и жалости, как к обманутому простодушию, пошедшему на поводу у горстки коварных злодеев. Заговорили о «доброй Германии» и «злой Германии», и у любого представителя немецкой культуры, сумевшего уберечься как от гнева нацистов, так и от их подачек, появилась возможность оправдаться и «умыть руки», определив себя как сторонника «доброй Германии». И все-таки невозможно представить, чтобы Томас Манн поступил именно так. Для него подобный жест означал бы предательство. Предательство не по отношению к «злой Германии», конечно, но по отношению к Германии как таковой. Он был бесконечно далек от духовного деления своей родины, потому что был немцем до мозга костей, а следовательно, откреститься от составного элемента немецкого духа значило бы заявить, что за определенную часть своего существа он ответственности не несет. Это противоречило самой сущности Томаса Манна, которую можно определить как Добросовестность. А потому его открытая и жгучая ненависть к Гитлеру путем мистически безжалостных механизмов Добросовестности обращалась в самоистязание, и писатель лучше всех понимал, что на вопрос «Как же так?» отвечать должен именно он.
«Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом» – трагическая исповедь не столько самого Томаса Манна, сколько немецкого духа, избравшего писателя на должность своего проводника в критический для себя момент. Это книга не «доброй» или «злой Германии», но Германии исходной и цельной. И не должно вводить в заблуждение разительное на первый взгляд различие между героем-рассказчиком – добрым, скромным, искренним и заботливым педагогом – и его любимым другом – мучительно-одаренным, холодно-ироничным, отталкивающим музыкантом. Позднее в воспоминаниях Манн приоткроет одну из ключевых тайн этого романа-символа – «тайну их тождества»…
Двойственность души и болезненная неспособность закрыть на это глаза – вот то глубоко немецкое, что создало Томаса Манна как художника и человека. И достаточно лишь чуть внимательней вчитаться в его потрясающую по динамике и откровенности новеллу «Смерть в Венеции», чтобы уяснить пусть сложное, многоступенчатое, но все же очевидное родство этой диалектики с феноменом нацизма. Вот что в этой новелле сказано об одном из произведений ее главного героя, признанного немецкого писателя Густава фон Ашенбаха: «Стоит заглянуть в этот мир, воссозданный в рассказе, и мы увидим: изящное самообладание, до последнего вздоха скрывающее от людских глаз свою внутреннюю опустошенность, свой биологический распад; физически ущербленное желтое уродство, что умеет свой тлеющий жар раздуть в чистое пламя и вознестись до полновластия в царстве красоты; бледную немочь, почерпнувшую свою силу в пылающих недрах духа и способную повергнуть целый кичливый народ к подножию креста, к своему подножию; приятную манеру при пустом, но строгом служении форме; фальшивую, полную опасностей жизнь, разрушительную тоску и искусство прирожденного обманщика». Нарисованный портрет настолько точен, что сомнений быть не может: это они, пламенные и больные, повергнувшие целый народ к подножию фашистского знамени. Они вышли из-под пера ничего не подозревавшего Ашенбаха всего лишь как противодействие подступающей слабости – подступающей прежде всего к нему самому. Истинным смыслом жизни и творчества для него было доказать прежде всего самому себе, что красота и добродетель идут не порознь, а рука об руку, что искусство еще способно судить, учить и служить морали. Это внутреннее доказательство, несмотря на многолетний внешний успех, потерпело сокрушительное поражение всего за три предсмертные недели. Тот, чьим вечным девизом была строжайшая дисциплина и презрение к любой вялости, встретил фантастическую безвольную гибель, которая сопровождалась оглушительным взрывом темных подсознательных сил, разбуженных не чем иным, как красотой, совершенно равнодушной, как оказалось, к морали и добродетели.
Остается заметить, что новелла написана в незапамятном 1912 году, и воскликнуть, чуть изменив слова булгаковского Мастера: «О, как он все угадал!» Впрочем, это скорее не догадка, а некое высшее знание, происходящее из духовной причастности. Разве не знакомы были Томасу Манну те же тайные мучения, что владели Ашенбахом: сомнение в собственном праве на моральное суждение и связанная с этим угроза творческого бесплодия?
А еще раньше, в 1903 году, появился предшественник Ашенбаха, также писатель Тонио Крегер, устами которого молодой автор резко и горько высказался о своем призвании, впервые охарактеризовал человека искусства как преступника в самом глубоком, первобытном смысле слова: преступник – всякий, кто выходит за пределы нормального, изначального, данного; всякий, кто склонен ставить под сомнение вещи и законы социальные, моральные и даже природные. Не отсылает ли такой взгляд на искусство к величайшему библейскому мифу, началу всех начал? Человек, вкусивший с древа познания добра и зла, изгоняется из рая навсегда и обречен на вечную тоску по утраченному «счастливому неведению», как Тонио Крегер, как Томас Будденброк…
«Кто же он, Томас Будденброк, – делец, человек действия или томимый сомнениями интеллигент?» Это – первая жертва, первый симптом, первый сигнал, первый невыносимый опыт проникновения в тайну распада. Лукавил ли Томас Манн, говоря, что свой дебютный юношеский роман «Будденброки» задумывал как беспечный, почти комический «семейный портрет»? Полагаю, не стоит считать «кокетством» и «ложной скромностью» подобные признания Манна в том, что практически все его произведения – за исключением, пожалуй, «Доктора Фаустуса», рожденного глубочайшим осознанием своей ответственности и обязанности, – значительно переросли собственный, как правило, легковесный замысел, наполнились в процессе создания яркими и чуть ли не спонтанными прозрениями. Честность писателя вполне убедительно заверяет роман «Будденброки» самой своей формой: поначалу эпически неторопливый, аккуратный, причесанный, светский и несколько даже сонный, в какой-то момент он начинает разогреваться, затем накаляется, обжигает и вскипает к финальным страницам. Здесь уже настоящий Томас Манн: драматизм, атмосфера неизбежности, тайная и чрезвычайно влиятельная подоплека видимой реальности, болезнь как духовный разлад с жизнью, смерть как дезертирство.
Если проецировать последние части этого насквозь автобиографичного романа на жизнь самого Манна, так и останется неясным, в ком же из двух персонажей он воссоздал себя? Сенатора Томаса, потерявшего деловую хватку и загубившего потомственное дело своих отцов и дедов, он заставляет не спать ночами, в лихорадочном восторге отчаяния читать мрачно-экстатический труд Шопенгауэра и сотрясаться от откровений, немыслимых для «бюргерских мозгов», – все это катаклизмы, несомненно, потрясшие самого Манна в юности. Но образ усталого коммерсанта явно меркнет рядом с образом его сына, неповторимого Ганно Будденброка, воплотившего собою все самое утонченное и хрупкое, что есть в немецкой культуре. Это музыкальная нежность, терпящая адские страдания от малейшего соприкосновения с грубой реальностью, это возвышенное безволие и созерцательность, ждущая от жизни только одного – смерти.
Несколько десятилетий спустя, уже после «Доктора Фаустуса», писатель признавался, что никого из своих героев не любил больше, чем Ганно и Леверкюна. Совершенно очевидно, что любовь эта была тревожной, если не сказать испуганной, ибо испугаться было от чего. Тем временем нельзя не заметить, что по взгляду на мир и по духовной конституции Манн куда больше являлся Ганно
Будденброком, был, так сказать, его братом, который, однако, не в пример Ганно унаследовал от своего отца характер. «Нет, перед лицом высшего и последнего не существовало никакой помощи извне, никакого посредничества, отпущения грехов и утешительного забвения. В одиночестве, только собственными силами, в поте лица своего, пока не поздно, надо разрешить загадку, достичь полной готовности к смерти или уйти из этого мира в отчаянии» – таково было решение сенатора, решение самого Томаса Манна, определившее его отношение к жизни и к своей задаче в ней.
На этом можно было бы и завершить рассказ, но невозможно обойти вниманием одно из поздних произведений писателя, не самое известное, однако же по лаконичности, ясности сказанного и силе воздействия совершенно потрясающее, – я имею в виду играючи созданную в 1930 году маленькую новеллу «Марио и фокусник». Она читается взахлеб и многократно, открывая благодатнейшие просторы для размышлений. Фашизм? Что ж, он стал возможен не иначе, как по обоюдному согласию, благодаря культу подчинения, точь-в-точь тому, что царил во время зловещего выступления гипнотизера.
Пустота противопоказана жизни, и, если вакуум образовался внутри человека, он непременно будет заполнен. Вопрос только, кто и что туда зальет. Если нет собственных желаний – захватят чужие, а установка «не хочу плясать под его дудку» не сработает: «одним нехотением не укрепишь силы духа; не хотеть что-то делать – этого недостаточно, чтобы надолго явиться смыслом и целью жизни». Хорошо, если только заставят плясать, как почтенную публику на представлении. Хотя и эта «невинная» шалость кажется рассказчику чем-то диким, унизительным, страшным симптомом болезни Человека. «Или тебе уже случалось не делать того, что хочется? Или даже делать то, чего не хочется? То, чего не тебе хочется?»
Хотеть и делать – вот независимый путь. Но, с другой стороны, страшно представить, что сталось бы с миром, начни человек делать все, что ему хочется сию минуту… Какой чистой душой и железной волей нужно обладать, чтобы внутренне освободить себя, – и каждый, зная, что его душа и воля далеки от совершенства, предпочел положиться на другого в подсознательной надежде, что уж он-то чище, сильнее и знает, что делает.
Ну а что если нет? Перенесемся из реальности рассказа обратно в реальность историческую, жизненную. Фюрер мертв, он покончил с собой, не дожидаясь суда. «Дезертировали в смерть» и его приспешники, перед тем, правда, отправив на тот свет миллионы людей, ставших свидетелями чудовищного несовершенства «вождей».
И лишь единицы избежали эпидемии рабства, жертвой которой пали и рабы, и хозяева; лишь единицы сохранили способность отвечать за свои слова и поступки и усвоили самый жестокий и важный урок, преподанный современностью (цитирую героя моего повествования): «Зло явилось нам в такой бесстыдной гнусности, что у нас открылись глаза на величаво-простую красоту добра, мы почувствовали к нему сердечную склонность и уже не считаем зазорным для своей утонченности признаться в этом».
Экзюпери. Последний полет
Андрей Грошев
Один философ XX века сказал, что, если из истории убрать несколько десятков людей, от нее ничего не останется.
Экзюпери, бесспорно, один из этих нескольких десятков – мыслитель, пилот, писатель, Человек.
Размышляя о чуде Экзюпери, невольно задаешься вопросом: в чем секрет именно так прожитой жизни? как он был воспитан? кто были его учителя? кто вложил в него то, что потом выросло таким великолепным талантом?..
Кажется, что кто-то его вылепил, что так сложились условия, таким было воспитание, случайные встречи так повернули жизнь…
Но чем больше думаешь об этих условиях, тем настойчивее в тебе начинает звучать другая мысль: такие люди не воспитываются – они приходят с уже заложенными в них способностями, как зерно, скрывающее в себе то, что должно вырасти из него. Нет, условия лишь вторичный фактор, бесспорно влияющий, но не способный изменить суть, – ведь желудь, посаженный в плодородную или в более скудную почву, все равно будет стремиться вырасти дубом и ничем другим.

Экзюпери
Утро 31 июля 1944 года. Военный аэродром Борго на Корсике. Здесь все как обычно. Идет война. Антуану де Сент-Экзюпери – сорок четыре. В его возрасте, да тем более с такими многочисленными травмами, не летают. Но невероятными усилиями ему все же удалось добиться от своих командиров разрешения на пять дополнительных полетов. Сегодня последний, пятый. Уже подготовлен рапорт о его списании как летчика, но он об этом не знает. В 7:3 °Cент-Экс, как ласково называют его друзья по эскадрилье, уже в столовой – через час вылет. Вкус утреннего кофе ничуть не взбодрил его. Он неразговорчив и выглядит очень усталым. Хотя на небе ни облачка, он все же запросил погодные условия и, получив ответ от погодной службы «ясно и тихо», неторопливо зашагал к своему самолету. Механики эскадрильи 2/33 разведывательной авиагруппы, к которой он приписан, уже закончили предполетную подготовку и даже успели прогреть двигатели его «Лайтнинга». По сравнению с первыми самолетами, на которых он начинал летать, его новая машина просто чудо техники. Прежде чем сесть в кабину, Сент-Экс по привычке похлопал по крылу своего боевого товарища, словно говоря ему – пора… Многочисленные переломы сковывают его движения – ему трудно подниматься в кабину, и со стороны он выглядит очень неуклюже. Уже в кабине он получает из рук механика свой планшет, набитый картами разных районов Франции и солидной пачкой пустых листов. Их глаза встретились, и они, понимая друг друга, улыбнулись. Ни для кого не было секретом, что во время полета Сент-Экс умудрялся писать, а после приземления механикам приходилось долго собирать разбросанные по всей кабине скомканные листы с обрывками неудачных фраз.
В 8:45, получив разрешение на взлет, его машина послушно начала свой разбег и через несколько минут растворилась в прозрачном голубом небе. Задание – авиасъемка дорог на юге Франции.
Где-то через полчаса полета радар на Кап-Корсе засек самолет Сент-Экса, когда тот пересекал границу Франции. Под ним в развалинах лежала его любимая Родина. Она была похожа на развороченный муравейник. Брошенные деревни, невспаханные поля, изуродованные грузовики, искалеченные судьбы… Сердце сжималось от несправедливости этого мира.
Где-то там, в нескольких десятках километров, находился Сен-Морис, замок его детства, и Экзюпери погрузился в воспоминания. Память возвращала его в родные стены, под чердачные стропила, к заботливым, теплым рукам мамы – в детство, «чтобы снова почувствовать себя под его высокой защитой»…
Король-Солнце
Антуан родился 29 июня 1900 года.
В 1904 году его мама Мари де Сент-Экзюпери овдовела, оставшись одна с пятью детьми в возрасте от 10 месяцев до восьми лет. Антуану в то время было всего четыре. Золотоволосый мальчуган в семье получил прозвище Король-Солнце и очень походил на описанного им позже Маленького принца. Он так же очень любил сказки и непрестанно задавал вопросы, и не успокаивался, пока не получал исчерпывающего ответа.
Экзюпери рождался медленно. До 26 лет, кроме мамы, он никого особенно не интересовал и ничем не выделялся среди других. Он вел обычную для того времени жизнь. Разве что тяга к изобретательству отличала его от сверстников. Его увлекали телеграф, паровые машины и летательные аппараты. Юный изобретатель, приделав к велосипеду крылья, сделанные из прутьев и простыней, пытался взлететь с местного холма. Его первый «полет» закончился многочисленными ссадинами.
Через всю жизнь он пронесет образ своего гнезда, где воспитывался, сохраняя в памяти мельчайшие детали: запах свечей на рождественской елке, пение органа в час полночной мессы, ласковые улыбки… И конечно, любовь к своей маме. Она будет ему верным другом всю его нелегкую жизнь. Ей он будет писать полные любви письма, она станет первым в его жизни родником, который он откроет и к которому часто будет припадать, чтобы утолить жажду глотком чистой воды.
«…Ведомо ли вам, такой слабенькой, что вы ангел-хранитель, сильный и мудрый, исполненный благодати, которому молятся в одиночестве по ночам?» (письмо января 1936 года).
В 19 лет, окончив гимназию, он попытался поступить в военно-морское училище и с треском провалился на вступительном экзамене: не приняли его сочинения!!! Вот уж ирония судьбы!
Еще одна попытка продолжить обучение, на сей раз в архитектурной академии, оказалась неудачной. Через 15 месяцев, разочарованный в перспективе будущей профессии, он оставил учебу и поступил на службу в авиационный полк истребительной авиации, расположенный в Страсбурге. Здесь впервые, сев за штурвал самолета, он ощутил радость полета и испытал боль падения, проведя после аварии в госпитале много месяцев. С множественными переломами черепа он оказался не пригодным к военной службе и на три года стал никому не нужным юношей, меняющим то одну, то другую работу.
Детство кончилось, а с ним потемнели золотые пряди волос нашего Маленького принца. Он превратился в длинного, худого и неуклюжего молодого человека, ожидающего от жизни нового поворота.
Капитан Птиц
В 1926 году произойдет встреча, которая перевернет всю жизнь Экзюпери. Судьба сведет его с Дидье Дора, исполнительным директором компании «Латекоэр», занимающейся авиаперевозками почтовых грузов из Франции в колониальную Африку.
Экзюпери опять в небе – он воздушный почтальон. Но как прекрасно его отношение к своему новому делу! Он не просто пилот набитого мешками с письмами самолета, он человек, переносящий мысли людей. Вот как опишет он суть своей новой профессии: «На рассвете тебе предстояло взять в руки мысли целого народа. В свои неумелые руки. И перенести их, как сокровища под плащом, через тысячи препятствий. Почта, – сказали тебе, – это драгоценность. Она дороже жизни. И она хрупка».
В этих строчках ни капли романтики – здесь подлинное зерно Экзюпери. Он так видел, так жил, создавая узы со всем, к чему прикасался.
Очень быстро его назначают начальником маленького аэродрома в Кап-Джуби на севере Африки. Подобные промежуточные аэродромы были просто необходимы, ведь совершить беспосадочный перелет, скажем, из Парижа в Дакар в то время было просто невозможно.
Похоже, здесь, посреди пустыни и непокорных племен мавров, началась настоящая, полная приключений и откровений жизнь.
«Джуби, 1927.
Мамочка!
Я обожаю Сахару. И когда приходится приземляться в пустыне, любуюсь окружающими меня солеными озерами, в которых отражаются дюны. (Впрочем, это здорово бесит, когда хочется пить…) Чувствую себя великолепно. Мамочка, сын ваш счастлив. Он нашел свое призвание.
Море в часы приливов заливает нас до самых стен, и, если ночью я сижу, облокотившись у моего окна с тюремными решетками – мы окружены непокорными племенами, – я вижу море перед собой, как с баркаса. И всю-то ночь оно бьется о мою стену.
Другой наш фасад выходит на пустыню.
Убожество полное. Дощатая постель с тощим соломенным матрасом, таз, кувшин для воды. Я забыл безделушки: пишущая машинка и папка с делами аэродрома! Монастырская келья.
Самолеты прилетают каждые три дня. Между ними три дня молчания. А когда самолеты улетают – они мне как цыплята, и я волнуюсь, пока телеграф не сообщит, что они приземлились на следующей станции в тысяче километров отсюда. И я всегда готов вылететь на поиски пропавших. Крепко вас целую. Пишите.
Антуан»
Здесь, в Кап-Джуби, посреди пустыни и воинственных племен мавров, где нет элементарных человеческих условий, начнет пробиваться к свету росток Экзюпери, попав в настоящую питательную среду.
Именно пустыня дала ему возможность понять основные постулаты жизни, от которых он никогда не отходил: «зорко одно лишь сердце – самого главного глазами не увидишь» и еще один – «ты в ответе за тех, кого приручил».
Умение видеть и создавать связи – вот главное, что определяет человеческую жизнь. Этим и занимался Экзюпери в том забытом Богом месте. Хотя именно там, как ни парадоксально, он и открывал Бога.
«Знаешь, отчего хороша пустыня? – спросил Маленький принц. – Где-то в ней скрываются родники». Этими родниками для Экзюпери стало узнавание тайны, которая прячется порой за обычными вещами.
Только в пустыне он начал замечать и ценить каждый зеленый росток, и наконец ему открылось таинство зеленого цвета. Пройдя десятки километров по пескам без капли воды, раздирая в кровь руки о песчаные барханы, он наконец почувствовал ее живой вкус. Только здесь он впервые понял цену настоящего братства и смог услышать голос Бога лишь тогда, когда заглушил в себе все остальные звуки.
Он обожал пустыню, и, похоже, она отвечала ему тем же.
Свободолюбивые обитатели пустыни – мавры – за его смелость и доброту прозвали Экзюпери Капитаном Птиц. Они приходили к нему как к пророку. Подолгу сидели и пили с ним чай, советовались, стоит ли жениться или начинать войну с соседями. На одном из таких чаепитий после долгих переговоров он выкупит у них старого, обессилевшего раба, даст ему свободу…
К нему в окно просовывали свои любопытные головы газели, обезьяны, часто приходил в гости его друг хамелеон. Создались трогательные узы с пустынным лисенком, который каждый раз садился чуть ближе. Да-да, именно он стал тем мудрым Лисом из «Маленького принца», который открыл читателям таинство уз.
«Моя настоящая профессия – Приручать», – писал Экзюпери из Кап-Джуби.
Он был тысячу раз прав, говоря, что каждый должен обрести свой опыт пустыни, чтобы стало очевидным одно: чтобы что-то понять в этом мире, ты должен это что-то сначала заново для себя Открыть, а потом создать узы, Приручить. В этом и есть великая Тайна Жизни.
«– На твоей планете, – сказал Маленький принц, – люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут…
– Не находят, – согласился я.
– А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды…
– Да, конечно, – согласился я.
И Маленький принц сказал:
– Но глаза слепы. Искать надо сердцем».
Большинство идей его последующих книг родились именно здесь. Их нельзя даже назвать идеями, ибо все так было, он так жил и понимал все именно так. Здесь, на этом маленьком пятачке марокканской пустыни, за полтора года он впервые понял еще одну великую истину – что он в ответе за все.
Человек Планеты
В октябре 1929 года Экзюпери переводят на новое место службы – в Буэнос-Айрес.
«Мамочка, наконец-то я узнал, чем я буду заниматься. Меня назначили техническим директором авиалинии “Аэропост Аргентина» – дочерней компании Генеральной компании “Аэропосталь“ с жалованием примерно в 225 тысяч франков. Надеюсь, вы довольны. Мне немного грустно, мне нравился мой прежний образ жизни. Мне кажется, что это меня старит».
В Аргентине началась новая страница его жизни. Светская атмосфера, в которую попадает Сент-Экс, заставляет его принять новые правила игры. Уютные кафе, автомобили, доставляющие тебя в считанные минуты в любую точку города, его солидный кабинет. Нет, все это лишь оболочка. Слишком сильным был опыт пустыни, чтобы так легко его можно было забыть. Среди достатка и спокойствия он понимает и принимает вызов Судьбы, которая начинает его испытывать. Он не сидит в кабинете. Новые полеты, подвиги, аварии и госпитали. В перерывах между ними старые проверенные друзья собираются за чашкой кофе, вспоминая былое и устремляя свои взгляды в будущее, к новым приключениям. В один из таких вечеров Антуан знакомится со своей будущей супругой Консуэло. Опуская подробности их непростых взаимоотношений, скажу лишь, что он никогда не оставлял ее, следуя своему особому правилу жизни – ты в ответе за тех, кого приручил. С изданием в 1931 году повести «Ночной полет», за которую он получает премию «Фемина», к нему приходит всемирная слава. Антуан де Сент-Экзюпери состоялся как пилот и писатель. Так считают все, но не он.
Его теперешнее положение не вполне устраивает его. Ему-то ведомо, что значит быть с собой в ладу. Он мучительно жаждет живительной влаги, подобно страннику, что ищет в пустыне родник. Отчасти он находит ее у старых, добрых друзей – Гийоме, Мермоза, Этьена, им он отдает все, и они с щедростью возвращают ему любовь. Но душа его не успокаивается, она ищет новых откровений.
В 1935 году он приезжает по приглашению в Советский Союз. Антуан поднимается в воздух на самолете «Максим Горький» – самом большом в то время самолете в мире. Он очарован – не столько гениальной машиной, сколько горящими глазами молодых талантливых людей. Через несколько дней он разделит с ними горечь утраты: самолет, на борту которого находились 43 человека, столкнется в воздухе с самолетом сопровождения.
29 декабря 1935 года. Экзюпери совершает не подготовленный до конца полет Париж – Сайгон и терпит аварию в ливийской пустыне. Он и его механик Прево пройдут за три дня 185 километров под палящим солнцем пустыни и, обессиленные, будут спасены проходившим близ Каира караваном.
В 1937 году он в Испании. В 38-м – в Америке, и опять авария, стоящая ему множества переломов. Все эти годы он много пишет, но говорит, что писать еще не умеет, что «его книга еще не созрела». Его книга. Она созревала вместе с ним и должна была утолить жажду многим.
В 1939 году началась война. Он не мог оставаться в стороне, он должен был сражаться на любом месте и в любом качестве. «Я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью: этот способ – не уклоняться от страдания».
«Дорогая мамочка!
Почему под угрозой оказалось именно то, что я больше всего люблю на этой земле? Больше всего меня пугает то, что мир сошел с ума. Разрушены деревни, разбросаны семьи. Смерть мне безразлична. Но я не хочу, чтобы война уничтожила духовную общность. Мне ужасно не нравятся приоритеты нашего времени. На сердце у меня тяжело, и это ощущение не заглушается переживаниями и преодолеваемыми опасностями. Единственный освежающий фонтан – я нахожу его в воспоминаниях детства – запах свечи в рождественскую ночь. А сейчас душа опустела. Я умираю от жажды».
«Цитадель»
Среди ужасов войны Сент-Экс создал свою самую светлую книгу. Он писал ее шесть лет и прекрасно отдавал себе отчет в том, что никогда не закончит ее. Были написаны уже семьсот страниц этой необработанной породы текста. «Ничем другим я заниматься не стану. Мне никогда не дописать ее до конца. Она вцепилась в меня, как якорь. Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое… Буду работать, пока хватит сил… Моя книга – это лучшее, чем я могу стать. Я хочу превратиться в нечто иное…»
Так рождалась его «Цитадель» – храм, построенный из лучших камней его души. Живая мысль, послание его глаз и сердца, увидевших то, что, к сожалению, было и остается недоступным для большинства людей планеты. Ему было все равно, нравится она кому-то или нет, – он просто «менял себя на нее». Какое счастье, когда ты так ясно можешь сказать себе и другим, что ты понял, в чем смысл твоей жизни, во что ты хочешь превратиться.
«Цитадель» – удивительная книга. Мало кто прочитал ее от начала до конца. В ней нет привычного для нас сюжета – она тайна, так любимая Сэнт-Эксом. Мало кто понял ее. Потому что Она – это Он. В этой книге – тайна пятисот миллионов родников, найденных им на бескрайних просторах нашей Планеты, и каждый из них может дать напиться. Эта книга для тех, кто похож на окно, распахнутое на море, в ком не уснул еще Моцарт…
Вот и сейчас, этим утром 31 июля 1944 года, он писал «Цитадель». Здесь, на высоте, хранящей безмолвие, он оставался один на один с собой и с книгой.
Привычным жестом он достал из планшета чистый лист бумаги и принялся за работу.
«Господи, не то же ли и с возлюбленным моим врагом, с которым я становлюсь заодно, лишь возвысившись до следующей ступеньки? И поскольку он в точности такой же, как я, и идет ко мне навстречу, стремясь подняться на ступеньку более высокую. Исходя из нажитой мною мудрости, я сужу о справедливости. Он судит о справедливости, исходя из своей. На взгляд они противоречат друг другу, противостоят и служат источником войн между нами. Но и он, и я противоположными путями, протянув ладони, идем по силовым линиям к одному и тому же огню. И обретают наши ладони Тебя одного, Господи!