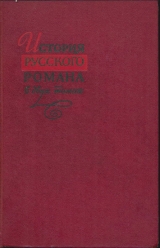
Текст книги "История русского романа. Том 1"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
Стиль хронографа экспрессивен и чрезвычайно эмоционален. Автор прерывает себя восклицаниями, говорит о своих чувствах и о чувствах своих героев. Поступки людей, согласно хронографическому повествованию, обусловлены внутренними побуждениями. Христианские добродетели или пороки направляют людей в их деятельности. Неистовая злоба, ярость, гнев, зависть, гордость двигают поступками злых. Благочестие и нищелюбие, вера и смирение двигают силой добрых. Властители мечутся, обуреваемые страстями, или совершают подвиги благочестия. Характеристики людей крайне экспрессивны. Стремление к грандиозности изображения, к гиперболам пронизывает изображение. Под влиянием страстей властители совершают чудовищные злодеяния, преодолевают необычайные препятствия. Внешние проявления чувств всегда преувеличены. Люди проливают «тучи слез», плачут по восьми месяцев подряд. Описания рыданий необыкновенно экспрессивны: люди руками «терзают» волосы на голове и бороду, бьются головами о землю.
Гнев, зависть до того велики, что служат иногда причиной смерти человека. Одержимые страстями, люди бессильны совладать с ними. Страсти персонифицируются, предстают в виде диких зверей (ярость – лев; хитрость– лисица и т. д.). Отсюда сравнение человеческого сердца со звериным логовом.
Литературное повествование пронизывается панпсихологизмом. Даже предметы мертвой природы, даже отвлеченные явления оказываются злыми, добрыми, награждаются людскими пороками и добродетелями. Земля не выносит злодейств императора Фоки – мучителя и испускает «безгласные вопли». При ослеплении императора Константина «сами стихии о беде плакали». Как одушевленные существа, ведут себя и города – Рим, Константинополь, Антиохия, Иерусалим. При этом всё движется резко и бурно, ничто не стоит: всепожирающие звери, бушующее море, тучи, ветер. Всё полно одушевленного движения, всё смятенно, всё ужасно, всё полно тайн и скрытого смысла.
Новый эмоционально – экспрессивный стиль в изображении человека находит отклик и в словесной форме, отличающейся резкой эмоциональностью. Изложение пронизывают многочисленные синонимы, сравнения, тавтологические сочетания, восклицания. Авторы часто твердят о том, что они бессильны описать события, внутреннюю жизнь человека, что им недостает слов и т. д.
Интерес к человеческим чувствам, страстям, резким душевным движениям, бурным проявлениям внутренней жизни человека привел к значительному обогащению литературы, однако характер человека еще не был открыт, внутренняя жизнь человека не имела еще развития – она была намечена только экстатическими взрывами чувств. В душевной жизни человека не замечалось развития, изменения происходили в нем мгновенно, под влиянием внезапных решений. Чудо занимало в этих переменах заметную роль, особенно в житиях святых, когда святой крестил язычников, когда сам он обращался к богу, принимал решение искать уединения в отдаленной местности и т. д. Чудо приходило на помощь писателю в тех случаях, когда ему надо было описать резкие перемены в человеке.
Жития святых и хронографическая литература начинали живописать кризисы душевной жизни человека. Человек, деятель истории (это особенно касается хронографа, а с XVI века и летописи) предстал перед читателем не как вневременная неизменяемая сущность, а со своей личной историей: одним он был в юности, другим оказывался в среднем и старческом возрасте.
Именно этот внезапный перелом, но уже не объясняемый чудом, изобразил в XVI веке А. Курбский в «Истории о великом князе московском». У Курбского Иван Грозный в начале своего царствования добродетельный и мудрый государь, в конце же – злодей, мучитель и безрассудный тиран.
XVI век отмечен чрезвычайным интересом к биографиям исторических деятелей. Создается грандиозная портретная галерея деятелей русской истории – «Книга степенная царского родословия». В этих биографиях есть уже некоторые попытки изобразить душевные перемены без обращения к чуду как литературному приему. Еще больше этого стремления в «Летописце начала царства», посвященного биографии современника – царствующего Ивана Грозного, где с педантической обстоятельностью описываются все важнейшие события его царствования в приподнятом стиле и с пышной торжественностью, но где решениям Грозного приданы уже некоторые объяснения.
Несколько позднее «Летописца начала царства» создается и другой памятник, где идеализированная история Грозного играет существенную роль, – «История о Казанском царстве».
Изложение всех этих исторических сочинений XVII века, и в первую очередь Степенной книги, густо насыщено краткими характеристиками действующих лиц. В них отмечаются и внутренние побуждения, внутренние свойства действующих лиц, но «психологизм» этот только этикетный – не более. Русские князья в них получают характеристики вполне официальные – они «благоверны», «премудрости и разума исполнены», «кипят духовным благовонием» и пр. Похвала князьям и церковным деятелям демонстрирует трудолюбивые усилия авторов создать пышные образы деятелей русской истории, обессмертить их память.
Придворный этикет подчиняет себе все попытки описать внутреннюю, душевную жизнь. Действующие лица ведут себя так, как им полагается в том или ином случае. Робкое «самосмышление» повествователя никогда не выходит за границы дозволенного и рекомендованного тому высокопоставленному лицу, о котором он рассказывает.
3
События «Смуты» начала XVII века сыграли выдающуюся роль в росте новых представлений о человеческой личности и в развитии повествовательного искусства. В число исторических деятелей самой историей были введены отнюдь не родовитые личности: «говядарь» Минин, безродный Болотников, многочисленные авантюристы – самозванцы и т. д. Сама действительность способствовала широкому обсуждению на земских соборах личностей, характеров, политических убеждений отдельных претендентов на царский престол. На «всенародных собраниях», в ополчениях и среди восставшего народа обсуждались те или иные деятели «Смуты»; политические «переметы» перебегали из одного лагеря в другой, а затем каялись, оправдывались, объясняли перемены своих убеждений и своей ориентации, выставляя тем самым напоказ все дремучие закоулки своих несложных душ.
В 1598 году состоялись первые выборы русского государя «всею землею». Характер государя стал предметом горячего обсуждения и споров. Будущий монарх, его способности, убеждения обсуждались в боярской думе, на соборах, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, когда парод, подгоняемый приставами, «молил» Годунова царствовать в стране. Всё это, вместе с последовавшей затем крестьянской войной, вытравило из народного сознания старое отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду неподсудному началу. Отсюда изменялись и представления о государственных деятелях. Было открыто, что человек совмещает в себе и хорошие, и дурные черты, что черты эти складываются в определенный характер, что характер человека слагается постепенно под влиянием событий личной жизни и т. п.
Совершенно новое высказывание о правителях можно встретить в начале XVII века во многих произведениях, касавшихся событий «Смуты»: в «Словесах дней и царей» Ивана Хворостинина, в «Повести» Катырева-Ростовского, в «Сказании» Авраамия Палицына и др. Но особенно интересны эти высказывания во второй редакции Русского хронографа: «никто из земнородных не бывает чист от дьявольских ухищрений», «у каждого из земнородных ум может ошибаться и от доброго нрава совращаться злыми людьми» и т. д. Характеристики людей впервые становятся сложными, противоречивыми, сотканными из добрых и злых свойств характера. Авторы некоторых произведений (Иван Тимофеев) прямо заявляют, что они обязаны писать о добродетелях Годунова, поскольку они писали и о его злонравии. Тимофеев считает даже, что только тогда никто его не упрекнет в несправедливости, когда он похвалу Борису Годунову будет соединять с упреками. Если же характеристика его будет только положительной или только отрицательной, то тем самым «обнажится» его «неправдование», т. е. необъективность.
Очень много внимания уделяют авторы начала XVII века различного рода мнениям о том или ином правителе, слухам о том, как относились в народе к тому или иному государственному деятелю. Говорится, например, о слухах, которыми сопровождалось убийство царевича Дмитрия, ссылка Нагих в Углич, возведение на патриаршество Филарета Никитича (отца будущего Михаила Романова) и т. д.
Человеческий характер показывается, следовательно, на фоне толков о нем. Народная молва окружает исторического деятеля. Государственный деятель перестает, следовательно, быть единственным вершителем исторических судеб своей страны. Постепенно всё больше и больше осознается роль народа.
Открытие писателями человеческого характера еще отнюдь не походило на то настоящее его открытие, которое произошло у писателей – реалистов XIX века, но и оно было достаточно выразительным. Было обнаружено, что свойства человеческой личности противоречивы, что эти свойства в известном смысле неповторимы, слагаются в целостное явление, в только данному человеку свойственное сочетание, что характер человека воспитывается средой, обстоятельствами его биографии и в какой‑то степени может меняться, определяя в то же самое время его поведение.
4
Замечательно, что чем сложнее становилось изображение внутренней жизни человека, тем сложнее становилось и описание окружающего его мира, природы, быта, народа, исторической изменяемости мира и т. д.
Связь появления литературного пейзажа с усложнением представлений о душевной жизни несомненна. В XI‑XIII веках отдельные, очень краткие картины природы (в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Слове на антипасху» Кирилла Туровского) имели своею целью раскрыть символическое значение тех или иных явлений природы, скрытую в ней божественную мудрость, моральные уроки, которые она преподает человеку. Птицы летят весной из рая на уготованные им места, большие и малые, так и русские князья должны довольствоваться своими княжениями, большими и малыми, и не искать больших, – так рассуждает на рубеже XI и XII веков Мономах. Весеннее пробуждение природы – символ весеннего праздника Воскресения Христова, – так рассуждает в XII веке Кирилл Туровский. Вся природа, с точки зрения авторов природоведческих сочинений средневековья, лишь откровение божие, книга, в которой можно читать о чудных делах всемогущего. Природа не имеет индивидуальных черт. Индивидуальность места никогда не описывается. Природа имеет значение только постольку, поскольку она дело божие или воздействует на людей засухой, бурей, холодом, грозой, ветром и т. д.
Однако еще в XV веке в изображении природы намечаются новые черты: буря в природе как бы вторит бурным излияниям человеческих страстей; тихая окружающая природа соответствует умиротворенному безмолвию подвижника. Пейзаж приобретает новое символическое значение: он уже символизирует собой не мудрость бога, а самые душевные состояния, как бы аккомпанирует им.
В XVI веке в «Казанской истории» мы найдем описания страданий русского войска от жажды на фоне изумительного описания жаркой безводной степи.
В XVII веке роль пейзажа еще более подымается, и здесь он приобретает конкретные местные черты. Описание природы Сибири в сибирских летописях не может уже относиться к другой местности, кроме Сибири. Даурский пейзаж в жизни Аввакума есть именно даурский пейзаж, и вместе с тем это описание природы Даурии имеет уже все функции пейзажа, свойственного литературе нового времени. Он служит своеобразным обрамлением для душевных переживаний самого Аввакума, подчеркивает его смятенное душевное состояние, живописует титаничность его борьбы, его одиночество, создает эмоциональную атмосферу, пронизывающую весь рассказ.
Вместе с тем с того времени, как герои литературных произведений «спускаются на землю», перестают ходить на ходулях своих должностных положений, описываются как обычные люди, а не как князья, бояре, воины, святые, иерархи церкви и т. д., их всё теснее окружает быт. Этот быт плотнее всего обступает героев невысокого положения. Он помогает созданию тех все усложняющихся обстоятельств, в которые попадают герои литературных произведений, объясняет их мучения и служит той сценической площадкой, на которой разыгрываются перед читателем их страдания от окружающей несправедливости.
Быт проникает даже в чисто церковные произведения. С этой точки зрения особенно показательны два церковных произведения, которым литературоведы присвоили название «повестей»: «Повесть о Марфе и Марии» и «Повесть о Ульянии Осорьиной».
«Повесть о Марфе и Марии» в сюжетной своей основе – типичное сказание о перенесении святыни из Царьграда на Русь, но этот сюжет вставлен в раму сугубо бытовых отношений. Перед читателем проходят местнические споры мужей обеих сестер, бытовая обстановка длинного путешествия, погоня за чудесными старцами и т. д.
Так же как и в «Повести о Марфе и Марии», в «Повести о Ульянии Осорьиной» идеализируется «средний человек» – вполне «бытовая личность».
Ульяния внешне ничем не примечательная женщина: она родилась в семье служилого человека; как и все в те времена, она выходит замуж очень рано, в шестнадцать лет; муж ее – также обычный служилый человек. Ульяния рожает ему детей, ведет все «домовное строение» с помощью многочисленной челяди. Ее окружает семья – муж, свекор, свекровь, дети. Ей не только не удается осуществить своего заветного желания постричься в монахини, но порой нет даже возможности посещать церковь.
Идеализация ее образа идет своими путями, далекими от прежних житийных трафаретов. Она идеализируется в своих хозяйственных распоряжениях, в своих отношениях к слугам, которых она никогда не называла уменьшительными именами, не заставляла подавать себе воды для умывания рук или развязывать свои сапоги, а всегда была к ним милостива и заботлива, наказывая их «со смирением и кротостию».
Она идеализирована и в своих отношениях к родителям мужа, которым она кротко подчинялась. Она слушает и своего мужа, хотя он запретщает ей идти в монастырь. Свекор и свекровь передали ей в конце концов ведение всего хозяйства, увидев ее «добротою исполпену и разумну». И это, несмотря на то, что она потихоньку обманывала их, правда с благочестивыми намерениями. Не обходится в доме и без крупных конфликтов: один из слуг убивает ее старшего сына.
Прядение и «пяличиое дело» рассматриваются в ее житии как под виги благочестия. Ночная работа приравнивается к ночной молитве: «Точно в прядивном и в пяличном деле прилежание велие имяше, и неугасаша свеща ея вся нощи».
Соединение бытовых подробностей с идеализацией придало последней особую убедительность, пленившую в свое время и В. О. Ключевского. Его известная лекция о «Добрых людях древней Руси» (1907) была составлена отчасти и на основании «Првести о Ульянии Осорьиной», – свидетельствуя тем самым об особой художественной силе этого первого приобщения быта к литературе.
Думается, что и «Житие» протопопа Аввакума в той его части, в какой оно связано с житийной литературой, развивает традиции именно этого типа житий – житий, пронизанных бытом.
В XVII веке совершался процесс перехода от средневековых художественных методов в литературе к художественным методам литературы нового времени. Причина этого – в общеисторических переменах, позволивших В. И. Ленину относить к XVII веку начало «нового периода русской истории». [50]50
В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 137.
[Закрыть]Эти общеисторические изменения были связаны с обострением классовой борьбы и повышением роли народа во всех областях общественно – политической и культурной жизни страны.
В литературе XVII века, в ее демократической части, как бы отражающей то наступление низов, которое выразилось в XVII веке в массовых городских и крестьянских восстаниях, есть своеобразные «прорывы в будущее», как бы отдельные предчувствия открытий, к которым придет литература XIX века. К таким своеобразным «прорывам в будущее» принадлежит в демократической литературе XVII века открытие ценности человеческой личности самой по себе, независимо от ее официального положения на лестнице феодальных отношений.
Человек, изображенный в произведениях демократической литературы, не занимает никакого официального положения, ибо его положение очень низко и «тривиально». Это просто страдающий человек. При этом он окружен горячим сочувствием автора и читателей. Его положение такое же, какое может иметь или имеет сам простой читатель. Он не поднимается над читателями аи своим официальным положением, ни ролью в исторических событиях, ни какой бы то пи было моральной высотой. Человек этот отнюдь не идеализирован. Напротив! Если во всех предшествующих средневековых стилях изображения человека этот последний был приподнят над читателем, представлял собой в известной мере отвлеченный персонаж, витавший в каком‑то своем, особом пространстве, куда читатель в сущности проникнуть не мог, то теперь действующее лицо выступает вполне ему равновеликим, а иногда даже униженным, требующим жалости, а не восхищения.
Этот новый персонаж лишен какой бы то ни было позы, какого бы то ни было ореола. Это опрощение литературного героя, доведенное до пределов возможного: он наг, если же и одет, то в «гуньку кабацкую», он голоден, не имеет где преклонить голову, не признан родными и изгнан от друзей. Натуралистические подробности делают эту личность совершенно падшей, низкой», почти уродливой. Но замечательно, что именно в этом стиле изображения больше всего выступает ценность человеческой личности самой по себе.
Этот человек всегда умен. На самой низкой ступени падения он сохраняет чувство своего права на лучшее положение. Он иронизирует над собой и окружающими, он вступает в конфликт с окружающей средой. Но его борьба лишена внешнего героизма. Он описывается вполне бытовым языком. Он сам говорит этим бытовым языком. Опрощение человека ведет к изображению всех грубостей быта, описываемых также грубо. Сам автор не занимает позы проповедника, не поучает читателя. Он с ним беседует как с равным.
Человеческая личность эмансипировалась в России в XVII веке не в пышных одеждах людей, завоевавших себе в жизни высокое положение, не в ореоле славы, не под эгидой удачи, а в образе несчастного, погибшего, страдающего человека.
И этот художественный метод изображения человека был предвестием великого гуманистического начала, лежащего в основе русской литературы XIX века с его живым сочувствием ко всем «униженным и оскорбленным», ко всем, кто страдает и кто не смог найти себе места в жизни.
5
Здесь не место объяснять всю сложность изменений, охвативших литературу XVII века на пути ее движения от средневековья к новому времени. Одним из ее величайших достижений было узаконение художественного вымысла, создание первых произведений, в которых действовали вымышленные герои с вымышленными именами в вымышленных обстоятельствах. С этим связано появление собственно литературных жанров, не отягощенных никакими практическими функциями, не предназначавшихся ни для чтения в церкви, ни для делового употребления. Появляется стихотворство, драма, переводятся приключенческие повести, окончательно оформляется жанр историко – бытовой повести и т. д.
Это появление чисто литературных форм и жанров сопровождалось характерным явлением: обилием пародий. Долго сдерживаемый юмор нашел себе выход в этих вполне несерьезных поделках, в этом вполне «бесцельном», с точки зрения сурового и серьезного взгляда на литературу предшествующего времени, жанре.
Демократические писатели XVII века забавлялись созданием пародий на челобитные, судопроизводственный процесс, лечебники, азбуки, дорожники, росписи о приданом и даже богослужение. Вместе с тем в литературу вступали разные «прохладные» и потешные сюжеты, различные– забавные повестушки и описания приключений героев.
Все эти внешне «несерьезные» произведения были очень «серьезны» но существу. Только серьезность их была особая и вопросы в них стали подниматься совсем иные, не те, которые волновали торжественную политическую мысль предшествующего времени или проповедничество церковной литературы.
Серьезность вопросов, стоявших перед новой, демократической литературой XVII века, была связана с социальными проблемами своего времени. Авторов непритязательных демократических произведений
XVII века начинали интересовать вопросы социальной несправедливости, «безмерная» нищета одних и незаслуженное богатство других, страдания маленьких людей, их «босота и нагота». Впервые в русской литературе грехи этих людей вызывали не осуждение, а симпатию. Безвольное пьянство и азарт игры в «зернь» вызывали сочувствие или сострадательную усмешку. Беззлобие в отношении одних оборачивалось величайшей злостью против других, которые «ннидоша в труд» бедных, «черт знает на что деньги берегут» и не дают есть голым и босым.
Новый герой литературных произведений не занимает прочного и самостоятельного общественного положения: то это купеческий сын, отбившийся от занятий своих родителей (Савва Грудцын, герой повести о Горе Злочастии, герой повести о купце, купившем мертвое тело), то это недовольный своим положением певчий (в «Стихе о жизни патриарших певчих»), то спившийся монах, то домогающийся места иерей и т. д. Отнюдь не случайно появление в литературных произведениях XVIII века огромного числа неудачников или, напротив, героев, которым, что называется, «везет», – ловкачей вроде Фрола Скобеева или благородных искателей приключений вроде Еруслана Лазаревича. Эти люди становятся зятьями бояр, они легко женятся на царских дочерях, получают в приданое полкоролевства, переезжают из государства в государство или оказываются на необитаемом острове. Их неустроенность, фатальная их не-удачливость или, напротив, необыкновенное счастье позволяют развивать сложные и занимательные сюжеты совершенно нового типа.
Представления об удачливости или неудачливости героя развиваются параллельно с представлениями о судьбе героя. Судьба, доля, «приставленный» к человеку бес или персонифицированное «Горе Злочастие» заступает место пышного общественного положения, которое было характерно для героя предшествующих веков. Это то новое, устойчивое начало, которое начинает играть в сюжетном развитии повествовательных произведений XVII века исключительную, важную роль.
Исследование народных представлений о «судьбе – доле» показывает, что представления родового общества об общей родовой, прирожденной судьбе, возникшие в связи с культом предков, впоследствии сменяются идеей личной судьбы, судьбы, индивидуально присущей тому или иному человеку, судьбы не прирожденной, но как бы навеянной со стороны, в характере которой повинен сам ее носитель.
В русской книжности предшествующих веков (XI–XVI) отразились по преимуществу пережитки идей прирожденной судьбы, судьбы рода. Это родовое представление о судьбе редко персонифицировалось, редко приобретало индивидуальные контуры. Эти представления о родовой судьбе служили средством художественного обобщения в «Слове о полку Игореве». «Слово» характеризует внуков по деду. Образ множества внуков воплощался в одном деде. «Ольговичи» характеризуются через Олега «Гориславича», полоцкие «Всеславичи» через Всеслава Полоцкого. Автор «Слова» прибег к изображению родоначальников для характеристики князей, их потомков, причем для характеристики их общей судьбы – их «неприкаянности».
В XVII веке с развитием индивидуализма судьба человека оказывается его личной судьбой. Судьба человека воспринимается теперь как его второе бытие и часто отделяется от самого человека, персонифицируется. Эта персонификация происходит тогда, когда внутренний конфликт в человеке – конфликт между страстью и разумом достигает наивысшей силы. Судьба отнюдь не прирождена человеку. Вот почему и в «Повести о Горе Злочастии» Горе появляется перед молодцем только На середине его жизненного пути. Оно сперва является ему в ночном кошмаре, а затем внезапно, из‑под камня, предстает перед ним наяву в момент, когда молодец, доведенный до отчаяния нищетой и голодом, пытается утопиться в реке. Оно требует от молодца поклониться себе до «сырой земли» и с этой минуты неотступно следует за молодцем. Горе показано как существо, живущее своей особой жизнью, как могучая сила, которая «перемудрила» людей и «мудряе» и «досужае» молодца. Молодец борется с самим собой, но не может преодолеть собственного безволия и собственных страстей, и вот это ощущение ведомости чем‑то посторонним, вопреки голосу разума, порождает Горе. Избыть Горе, освободиться от беса можно только с помощью божественного вмешательства, и вот молодца избавляет от Горя монастырь.
Еще более многозначителен в отношении своей сюжетной роли бес в «Повести о Савве Грудцыне». Бес также возникает перед Саввой внезапно, как бы вырастает из‑под земли, тогда, когда Саввой полностью вопреки рассудку овладевает страсть и когда он перестает владеть собой. Савва носит в себе «великую скорбь», ею он «истончи плоть свою», он не может преодолеть влекущей его страсти. Бес – порождение его собственного желания, он появляется как раз в тот момент, когда Савва подумал: «…еже бы паки совокупитися мне с женою оною, аз бы послужил диаволу». Так же как и в «Повести о Горе Злочастии», героя освобождает только божественное вмешательство. Савву спасает чудо, свершившееся с ним в церкви.
«Повесть о Савве Грудцыне» не случайно называют первым русским романом. В ней и в самом деле есть в зародыше многие элементы будущего романа. Это произведение могло явиться только в результате многовекового развития литературы, в результате допущения в литературу открытого вымысла, вымышленного героя, в результате полного освобождения литературных жанров от «деловых», внелитературных функций, в результате появления глубокого интереса к человеческой личности самой по себе, вне ее служебного положения и внедрение в литературу быта, бытового окружения. В «Повести о Савве Грудцыне» налицо развитие сюжета нового типа, обусловленного не событиями истории, а личными качествами героя, его страстью, его безволием, его личной удачливостью или неудачливостью.
Освобождение личности, рассматривавшейся в средневековье только как часть корпорации, и освобождение литературы от подчинения внелитературным функциям явились главнейшими предпосылками для возникновения первых предшественников русского романа.







