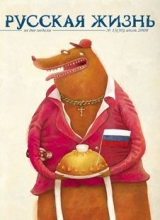
Текст книги "Русская жизнь. Девяностые (июль 2008)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Мария Бахарева
Ходя-ходя

Московские китайцы двадцатых
Тугими полушубками шурша,
Запрятавшись в овчину с головою,
Прохожие по улице спешат
Морозной вечереющей Москвою.
А на резиновый, усталый тротуар
Бьет из подвала, клубом застывая,
Еще горячий, беловатый пар,
Из прачечной китайца Сан-Тун-Вая.
Амир Саргиджан, «Китайская прачечная»
На Пятницком кладбище Москвы есть могила с удивительным надгробием. Надпись на нем гласит: «Здесь погребена голова инженера путей сообщения Бориса Алексеевича Верховского, казненного китайцами-боксерами в Маньчжурии в городе Ляо-Ян в июле 1900 г.». Этот памятник – единственное, что напоминает сегодняшним москвичам об ихэтуаньском восстании, которое вспыхнуло в Китае в 1899 году и продолжалось до 1901 года. А ведь именно в результате этого восстания в Россию (и, в частности, в Москву) хлынул поток китайских мигрантов. Потом было еще две крупных волны миграции: после Русско-японской войны и во время Первой мировой войны. В результате к 1920-м годам в России образовалась вполне заметная китайская община (по результатам переписи населения 1926 года в России насчитывалось 100 000 китайцев).
Чайна– таун в Москве сформироваться не успел -слишком недолог был век существования китайской диаспоры. Но где бы он мог быть, сомнений нет: в районе нынешней станции метро «Бауманская». Там, на улице Энгельса, работала контора правления общества «Возрождение Китая», неподалеку находилась китайская гостиница, при которой работал ресторан. Были здесь и лавки с китайскими товарами – специями, одеждой и всякими мелочами. В домах по соседству снимали комнаты китайцы. Впрочем, некоторые предпочитали селиться поближе к работе – и это еще одна причина того, почему в Москве так и не получилось создать чайна-таун. У московских китайцев было всего три профессии: мелочный торговец (ходя), бродячий фокусник и прачка. Лишь последнее из этих занятий предполагало оседлый образ жизни. Но китайские прачечные тоже не были сконцентрированы в одном месте, их можно было найти едва ли не в каждом квартале города. В Скатертном переулке работала «Шанхайская» прачечная, на Огарева (Газетный переулок) принимала белье «Первая китайская артель». Китайские прачечные имелись на Покровке и на Мещанской, в Гагаринском, Большом Левшинском, Печатниковом, Нижнем Кисельном, Спасо-Песковском и еще по доброму десятку адресов: «Нанкинская прачечная» и «Харбинская прачечная», «Хуши» и «Жан-Ли-Чин», «Пекинский труженик» и «Гоминьданский пролетарий». Москвичка Вера Петровна Яцкова родилась в 1919 году и успела застать недолгий расцвет жизни китайской общины.
– Мы в двадцатые годы жили в Столешниковом переулке, этот дом потом снесли, – рассказывает Вера Петровна, – а неподалеку, на углу Дмитровки и Салтыковского, как раз была китайская прачечная. Называлась она, если мне не изменяет память, «Ван-Зун-Хин». Вообще мама всегда отдавала белье частной прачке, тогда таких много было, они сами по себе работали, на дом стирку брали, это дешевле было. А китайцам только папины рубашки отдавали и фасонное белье, то, что гладить труднее. Они большие мастера считались. Я до сих пор помню метки, которые они оставляли на белье, красные иероглифы, они казались мне удивительно красивыми, и я каждый раз расстраивалась, что мама их спарывает. Белье разносил сам хозяин прачечной, у него такая большая корзина на спине была, а в ней все аккуратно сложено, чтобы не помялось. По-русски он говорил хорошо, только с сильным акцентом.
Работали у «Ван-Зун-Хина», по словам Веры Петровны, одни мужчины – в китайских прачечных тех лет это было нормой. Китаянок в Москве было довольно мало – как правило, мигранты оставляли свою семью дома, надеясь когда-нибудь заработать денег и вернуться на родину.
– Женщин их я только на улице встречала. К нам во двор они почему-то не заходили. Они обычно игрушки продавали, я помню переводные картинки, прекрасные. Но мне их редко покупали.
Похожее свидетельство оставил в своих воспоминаниях и москвич Анатолий Гуревич: «Можно было видеть и китаянок в национальной одежде с туго забинтованными крошечными ступнями. В то время для китайских женщин маленькие ноги считались признаком изящества, и достигалось это тугим бинтованием ног с раннего детства. Эти китаянки продавали на улицах бумажные разноцветные веера, менявшие свою форму при встряхивании, или маленькие, цилиндрической формы, глиняные коробочки с бумажным дном-мембраной, привязанным на конском волосе к маленькой палочке с восковой головкой. При вращении палочки коробочка вращалась вокруг нее, натягивая волос и издавая резкий, жужжащий звук. Они продавали маленькие, свернутые из бумаги цветные мячики на резинке, всегда возвращавшиеся после броска к своему владельцу». Мужчины торговали более крупным товаром: «По дворам ходили китайцы-торговцы, с большими тяжелыми, завернутыми в белые простыни тюками на спине и с железным аршином в руке. В тюках находились сатин, китайская „че-су-ча“ и другие дешевые текстильные материи. Им удавалось иногда находить покупателей, соблазнившихся доставкой товара прямо на дом». «Кроме евреев, в Москву понаехало много китайцев, – подтверждает С. М. Голицын в „Записках уцелевшего“. – Они… держали мелкую галантерейную торговлю на тех же рынках и возле памятника Первопечатнику под Китайгородской стеной. Там они стояли рядами с самодельными пуговицами, расческами, ремешками для часов и разной мелочью».
Московские китайцы, по свидетельству современников, хранили свои национальные обычаи. Их внешний облик был традиционен: гладко выбритый лоб, прикрытый маленькой шапочкой, длинная коса на затылке; темный синий или красный халат. Фокусники и бродячие артисты одевались ярче, иногда даже вешали на себя бубенчики, чтобы привлекать внимание – кричать и кривляться им не позволяли строгие правила китайского цирка. Снова дадим слово Анатолию Гуревичу: «Молча, с хорошей мимикой и жестами они глотали крупные шарики, показывали и другие фокусы. Некоторые китайцы расставляли на легких складных козлах лоток с хитроумной постройкой вроде какого-то замка и пускали в него разноцветных мышей – серых, коричневых, белых и пегих, проделывавших сложные путешествия по замку, попадавших в тюрьму с деревянной колодкой на шее и т. п».
Очень часто вся эта мирная деятельность – торговля, стирка белья и развлечения для московских детей – была всего лишь прикрытием для других, куда более опасных и прибыльных занятий. До отмены сухого закона китайцы торговали контрабандным рисовым спиртом, позже ему на смену пришли опиум, кокаин и морфий. Эту сторону жизни китайской общины описал Михаил Булгаков. В пьесе «Зойкина квартира» как раз идет речь о «прачечной», сотрудники которой поставляли наркотики для подпольного притона. Зойкина квартира (а точнее, ее прообраз, салон Зои Шатовой), кстати, сохранилась, она находится в доме № 15 по Никитскому бульвару. Ее завсегдатай Анатолий Мариенгоф утверждал, что у Шатовой всегда «найдешь не только что николаевскую белую головку, „Перцовку“ и „Зубровку“ Петра Смирнова, но и старое бургундское, и черный английский ром». Про опиум – ни слова, но вполне возможно, что он все-таки был.
Другой частью китайской общины Москвы были работники Коминтерна, деятели коммунистической партии Китая и их дети. В советской столице они учились делать революцию – сначала в Московском коммунистическом университете трудящихся Востока, а потом еще и в отделившемся от него Университете китайских трудящихся имени Сунь Ятсена. В Москве, например, учился сын Чан Кайши Цзян Цзинго (Николай Елизаров), который позже стал президентом Тайваня, и будущий многолетний правитель Китая Дэн Сяопин (из характеристики: «Дэн Сисянь. Русское имя – Дроздов. Парторг группы. Отношения с товарищами тесные. К учебе относится с большим интересом. Наиболее пригоден к организационной работе»). Эти китайцы одевались по-европейски, у всех были одинаковые темно-синие костюмы, полученные по ордеру. Они частенько встречались на Тверском бульваре – студенты университета имени Сунь Ятсена шли на занятия в здание бывших Высших женских курсов на Волхонке. Студенты КУТВ отдыхали на бульваре после занятий – университет трудящихся Востока находился в несуществующем сегодня «доме Фамусова» на Страстной площади. Общежитие для обоих учебных заведений было одно – в Страстном монастыре. Судьба у всех китайских студентов оказалась бурной – кто-то кончил свои дни в сибирских лагерях, кто-то погиб на родине в Китае, кто-то был там же похоронен со всеми почестями. Могила одного из бывших студентов, Ван Мина, оказалась и в Москве, на Новодевичьем кладбище (рядом с ним лежат его жена Мэн Циншу и дочь Ван Фан).
С военного конфликта началось зарождение московской китайской диаспоры, военный же конфликт привел к ее закату. Когда в 1929 году китайские военные захватили КВЖД, из Москвы начали высылать китайцев. По мере того, как нарастало напряжение между СССР и Китаем, репрессий становилось все больше. А к концу тридцатых годов от китайской диаспоры не осталось ничего, кроме воспоминаний, потрепанных вееров и неспоротых меток с давным-давно постиранного белья.
* ДУМЫ *
Дмитрий Ольшанский
Две столицы
Разные девяностые годы
Те, кто сейчас в России смешивают 1990-е с грязью, – они, считай, вытирают ноги о свадебное платье своей мамы. Конечно, платье это уже обветшало, и мама уже умерла, но все-таки не надо, наверное, использовать его в качестве коврика или тряпки в ванной. Ведь это было время, когда мама была молодая и не знала, чем это все закончится, что отец начнет пить и бить, а потом его вообще убьют. И ведь кто это делает – как раз те люди, которые в 1990-е поднялись.
Владимир «Адольфыч» Нестеренко
I.
Идеальная Москва – конечно же, образца 1992 года. Недолговечный, неприбранный, беспокойный, финансово несостоятельный и давно уже принадлежащий скорее воображению, нежели быту, город Гавриила Попова и поныне остается лучшим местом для интеллигентского проживания, этакой сердитой утопией для тех, кому не по пути с опрометчивым прогрессом и нарумяненным процветанием. Москва начала девяностых, словно бы очнувшаяся после многолетнего «порядка», погрузилась во временный беспорядок, и те мгновения, что были отпущены свободному и ветреному существованию столицы, запомнились ее обитателю навсегда, хотя тогда, в революционном дурмане, и мысли не могло быть о том, что прочно водворившийся хаос – это всего лишь случайное волшебство, шальное блаженство, исчезающее прямо у вас на глазах.
На Тишинском рынке торговали вещичками, на Палашевском помидорами, у Музея Ленина – газетами «К топору!» и «Пульс Тушина», и даже в «Лужниках» вместо футбола был сплошной рынок; демократы атаковали красно-коричневую реакцию, а реакция махала портретами Генералиссимуса и старца Григория, шумно призывая рыночников к ответу; в темных подъездах нетронутых пожилых домов не было ни домофонов, ни элитной недвижимости, зато в кооперативном киоске можно было купить напиток «Оригинальный», из лучших сортов винограда, разумеется; на улице изредка затевалась перестрелка, но чаще мирно обменивали СКВ; чучело Евтушенко горело весело и патриотично; «Бесплатный сыр – в мышеловке», – изъясняли министры-капиталисты свое передовое учение, а реклама, туманная, загадочная реклама биржи с вентиляторным заводом адресовалась кому угодно, но только не телезрителю, зевающему в кресле рядом с жигулевским пивом, газетой «Куранты» и чайным грибом.
И, разумеется, всех ждало ужасное будущее. В будущем были то хунта, то заговор, то погром, то возвращение коммунизма, то Сталин, то Пиночет, то истребление всех интеллигентных и близоруких, вовремя не добравшихся до аэропорта, а что до гражданской войны, то она присутствовала на страницах, в эфире и в разговорах так же буднично и неоспоримо, как ликер «Амаретто» на дне рождения у первокурсницы. – И вы еще сомневаетесь, что «эти», дай им волю, нас всех перережут? – спрашивал один пошедший по миру, но не утративший веры в частную собственность кандидат наук другого, пока дочки глушили ликер. Но его собеседник отказывался верить в то, что «нам нужен новый Корнилов», потому что «народ не готов». Да, пусть мы погибнем, но свобода превыше, свобода дороже, свобода главней. Девочки неуклонно напивались в соседней комнате, за окном улыбались «Продукты» и «Металлоремонт», принципиальных размеров пропасть между Гайдаром и Явлинским все никак не сокращалась, в то время как «эти» знай точили свои топоры где-то между Музеем Ленина и нехорошим Союзом писателей на Комсомольском проспекте, а страшный финал и всеобщая гибель все приближались.
Но никто не мог отгадать, с какой стороны они явятся.
II.
Журнал «Столица» тех лет – боевое издание Моссовета, отменный символ эпохи – выглядит сегодня воплощенной древностью, разновидностью таких же боевых изданий 1917 года, хотя большинство авторов его и героев живы и действуют в следующем веке. И дело вовсе не в количестве утекших годов, не в том, что обложка, картинка или макет кажутся архаичными до умиления. И даже не в том, что многие мелочи, избежавшие официальных мифов, режут глаз и намекают на изрядное историческое расстояние – так, бабушка русской революции Новодворская ругмя ругает новую власть, уже к 1992 году оказавшуюся тиранической и фашистской, а черный полковник Алкснис, совершенно потерявшийся под бдительным взором либерального корреспондента, бормочет что-то о правах человека и расставании с тоталитарным прошлым. Весь вообще этот ворох причудливых, ветхих манифестов сиюминутности, казавшейся тогда такой важной, а теперь почти дотянувшей до «Случаев» Хармса, удивляет, смешит, поучает, но отделяет нас от него все-таки не сюжет, не конфликт, не абсурд. Начало девяностых – это прежде всего пропавшая интонация.
Торжественная, в основе своей романтически-шестидесятническая, но уже простившаяся со всяким молодежным задором и неуклюже-почтенная, как запоздавший триумф седого и грузного человека, драматическая интонация революционного журнала ворочается и скрипит забытыми публицистическими приемами буквально на каждой странице. Выглядит это примерно вот как:
Горбачев медлит. Горбачев ждет. На свою беду, на беду всех порядочных, демократически мыслящих людей в СССР, первый Президент не спешит освободиться от команды тех, кто олицетворяет поворот к нашему самому мрачному прошлому, к тем 70 годам, что мы провели под гнетом административно-командной системы. Ежов и Абакумов, Пуго и Крючков: система не видит иного, несоветского завтра, завтра без лагерей и железного занавеса. И Президент, спящий заколдованным сном в Кремле, дает возможность партократам мечтать о возвращении к сталинизму. И даже Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, честнейший и достойнейший представитель старой номенклатуры, оказался бессилен повлиять на Горбачева и ушел в отставку. Да, время уходит. Но надежда все-таки остается. Проснитесь, Михаил Сергеевич! Проснитесь. Вы же слышите нас, мы с вами. Пока еще с вами. Мы ждем, мы поможем.
Не надо поспешных ха-ха и гы-гы. Русский мир начала девяностых, хоть бы и тысячу раз велеречивый и пошлый, был велик тем, что все-таки поддавался влиянию слова. Пусть и такого, ничтожного и сто раз до того слышанного, напечатанного на дрянной бумаге, рядом с развернутыми остротами по адресу Егора Кузьмича, но все-таки слова, которое таинственным образом что-то меняло, что-то рушило и снова нагромождало в синтаксической путанице революции. Седые и грузные люди, которым открыл глаза Двадцатый съезд, которые фрондировали спецкорами в «Правде» в 65-м, которых не устраивала номенклатура, которые исписывали целые папирусы, ожидая, что Михаил Сергеевич проснется, а Борис Николаевич образумится, – эти люди делали все-таки очень важное, несмотря на всю свою мнимую бессмысленность, дело. Они создавали реальность, которой управляет слово, а не простейший условный рефлекс – и получилось так, что когда их собственные, смешные и глупые слова за ненадобностью объявили лишними и отменили, то вместе с ними из жизни общественной исчезли и все остальные, хорошие.
III.
Пять лет, которые имеет смысл отсчитать от XIX партконференции 1988 года, зачавшей будущий Съезд народных депутатов, до первых утренних часов 4 октября 1993 года на Пресне, были временем, которое стоило бы, как в условном научно-фантастическом романе, бесконечно проживать заново, раз за разом, даже и зная, что изменить и поправить что-либо – уже не в твоей власти. Что-то подобное, что-то сравнимое по одновременной концентрации заблуждений и чудес уже случалось в русском двадцатом веке: в 1917-1927-м, а затем, в сильно ослабленном варианте, где-то между 1956-м и 1964-м. Но в чем же величие ранних девяностых, почему от их пейзажей, идолов, злодеев и потрясений, как и в случае с 1920-ми и 1960-ми, исходит странный исторический свет, в то время как иные эпохи – это попросту кровь, хлеб, колбаса, телевизор, ностальгия по ним же. Отчего Москву Гавриила Попова так томительно приятно припоминать, отчего интересен журнал «Столица», по нынешним меркам, прежде всего, наивный?
Уж конечно, не потому, что митинги, танки, стреляйте, нет, не стреляйте, в отставку, позор, не дадим, победим, партократы, наследие сталинизма, честнейшие люди, отец Глеб Якунин, «Саюдис», Тельман Гдлян, проснитесь, Михаил Сергеевич, мы все вас просим, проснитесь. Весь этот пафос непоправимо ветшает на следующий день, ну а лет через двадцать он интересен только как букинистический казус, архивная новость для тех, кто уж очень не любит сегодняшних новостей – эффективныхмаркетинговых, прости Господи, инновационных.
Но и все рынки, прилавки, чудо-товары прямо с пола и из рукава, биржи, банки, заводы (вентиляторные), винные напитки, перестрелки, портреты святого старца Григория, тишинские побрякушки и палашевские помидоры, кухонные разногласия насчет Корнилова и Пиночета, ларьки, министры-капиталисты (молодые и откровенные) и ножи-топоры, которые нехороший Союз Писателей, отрываясь от сожжения чучела Евтушенко, точил против первокурсниц и их принципиальных родителей, – все эти мелочи исчезнувшей жизни интересны сами по себе, как любые умершие подробности, но эпоху украсили все-таки не они.
Ранние девяностые годы были прежде всего временем, когда не было обывателя. Временем, когда благоразумная, жадноватая, самодовольная, насквозь материалистическая, и потому разрушительная, и главное, несомненно антихристианская в основе своей житейская «норма» получила полную и решительную отставку. Мы их тогда победили – иначе не скажешь. «Их» в данном случае значит вовсе не машущую портретами у Музея Ленина «реакцию» – она и сама тогда была насквозь безумной, взбалмошной, шебутной, ничем, на самом-то деле, не отличаясь от прогрессивных депутатов, на которых тогдашние монархисты и коммунисты ходили в атаку.
Главнейшей особенностью лучших моментов в истории – что 1917-го, что 1991-го – является то, что в каждой такой революции правы решительно все и прекрасны все абсолютно, потому что все обаятельны и все по-своему проиграют. А вот если кто подлинно неправ, подлинно отвратителен, так это бывший и будущий победитель, «нормальный и здравомыслящий», на минуту оказавшийся за дверями, в макулатуре, в загоне. Нет, формально обыватель существовал и в те дни. Он сидел, например, в кресле рядом с чайным грибом и ругал коммунистов тире демократов. Но в то же самое время его и не было – так как реальность, явленная нам в политике, на улице, на письме и в быту, совершенно не предполагала для него, такого «уважаемого и солидного», центрального места в природе. Никто – ни празднично разряженные казаки, ни откровенничающие министры, ни площадные агитаторы, ни авторы велеречивых статей, ни даже выдумщики загадочных биржевых реклам – никто из них не гонялся за обывателем, не подлизывался к нему, не плясал нечто зазывное пред его дремлющим оком, никто не подлаживал жизнь и картинку, Москву и Россию под усредненное, общее место подлого человека, не тряс перед его носом флагами, народными гуляниями, бестселлерами, молодежью, драйвом, ритмом и скоростью, спортом, патриотизмом и прочей массовидной пакостью. Наоборот, это ему, подлецу, приходилось пыхтеть и терпеть ту действительность, в которой вдруг победили слова, а не рефлексы, усложнение, а не мычание, журналы и съезды, а не футбол и олимпиада.
Да, он вскорости выбрался из загона и радостно заполонил собой все. Да, ранние девяностые проиграли, как проиграли до того 1960-е и 1920-е. От волшебного разноголосия, от цветущей сложности той атмосферы не осталось почти ничего. Оказалось, что слова были лишними, а вот рефлексы живучи. Так значит ли это, что нужно было все сделать иначе, коль скоро выпал бы научно-фантастический шанс прожить эти пять лет еще раз? Юлить и подлизываться к здравому смыслу и общему месту, сокращать, ужимать, делать глянцевый лист из прожектора перестройки, не давать повода к, осторожничать, не подставляться, кокетничать с чайным грибом, наконец?
Одинокий голос, звучащий сейчас, но словно бы из 1992 года, формулирует все очень точно:
– Принцип «Один человек – один голос» является не лучшей идеей. При такой идее никакой интеллигенции в органах власти не будет. Голосовать должны интеллектуально грамотные люди. Пока голосовать будет слой, требующий силовых методов, мы эти методы и получаем. Значит, надо отстранить этот слой, – сказал Гавриил Попов.
Или, как говорил латышский стрелок, старый большевик Берзин молодому патриотическому вохровцу 1930-х в дивном сериале «Завещание Ленина» – дядю твоего, контру, я расстрелял, и жалею только о том, что и тебя, гада, с ним вместе не шлепнул.








