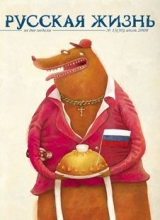
Текст книги "Русская жизнь. Девяностые (июль 2008)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
* ЛИЦА *
Олег Кашин
Замечательная толпа
Кто начинал перемены

I.

Этот день формально до сих пор остается государственным праздником – Днем российского флага, но его уже почти никто не отмечает, только активисты СПС и близких этой партии движений выходят на Новый Арбат. А больше никаких торжеств не происходит.
А тогда казалось, что праздник – на века, и все было впервые. Впервые площадка у Дома Советов РСФСР (сегодня он называется Домом правительства, а вокруг площадки – массивная чугунная ограда, за которую никого не пускает ФСО) называлась площадью Свободной России, впервые (решение о смене флага парламент принял именно в то утро) над Домом Советов развевалось бело-сине-красное полотнище – маленькое, а тридцатью метрами ниже, на фасаде цокольного этажа, был растянут такой же флаг, только гигантский, – тот самый, знаменитый, который утром 19 августа принес к зданию парламента Константин Боровой, по какому-то недоразумению считавшийся тогда живым символом возрождающегося русского капитализма.
Было 22 августа 1991 года.
II.
На крыше цокольного этажа (демократическая версия трибуны Мавзолея) стояли вожди – Борис Ельцин, Руслан Хасбулатов, Гавриил Попов, Иван Силаев, Александр Руцкой. Под ними колыхалось людское море. Такие митинги в тогдашней Москве происходили достаточно часто, но впервые митинг в прямом эфире транслировали по центральным телеканалам. Время от времени на экране возникал титр – «Митинг победителей». Вожди говорили какие-то подобающие случаю вещи, людское море скандировало в ответ «Россия!» и «Ельцин!», а потом вожди скрылись в своих кабинетах (годы спустя Александр Коржаков расскажет в мемуарах, что в этих кабинетах происходило), а людское море, поколыхавшись еще с полчаса, содрало с фасада гигантский флаг и потекло переулками к центру Москвы.
III.
«Это была замечательная толпа», – ностальгически вздыхает мужчина в сандалиях, с которым мы разговариваем, сидя на лавочке в бетонном дворе на юго-западе Москвы; домой к нему нельзя – там гости. Мужчину зовут Михаил Шнейдер – в августе 1991 года он был помощником мэра Москвы и ответственным секретарем (то есть начальником аппарата) «Демократической России» – фигурой совсем не публичной и не слишком влиятельной, но тогда, 22 августа, вышло так, что именно он и его коллега по аппарату Александр Осовцов оказались практически единственными (то есть были еще какие-то видные деятели – Александр Музыкантский, Евгений Савостьянов, московские и российские депутаты, но они растворились где-то в хвосте, а Шнейдер с Осовцовым оказались во главе колонн) нерядовыми деятелями в той толпе. А толпа была замечательная.
«Это была очень адекватная толпа, толпа радостных трезвых людей, которые были счастливы от того, что путч провалился и начинается свободная жизнь», – вспоминает Шнейдер сейчас, а тогда, очевидно, ему было не до размышлений о качественном составе толпы, потому что толпа напирала, и «нужно было выбрать конечную точку, чтобы было понятно, куда идем». Кто-то предложил идти на Красную площадь – и все пошли на Красную площадь. «Я не помню, – говорит Шнейдер, – можно ли тогда на ней было устраивать демонстрации, но это были революционные дни, когда все было можно. И мы ломанулись на Красную площадь».
IV.
Что делать на Красной площади, никто не знал, и тогда Шнейдер сказал Осовцову: «Алик, пойдем на Лубянку». Шедшие рядом демонстранты эту идею поддержали, толпа хлынула по Никольской, и уже через минуту Шнейдер пожалел о своем предложении. «Люди рвались брать здание КГБ, а мне шестое чувство подсказывало, что не надо этого делать, – мы жутко боялись провокаций, а гэбэшники вполне могли быть готовы к обороне, и потом действительно выяснилось, что на крышах по периметру площади сидели снайперы, которые начали бы стрелять в толпу, если бы она приблизилась к зданию».
Дальнейшее помнят все – каким-то чудом агрессию толпы (Шнейдер поправляет: «Не агрессию, а положительную энергию») удалось переключить на памятник Феликсу Дзержинскому, демонтаж которого и стал завершением народных гуляний, но при сносе монумента Шнейдер уже не присутствовал – ему, как он говорит, «надо было линять» – на Тверской у Моссовета его уже ждала машина в аэропорт, нужно было лететь в Токио на Всемирный конгресс городов – посланцев мира. Оставил Осовцова на Лубянке, сам побежал на Тверскую. По дороге зашел в ЦК КПСС на Старой площади и, предъявив мандат, объявил, что здание будет опечатано. Через несколько часов коллега Шнейдера по «Демроссии» Владимир Боксер действительно наклеил на двери будущей Администрации Президента Российской Федерации бумажки с моссоветовскими печатями. Революция, что тут еще скажешь.
V.
Вообще– то, Михаил Шнейдер был физиком, работал в ИЗМИРАНе (спрашиваю, кем работал -«Как все, мэнээсом»), но потом закрутилось – митинги на Манежной, выборы в Моссовет. Два раза занимал первое место по округу, но оба раза не было необходимой явки, и депутатом Шнейдер так и не стал – говорит, что не жалеет, нашел себя в аппаратной работе. Под всеми обращениями «Демроссии» – рядом с подписями Ельцина, Попова и Станкевича – его, Шнейдера, подпись. Организовывал митинги («Был у нас митинг на Зубовской площади – так мы треть Садового заняли, люди стояли от парка Горького до Маяковки, представляете?»), проводил заседания («Кто у нас только не был – и Дима Рогозин, и Фима Островский, и Андрей Исаев») – золотое было время.
Листовки тех лет читаются вполне захватывающе: «Консервативные силы ради сохранения власти готовы сейчас на многое. Не удивимся, если в предвыборной борьбе они в очередной раз попытаются применить нечистоплотные методы, прибегнуть к дезинформации и даже фальсификации результатов голосования. Мы обращаемся к тем, кто не пришел голосовать. Именно о вашей неявке на участки мечтала номенклатура», – читаешь и удивляешься, почему на листовке не написано: «Ющенко – так!» или что-то в этом роде.
«Демократическая Россия», между прочим, формально существует до сих пор, круглая печать и учредительные документы хранятся у Льва Пономарева, только кому это теперь интересно.
VI.
«Кризис в движении начался после того, как Демроссия решила свои задачи – мы же и создавались, чтобы свалить власть КПСС, и нам это удалось, причем гораздо быстрее, чем планировали, – я, например, рассчитывал лет на 10-15 напряженной работы. А потом – реформы, рост цен, народ быстро понял, что недостаточно свалить коммунистов, чтобы сразу началась жизнь, как на Западе. Появилась фракция, которую я бы назвал „Ребята, нас предали!“ – в нее вошли будущие защитники Руцкого и Хасбулатова – Миша Астафьев, Ребриков, еще люди. Мы с ними согласны не были, мы с самого начала были за Гайдара. Вот в этом была причина раскола».
«С самого начала» – это с сентября 1991 года, когда Ельцин отдыхал в Сочи, а Лев Пономарев с Глебом Якуниным летали к нему (тогда еще тех, кого теперь называют демшизой и маргиналами, пускали к президенту) и уговаривали назначить в правительство Гайдара и его команду. «Мы всегда были за Гайдара, – повторяет Шнейдер, – потому что мы верили в него и понимали, чего нужно ждать от отпуска цен. У многих из нас было хорошее экономическое образование, они объясняли нам, что такое шоковая терапия. Я вообще считаю, что шока-то как раз тогда не было, – Гайдар действовал очень мягко».
VII.
Сам Шнейдер и после начала реформ оставался помощником московского мэра – даже когда Гавриил Попов уступил свою должность Юрию Лужкову, на аппаратной позиции Шнейдера это никак не отразилось. Он проработал помощником мэра по связям с общественными организациями и избирателями десять лет, до 2002 года, пережив на этой должности и конфликт Лужкова с Коржаковым, и предвыборную кампанию 1999 года, и реформы первых путинских лет. «Специфика работы не менялась – люди в мэрию всегда ходили с какими-то конкретными делами, и нужно было в этих делах разбираться», – страшно представить, какими глазами смотрели чиновники лужковской мэрии на затерявшегося среди них демократа первой волны. Когда я спросил, почему Шнейдеру не удалось конвертировать свой аппаратный вес во что-то материальное (даже квартиру на юго-западе он купил по ипотеке, продав свое прежнее жилище и до сих пор не вернув долги всем знакомым), он без каких-либо эмоций ответил: «А из ближайшего окружения Попова никто ничего не конвертировал. Через меня десятки будущих олигархов прошли, а мне ни разу никто даже взятку не предложил, к сожалению. То есть не к сожалению, конечно, но не было взяток».
Через секунду, впрочем, он вспомнит один случай и (честный все-таки человек) расскажет – пришел какой-то кооператор проситься на прием к Попову, вывалил из большой спортивной сумки на стол сотню или даже больше китайских калькуляторов – мол, это вам. «Я ему говорю: если через минуту ваши калькуляторы с моего стола не исчезнут, я ментов позову. Он все понял, забрал свои подарки».
Попал ли тот мужик на прием к мэру, Шнейдер не помнит.
VIII.
Я спрашиваю, как же так получилось, что на смену сумке с калькуляторами и той единственной пачке с долларами (десять тысяч за концерт на Красной площади), за которую чуть не посадили Сергея Станкевича, пришла такая коррупция. Шнейдер трогательно разводит руками: «Ну что вы, я же не специалист, я не знаю. Может быть, все началось с олигархов?»
«С олигархов, не с Лужкова?» – может быть, я спрашиваю слишком в лоб; Шнейдер смущается и говорит, что «коррупция не зависит от какой-то конкретной личности. Просто однажды люди понимают, что можно воровать, и уже не могут остановиться. Черт его знает».
IX.
Единственное, о чем Шнейдер жалеет сегодня, – это о том, что демократам в свое время не удалось организовать пропагандистскую работу с населением, не удалось объяснить обществу смысл реформ. «Мы и Ельцина об этом просили, и Гайдара, и Чубайса, но у них и так было столько дел, что о разъяснительной работе никто не думал, сфера объяснялова была запущена, вначале ее захватил Полторанин, потом – Гусинский с Березовским, которые вообще стали мочить демократов, – как потом оказалось, на свою голову».
Больше Михаил Шнейдер ни о чем не жалеет.
X.
Уйдя из мэрии, Шнейдер сосредоточился на работе в аппарате СПС – до сих пор каждый день ездит на работу, налаживает контакты с регионами после очередного поражения партии на выборах. Вначале возглавлял региональный отдел, сейчас – отдел методологии и внешних связей. К нынешнему имиджу СПС относится спокойно, и даже прошлогоднюю акцию с участием Бориса Немцова в магазине «Седьмой континент», когда Немцов скандировал лозунг: «Бабушкам и дедушкам не хватает хлебушка», считает вполне нормальным явлением. «Мы просто говорили о либерализме бабушкам и дедушкам на их языке. Это вы смотрите на все как журналист, изнутри, и все понимаете, а если со стороны смотреть, то все правильно – во всех учебниках написано, что надо расширять электорат, а в нашей стране его можно расширять только за счет пенсионеров». Риторику СПС 2007 года Шнейдер не считает левой – «просто в условиях ограниченной свободы слова иногда нужно переходить на птичий язык, не теряя самоидентификации и, конечно, следя за базаром».
В его речи часто проскакивают такие жаргонизмы, но феня звучит совсем не так, как если бы на ней разговаривал какой-нибудь гопник – нет, Шнейдер – это классическое «интеллигенция поет блатные песни». Наверное, если бы не было «Демроссии», он стал бы КСП-шником.
XI.
В том, что демократы когда-нибудь снова придут к власти, Шнейдер, конечно, не сомневается, его прогноз – лет через пять, а может, и через двадцать, смотря сколько будет стоить баррель. Михаил Яковлевич даже готов поименно перечислить тех, кто придет к власти – Владимир Милов, Никита Белых, Илья Яшин, Мария Гайдар. У Шнейдера даже есть аккаунт в Живом журнале, поэтому он постоянно в курсе всех оппозиционных дел. Участвует в подготовке очередной объединительной конференции демократов, говорит, что возрождение «Демократической России» обязательно состоится. Всерьез верит во все это или по привычке – непонятно. Может, и всерьез.
Когда революция – из гуманизма ли, по невнимательности ли, – в нарушение известного правила не пожирает своих детей, дети вырастают в очень трогательных и симпатичных чудаков – вот как Михаил Яковлевич Шнейдер, например. Опечатывал ЦК КПСС, вел замечательную толпу к Лубянке, митинговал, выдвигался – а теперь сидит в своих сандалиях на лавочке в бетонном дворе и рассказывает мне про Машу Гайдар. Жалко, что он не сказал, какой у него аккаунт в ЖЖ, – я бы его зафрендил.
Добрые люди помогли
Беженцы времен Ельцина
Дмитрий Афонин, выехал из Ташкента
В 1991 году я вернулся из Минска, где служил в армии, домой в Ташкент. У нас был дом на краю города, свое хозяйство. Мне в Минске предлагали остаться после срочной, но я решил – нет, домой. Жителям Средней Азии европейская Россия казалась не самым сытым краем – у нас-то хлопок выращивали, и жизнь-то была побогаче. Разное говорят про советский строй – но если кому при нем хорошо жилось, так это нам.
А портиться все стало в начале 90-х. Откуда-то с гор начали спускаться ваххабиты. Это так считается, что они какие-то шибко религиозные мусульмане, – а на самом деле это конченые наркоманы, которые тупо вдалбливали узбекскому населению одну мысль: Узбекистан должен быть очищен от неверных. Узбеки их, к сожалению, слушали, развесив уши. И вот, едва до нас долетела весть о том, что в Москве произошел путч (никто ничего тогда не понял – кто свергал, кого), начались удивительные события.
Начали пустеть улицы – греки, немцы, крымские татары и представители других народов стали продавать дома. Идешь по улице – и на каждом доме объявление о продаже. Уже неуютно, так? Потом постепенно стали как-то отмирать контакты с коренными – у меня, например, был дружок-узбек, еще со школы. И вдруг он перестает со мной здороваться. Я ему: ты че, сдурел, что ли, подменили тебя? А он мне: а чего тебе надо-то? Дальше – больше. Выхожу как-то в сад, вижу, его дочка шестилетняя сидит у меня на черешне и обрывает ее. Я ей: тебя не учили, что в чужом саду разрешения надо спрашивать, прежде чем черешню рвать? А она мне знаешь чего в ответ? «А это наша махаля (микрорайон то есть), и наша черешня, а тебе в Россию пора ехать». И еще прибавляет «акулак» – белые уши, это они так русских называли. Я, значит, понимаю, кто ее научил таким речам, вытаскиваю его на улицу – а он мне: «А что тебе не нравится, акулак?»
Если бы это было единственное событие такого рода, я бы, может, не задумывался бы, – но это часто повторялось. Люди, узбеки, которые раньше здоровались, теперь делали вид, что меня не видят. Люди других национальностей массово продавали дома. Мне бы тогда еще в толк взять, что происходит нечто неприятное, но я все искал себе применения. Поступил в Ташкенсткий политех, но вскоре понял, что опоздал. Я когда до армии прицеливался к нему, там профессора были супер, очень сильная школа. Пришел после – уже преподаватели одни узбеки, и студенты одни узбеки. И многие таблицы умножения не знают. Заходишь на лекцию и слышишь: «А сейчас, товарищи студенты, повторим школьный курс…» Вот тебе и высшее образование. Посмотрел я на это дело, плюнул и пошел в узбекскую армию – в Минске-то мне хорошо служилось, вот я и решил снова в казармы вернуться.
Сначала меня послали миротворцем в Таджикистан, на афганскую границу. Вот там начался жесткач настоящий – если у нас резали только турок-месхетинцев, а с русскими просто не разговаривали, то там одна часть населения, «вовчики» так называмые, убивала другую, «юрчиков», а вместе они убивали все некоренное население. Это был ужас – на скотобойнях вешали людей на крюки и оставляли умирать! Представители некоренных народов оттуда на крышах вагонов эвакуировались; какое там дом продать, самим бы выжить! И вот нас, значит, в самое пекло и бросили. А там был район, где одни узбеки живут. То есть меня они послали, а сами не поехали своих выручать. У меня в роте были самаркандские иранцы, киргизы, таджики – только узбеков не было. Вот такое миротворчество.
Там я понял, что надо мне из Азии проваливать. Могу даже точно вспомнить день. Я как-то пошел на рыбалку, на горную речку там в Таджикистане. Выхожу на бережок и вижу – стоят двое рядовых и овца. И у одного штаны спущены. Надо объяснять, что дальше было? После этого я написал рапорт об увольнении в связи с принятием российского гражданства. Вернулся в Ташкент и стал собираться.
А российское гражданство мы получали так. Гигантская очередь стояла в одну маленькую дверь российского посольства. Все орут, дерутся и в дверь эту ломятся. И те, кто стоит на входе, взяток не берут. Мы успели в последний момент – в 1996 году. Через несколько месяцев Россия прекратила выдавать русским паспорта. Это было сознательное предательство своего народа своим же государством – по-другому я это назвать не могу.
Но и русский паспорт не был решением проблемы – мало того, что его надо было получить, еще надо было сохранить. Там происходило все так – останавливает тебя узбекский мент и спрашивает документы. Если ты дал ему паспорт – все, привет, придешь на следующий день за синим, узбекским, где вместо двуглавного орла птица Симург. И все, прощай Россия. А им премии давали за каждый изъятый российский паспорт. А Россия за своих граждан не вступалась, выжидала. А нам каждый день говорили и писали на заборах: турок вырезали, русские следующие.
В общем, вырвали мы наконец российское гражданство, продали за бесценок дом, отправили в Москву вещи и уехали. Вышли на Казанском вокзале с двумя чемоданами – здравствуй, Родина! Сначала в Тверь отправились. Там мне мордатый такой чиновник рассказал, что я понаехавший, что я лишний рот, который приехал в нищую Россию; я послушал-послушал – и в Москву подался. Кручу вот баранку уже который год – говорят, устраиваться надо, а куда я без прописки устроюсь? Сейчас вот может хату куплю в Железнодорожном, может, пропишусь…
Да, забыл рассказать – я же несколько лет назад ездил к себе в родные края: работал тогда на НТВ. Денег не хватило на самолет, поехал на поезде. Знаете, что первое со мной случилось на казахско-узбекской границе? Заходит ко мне погранец, всех нерусских из вагона выставляет, тычет мне в декларацию, где у меня обозначено 700 долларов и говорит – половину ты мне отдаешь. Я ему по узбекски отвечаю – ты оборзел, родной? А он мне кладет на столик пару патронов и шмат гашиша, и говорит – да нет, это ты оборзел. Сейчас я все у тебя заберу, а не дашь, так у меня за дверью понятые стоят… Сторговались мы, в общем, потому что за патроны в Узбекистане дают семь лет, за гашиш десять, а тюрьма в Узбекистане – это колодец, накрытый решеткой, на которой скорпионы сидят… Съездил я домой, в общем.
Я вам так скажу – у нас в Узбекистане все были уверены, что еще немного, и коммунисты вернутся. Ваххабитов этих перестреляют, турок-месхетинцев вернут, и снова заживем – будем ягодами торговать, фруктами и хлопком на весь мир, как при Советах. А по-другому вышло – мы ж не знали, насколько все продано-то было.
Елизавета Осмалянина, выехала из Грозного
В 1994 году наша семья бежала из Чечни. Мне тогда было 9 лет, но я очень хорошо все помню.
Началось все, конечно, с распада Союза. Отношения русских и коренных никогда не были особо теплыми, но район, в котором мы жили, был в этом смысле благополучным. Я помню, что мы играли с чеченскими детьми, и я не делала большой разницы между соседом Петей и соседом Ахмадом, Машей или Асет. Но я хорошо помню, как мой отец однажды пришел домой в крови – какой-то ублюдок пырнул его ножом в ногу среди бела дня, прямо около дома, со словами, мол, это я только пугаю, а скоро мы вас резать будем по-настоящему. Поднялась суматоха, близкие как-то старались, чтобы я этого всего не увидела, мне тогда было семь лет. У меня был шок – и с этого началась вся моя чеченская история.
Я не очень понимаю, чего мои родители ждали – многие наши соседи стали уезжать еще до начала войны и нам говорили: вы чего, мол, вас здесь скоро резать будут, как баранов. Впрочем, отец и мама имели в Грозном хорошую работу – и, как позже они мне признавались, даже представить себе не могли, что придется уезжать из родного города. Отец говорил – пусть они уезжают, если хотят. Потом отец приходил и говорил, что Москве стало не до нас и скоро тейпы возьмут власть. Потом, когда к власти пришел Дудаев, говорил, что армия ушла, нарочно оставив генералу целые арсеналы с оружием.
Чечня всегда делилась на горную и равнинную – это были разные страны. Веками, при любой власти – царской, советской, российской – в горах сидели непримиримые, многие из которых не владеют русским языком. А на равнине жили нормальные люди, крестьяне, мирные жители, которым не было никакого дела ни до какой войны. Хочешь воевать – уходишь в горы. Не хочешь – живешь себе спокойно бок о бок с другими.
И вот было такое ощущение, что эта самая зараза сползла с гор, как лавина. Отец это связывал с падением Союза, «идеологическим вакуумом», как он выражался. Я не очень в курсе, что там в 90-е писали московские газеты, но у нас происходили настоящие этнические чистки. Сначала до нас только доходили слухи, что нечеченцев начали выкидывать из домов. Мы как-то не верили – в голове не укладывалось. Но потом двоюродного брата моей подруги, а у них еврейская семья, выкинули из окна его собственной квартиры – разбился насмерть. Я помню это выражение полной беспомощности в глазах, с которым отец слушал меня, когда я ему пересказывала эту историю; идти жаловаться было некуда, как вы понимаете. А потом просто вокруг стало происходить такое, о чем я рассказывать не буду – головы отрезали даже детям, выпускали кишки, убивали беременных… В общем, мы досиделись до того, что земля загорелась под ногами. Учреждение, в котором работали отец и мать, перестало существовать, и у нас вообще не стало никаких денег. После провального штурма Грозного в Новый 1994 год родители уже твердо решили выезжать, и пробовали продать дом знакомым местным, но что-то каждый раз срывалось. А когда стало ясно, что вот-вот начнется война, к нам пришли и сказали – мы милосердно вам даем последний шанс убраться из этого дома, потому что по-хорошему мы должны бы вас всех зарезать. И мы в чем были, с какими-то личными вещами, месяца за два до войны вышли из квартиры и поехали.
Мы приехали к бабушке, маминой маме, в Орел, – больше мы никого в России толком не знали. Статуса беженцев у нас не было. Работы у родителей не было никакой. Поначалу все жили в бабушкиной однокомнатной квартире, потом отец стал куда-то ходить, просить. Ему предложили отправиться в сельскую местность, в бывший санаторий, разнорабочим. Там же и жить. Меня определили в местную школу. Одноклассники меня чеченкой дразнили сначала, потом я им рассказала пару историй из нашей жизни в Грозном, они примолкли. Уважение появилось. Но тоже было не сахар – все пили: дети, подростки, старики… Я думала, честно говоря, что нас тут жалеть будут, – ага, как же. «Приехали тут на нашу голову» – это самое ласковое, что мы слышали.
Помогли нам добрые люди, устроили отца на работу в Белгороде – пусть не по специальности, но хоть квартиру дали служебную. Я когда в город переехала и в школу пошла, половину года своих новых одноклассников догоняла, потому что на орловщине нас не учили ничему.
Знаете, что лично я из всей этой истории вынесла? Как нашей дорогой Родине было на нас всегда наплевать, так и мне наплевать на нее теперь. Помогали нам все через губу и за взятки. Моя родина – папа и мама, а всего остального я здесь добилась сама. Сама с трудом поступила в московский ВУЗ, сама его бросила, когда родители стали болеть и надо было деньги зарабатывать, сама нашла себе хорошую работу и сделала карьеру даже без высшего образования. Самой страшно, какой сильной стала. Только вот от кавказцев шарахаюсь на улице. Знаю, что нехорошо это, что не бывает плохих наций – а ничего с собой поделать не могу.
Иннокентий Рындин, выехал из Риги
Когда к нам в позднесоветские годы долго не могли собраться друзья из Москвы, мы шутили – давайте скорее, пока визы не ввели. Произнося это, мы в любом случае предполагали, что если это фантастическое событие когда-то и произойдет, то очень нескоро. Да, вокруг начал чаще звучать латышский язык, но никто не придавал этому большого значения. Когда параллельно с местными партийными комитетами начал функционировать Сейм, а газеты стали публиковать воспоминания стариков о довоенных годах, напряжения между русскими и латышами стало чуть больше – но, опять же, не настолько, чтобы чувствовать, что дело идет к полному отделению.
Русские в Латвии делились на две неравные части. Военные, их семьи и потомки были настроены определенно за коммунистов. Но была еще русская интеллигенция, которая не имела никакого отношения к стоявшим на территории Советской Латвии гарнизонам – они поддерживали Народный фронт и право республики на самоопределение. Я относился ко вторым – мой отец был преподавателем философии, а я, еще не закончив школу, был активным участником акций НФ. Мой выбор в их пользу был вполне очевиден – в пусть и советской, но все-таки западной Европе был слишком хорошо виден контраст между коммунистами и антикоммунистами. Замшелые, абсолютно дремучие люди – и сторонники независимости, казавшиеся людьми из другого времени и даже с другой планеты. И, конечно, в шестнадцать-то лет страсть как хотелось быть прогрессивным сепаратистом, а не замшелым коммунистом. Мой мудрый отец еще тогда не одобрял моей активности – но ни эпоха, ни возраст не дали мне его услышать.
Я, наверное, не имею права жаловаться. В 1992 году мой любимый Народный фронт, обещавший всем жителям Латвии гражданство, от своих обещаний отказался. Тремя годами позже Сейм принял закон о гражданстве, по которому на латвийский паспорт мог претендовать только тот, чьи предки жили в Латвии до советской оккупации. Нищая, ободранная страна махом отказалась даже от тех, кто поддерживал ее борьбу за свободу. Отца стали травить на работе – он всю жизнь преподавал на русском, теперь стали требовать, чтобы он преподавал на латышском, а ввиду большой численности русских в Латвии никто из папиных коллег не учил язык настолько глубоко, чтобы на нем читать лекции. Ввели ограничения для неграждан на работу. В течение первых лет независимости меня били более десяти раз, а однажды – прямо во дворе моего дома в старой части города – избили так, что сломали нос, и, если бы не подъехавшая полиция, могли бы и убить. И каждый раз нападению предшествовали недолгие выяснения того, почему же это я так плохо говорю на латышском. И почти никогда не забирали денег.
Примерно в такой обстановке мы дожили до середины 90-х, когда я поехал на работу в Данию, где провел около полугода. Самый главный сюрприз ждал меня по возвращении. Отец, не желавший меня волновать, сообщил мне, что за время моего отсутствия довоенные владельцы нашей квартиры подали в суд, чтобы добиться реституции своей бывшей собственности. Мы обратились к юристу, который сообщил нам, что существует целый ряд препятствий, которые не позволят лишить нас квартиры. Мы на несколько месяцев успокоились – пока однажды к нам не пришли какие-то странные люди в сопровождении человека в форме, не показали некую бумажку и по-латышски не потребовали, чтобы мы убирались из нашей квартиры вон. Выяснилось, что суд, на который нас не вызывали, успел принять решение в пользу прежних владельцев и, более того, срок обжалования этого решения уже вышел. Мы, естественно, указали всей этой компании, куда она должна идти со своей филькиной грамотой. Через три дня к нам пришли судебные приставы, схожие с мордатыми ОМОНовцами. Мы забаррикадировались в квартире. Продержались полчаса, после чего сводный отряд судебных приставов и владельцев выломал дверь, вошел в нашу квартиру и начал выкидывать из окон все, что попадалось под руку.
Внизу нас, помимо обломков мелкой мебели и валяющихся в грязи книг, ждал автобус, с помощью которого нам предлагалось проехать к месту нашего временного проживания и в течение трех суток перевезти прочее имущество. Местом временного проживания оказалась улучшенного типа бытовка, запаркованная на окраине Риги. Через неделю нас обещали переселить в гостиницу, через месяц – в так называемую социальную, то есть государственную квартиру (без права получения ее в собственность). Но мы, неграждане республики Латвия, приняли другое решение: позвонили дальним родственникам в России, оказавшимся необычайно отзывчивыми людьми, очень быстро продали все, что можно было продать, и с двумя чемоданами высадились на перрон Рижского вокзала в Москве.
Я должен сделать одно признание. В 1998 году, после принятия Закона о натурализации, я очень захотел латышский паспорт. Не знаю почему – наверное, хотелось урвать с малой родины хоть шерсти клок. Если раньше гражданство получить было нельзя никак, то после этого закона можно было сдать экзамен по языку и истории, и присягнуть на верность Латвии.
Я приехал в Ригу, остановился у друзей, записался на экзамен. Меня очень быстро срезали на языке, который я, повторюсь, знаю до сих пор неплохо, зарабатываю переводами с него и на него. Мне стало ясно, что ничего не изменилось, и я уехал, переживая острое чувство стыда за свое шкурничество.
Во всей этой истории меня больше всего поражает одна вещь. Латвия считается цивилизованным государством – большинство стран ЕС отменило визы для латышей еще тогда, когда россиян трясли на всех границах будто африканцев. Сейчас у этой страны так и подавно все есть – Шенген, европаспорта, НАТО на границах, живи не хочу. А есть моя семья с ее частной историей, которая больше походит на летопись каких-нибудь палестинских беженцев – и еще много, очень много таких семей, которым не повезло с национальностью, местом и обстоятельствами рождения. И пусть сидящие в Страсбурге или Брюсселе люди дадут себе труд… даже не задуматься, а просто сопоставить рассказанное мною с тем образом маленькой тихой европейской страны, который возникает у них в голове при слове «Латвия».
Записал Алексей Крижевский








