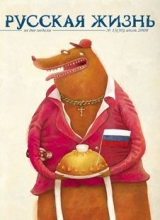
Текст книги "Русская жизнь. Девяностые (июль 2008)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
IX.
В тот же день Нелли Ивановна Белова вернулась домой. К сороковинам сыновья заменили выбитую дверь, а дочь Веры Ивановны Куксовой побелила заново потолок на лестнице, зашпаклевав входные отверстия от пуль. Нелли Ивановна до сих пор носит траур, постоянно плачет и часто вспоминает мужа. О последней ссоре старается не думать, говорит только: «Не надо наши раны тормошить, родненький. Большое горе у нас случилось, и я во всем виновата». Но друзья Владимира Ильича зла на нее не держат, звонят ей, успокаивают. И, конечно, матерят милицию.
«Им же хочется в Рэмбо поиграть, – говорит Григорий Максимович, – а с настоящими террористами бороться – кишка тонка. Что ночью по городу страшно ходить – их не интересует, а пенсионера брать штурмом – это пожалуйста. Даже не извинились, что человека убили. А ведь еще бы день он просидел, элементарно еда бы закончилась – сам бы тихо и спокойно вышел. Он же сразу остыл, это и по разговору с ним было понятно», – и Григорий Максимович рассказывает анекдот про зайца, который спасается бегством от комиссии, кастрирующей тех, у кого три яйца: «они сначала отрезают, а потом считают». «Так и у нас: вначале хоронят, а потом разбираются», – комментирует Князев. «Знаешь что, корреспондент, – добавляет старик. – Мы очень тебя просим – верни Вовке доброе имя. А то его по телеку уже „ставропольским снайпером“ называют, по типу американских маньяков. А мы его с детства знаем, он не маньяк».
Я киваю – не из соображений политеса, а вполне искренне. Ну да, доброе имя. А какое, злое, что ли?
* ВОИНСТВО *
Александр Храмчихин
Принуждение к миру
Миссия российской армии за рубежом
Международные миротворческие операции начали проводиться с 1948 г., сразу после образования ООН. После окончания холодной войны они превратились в своеобразный военный мейнстрим. Начала пропагандироваться мысль, что теперь армии вообще для того и существуют, чтобы «творить мир». Настойчивость, с которой эта мысль внедряется в сознание общественности, камуфлирует как ее сущностную абсурдность, так и провалы попыток ее практического воплощения.
За 60 лет миротворцы ООН успехов не достигли. Видимо, порочным является сам принцип, при котором на осуществление миротворческой операции должно быть получено согласие конфликтующих сторон, причем они должны заявить о готовности оказывать содействие проведению операции. Установленная схема означает, что операция проводится только в том случае, когда участники конфликта сами уже не способны продолжать войну и ищут «приличный» выход из ситуации. Таковым оказывается привлечение войск ООН. Если у сторон вновь возникает желание воевать, то контингент ООН ни в коем случае не является препятствием для этого. Так, миссия «по наблюдению за соблюдением прекращения огня на Ближнем Востоке», размещенная в Ливане, на Синайском полуострове и Голанских высотах после первой арабо-израильской войны, не предотвратила ни одну из последующих войн (1956, 1967, 1973, 1982 годов), дополнительная миссия в Ливане не помешала продолжению гражданской войны в этой стране и многочисленным вторжениям войск Сирии и Израиля на ее территорию. Миссия в Кашмире не помешала Индии и Пакистану вести крупномасштабные войны в 1965 и 1971 гг. и перманентные столкновения в течение всего периода с 1947 г. Миссия ООН на Кипре не предотвратила войну 1974 г. и фактический распад страны. Миссия в Анголе, проводившаяся с 1991 г., была выведена из страны в 1998 г. в связи с возобновлением гражданской войны, которую миссия была призвана предотвратить. Эта война закончилась победой правительственных войск, но «мировое сообщество» тут оказалось совершенно ни при чем.
Неэффективность такого рода операций достаточно очевидна. Реальную пользу, теоретически, могут принести операции по принуждению к миру, т. е. силовое вмешательство в конфликт с целью его прекращения. Первым опытом такой операции формально стала Корейская война 1950-53 годов, когда силы ООН отражали нападение КНДР на Республику Корея. В то время СССР и Китай бойкотировали заседания Совбеза ООН (т. е. Китай ничего не бойкотировал, его место занимал Тайвань, а СССР бойкотировал в поддержку Китая), поэтому США и их союзники провели операцию под флагом ООН. Правда, называть Корейскую войну «миротворческой операцией» как-то не принято. Тем более что она мгновенно стала именно войной, в которой «миротворцы» стремились уже не к установлению мира, а к достижению своих политических целей силовыми методами.
Затем (после осознания советским руководством бессмысленности бойкота) такие операции стали принципиально невозможны из-за непримиримых разногласий между постоянными членами Совбеза. Поэтому следующее «принуждение к миру» случилось только по окончании холодной войны. Под флагом ООН были проведены операция «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта от иракской оккупации (успешно) и операция «Возрождение надежды» по прекращению гражданской войны в Сомали (неудачно, контингент втянулся в войну, понес серьезные потери и вынужден был эвакуироваться).
«Миротворческие» операции в бывшей Югославии проводились уже практически исключительно силами НАТО, которые слегка «разбавлялись» контингентами из других стран, в первую очередь – России. Так, силами IFOR в Боснии и Герцеговине вполне официально руководит командование ОВС НАТО на Южно-Европейском ТВД. После 13 лет «мира» в этой стране по прежнему три правительства и три армии. Миротворческая миссия, начавшаяся в 1995 г., была рассчитана на полтора года, однако продлевалась уже несколько раз. Совершенно очевидно, что если войска уйдут, война немедленно возобновится, причем воевать будут даже мусульмане с хорватами, тем более и те и другие – с сербами. Еще хуже получилось в Косово. Если в Боснии и Герцеговине войска НАТО хотя и преследовали свои интересы, но при этом действительно несли миротворческую функцию, то в случае с Косово имела место откровенная агрессия (никакого согласия ООН на операцию получено не было). При этом совершенно очевидно, что собственные политические интересы для стран НАТО полностью доминируют над задачей установления мира.
В итоге на сегодняшний день единственным эффективным миротворцем является Россия. В этом качестве она себя проявила в «ужасные 90-е», из-за чего ее подвиг остался почти никем не замеченным. Не только «цивилизованным миром», для которого признание российской эффективности означало бы признание провальности его собственного «миротворчества», но и внутренним общественным мнением, для которого все, что происходило в 90-е, стало сплошным провалом, особенно если речь идет о внешнеполитических и военных проблемах.
Россия занималась миротворчеством на территории бывшего СССР (хотя ее подразделения входили и в состав нескольких контингентов ООН в «дальнем зарубежье»). Здесь были проведены четыре миротворческие операции – в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Таджикистане. Во всех случаях это делалось вне рамок ООН, хотя потом эта организация формально подключилась к операциям в Абхазии и Таджикистане. Во всех случаях имело место принуждение к миру, т. е. применялся тот единственный способ, который может дать реальный эффект, а статус «миротворческих сил СНГ» получали российские войска, уже дислоцированные в данных регионах.
Абхазия де-факто вышла из состава Грузии в момент развала СССР осенью 1991 г. В августе 1992 г. грузинская армия начала операцию по восстановлению территориальной целостности государства. Поначалу Абхазия практически не имела вооруженных сил, поэтому грузинские войска, используя вооружения бывшей 10-й мотострелковой дивизии Советской армии, заняли большую часть республики. Однако в целом грузины действовали чрезвычайно неэффективно, абхазам удалось захватить часть их вооружения и техники, еще некоторое ее количество было получено из России и даже из Приднестровья. Уже в октябре 1992 г. абхазы перешли в наступление.
Российские части оказались в обеих частях Абхазии. Например, истребительный авиаполк, оснащенный Су-27, находился на территории, контролируемой абхазами, а воздушно-десантный батальон – в грузинской части республики. После начала абхазского наступления грузинское руководство объявило, что российские войска поддерживают агрессию против Грузии (что было, на самом деле, мягко говоря, неочевидно), после чего российские войска стали подвергаться обстрелам с грузинской стороны. Министерство обороны России отдало приказ в ответ на обстрелы вести огонь на поражение. Вплоть до лета 1993 г. российские и грузинские войска регулярно обменивались артиллерийскими и авиационными ударами, причем российские удары были, конечно, гораздо эффективнее и внесли немалый вклад в поражение Грузии.
Гражданские войны в России и Грузии завершились в один день, 4 октября 1993 г. В Москве президент одержал победу над мятежным Фронтом национального спасения, а в Абхазии грузинские войска были полностью выбиты с территории республики. После этого в Западной Грузии начался мятеж звиадистов, однако он был подавлен к середине декабря при прямой военной поддержке России, высадившей в этом регионе десант морской пехоты Черноморского флота.
Роль России в данном конфликте была весьма неоднозначной. С одной стороны, она помогала абхазам вплоть до прямого участия в боевых действиях. С Северного Кавказа в Абхазию отправились тысячи добровольцев (впрочем, они обошлись без санкции Москвы). С другой стороны, именно Россия обеспечила приход Шеварднадзе к власти в Тбилиси, спасла его в сентябре 1993 г. из осажденного Сухуми и помогла разгромить звиадистов. При этом нельзя не отметить того факта, что реальную помощь абхазам российские войска начали оказывать не до, а после того, как начали подвергаться обстрелам со стороны грузинских войск.
В конечном счете, 23 июня 1994 г. на территории Абхазии появились «миротворческие силы СНГ», т. е. те российские войска, которые и так там находились, – 345-й воздушно-десантный полк. Численность войск составляла около 1,7 тыс. человек, на вооружении имелось около 10 танков, до 130 БМП и БТР, около 20 артиллерийских орудий, 4 вертолета.
Конфликт в другой части Грузии, Южной Осетии, начался в конце 1990 г. К моменту развала СССР здесь уже шла полномасштабная война, в которой осетины получали активную поддержку из Северной Осетии (республики в составе России). Договор о прекращении огня был достигнут в июне 1992 г., при этом были созданы совместные российско-грузино-осетинские миротворческие формирования. В июле 1992 г. на территорию республики был введен парашютно-десантный полк ВДВ РФ, который очень быстро добился прекращения конфликта.
Развал СССР привел и к войне в Приднестровье. Поводом к войне послужило нежелание жителей левого берега Днестра (эта часть Молдавии входила в состав СССР с 1922 г., а не с 1940-го, как остальная республика) объединяться с Румынией (реально никакого объединения, как известно, не произошло). Активные и кровопролитные боевые действия велись с весны 1992 г. и были прекращены уже в июле после прямого вмешательства в конфликт российской 14-й Армии, дислоцированной в Приднестровье. Были созданы трехсторонние российско-молдавско-приднестровские миротворческие силы (по образцу Южной Осетии). К настоящему времени миротворческие силы России здесь составляют два мотострелковых батальона и несколько отдельных подразделений общей численностью примерно 500 человек без тяжелого вооружения. За прошедшие 10 лет отношения между российскими войсками и приднестровскими властями ухудшились (причем этот процесс начался еще в 1993 г. в связи с вмешательством приднестровских «гвардейцев» во внутрироссийский конфликт на стороне антипрезидентских сил). Сейчас основной целью России в Приднестровье является вывод вооружения и техники с огромных складов бывшей Советской армии. Приднестровцы активно сопротивляются этому процессу, рассчитывая захватить хотя бы часть вооружений, что еще больше обостряет их отношения с российской стороной.
Гражданская война в Таджикистане также началась после развала СССР. Толчком к ней послужила «война площадей» (постоянно действующих проправительственного и антиправительственного митингов) в Душанбе весной 1992 г. и быстро привела к расколу страны на более развитый Север и отсталый Юг. С сентября 1993 г. в Таджикистане начали действовать «коалиционные миротворческие силы СНГ», т. е. уже находившаяся в стране 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ, которой формально были приданы формирования из Казахстана, Киргизии и Узбекистана (никакого участия в боевых действиях они не принимали и быстро вывели из Таджикистана свои чисто символические контингенты). Прямое вмешательство в конфликт 201-й дивизии позволило добиться прекращения огня, несмотря на крайнюю сложность операции, когда часто было неясно – кого с кем нужно разъединять, с кем и почему бороться. В 1994 г. начались переговоры между правительством Таджикистана и оппозицией, которые завершились подписанием в Москве 27 июня 1997 г. соглашения об установлении в стране мира и национального согласия. Вооруженные формирования и политические структуры оппозиции интегрировались с официальными. При этом клановая и территориальная разобщенность в стране сохраняется.
Миротворческая операция России в Таджикистане была максимально последовательным воплощением принципа принуждения к миру и оказалась наиболее эффективной, так как привела к прекращению самой кровопролитной из войн на территории бывшего СССР. В настоящее время 201-я мотострелковая дивизия, формально входящая в состав Приволжско-Уральского военного округа и усиленная 323-м штурмовым авиаполком, является гарантом внутреннего мира в стране и обеспечивает его внешнюю безопасность, будучи в несколько раз сильнее ВС Таджикистана. Всего российский контингент в Таджикистане насчитывает примерно 12 тыс. человек, около 200 танков Т-72, более 300 БМП и БТР, более 200 орудий, минометов и РСЗО, несколько штурмовиков Су-25, не менее 20 вертолетов. Значительную часть рядового состава 201-й МСД составляют местные жители, служащие по контракту (зарплата российского контрактника, достаточно ничтожная по нашим меркам, является почти баснословным богатством для граждан Таджикистана). Кроме собственно миротворческих функций российскому контингенту долгое время приходилось решать задачу по охране внешних границ Таджикистана от афганского наркотрафика, а затем и агрессии талибов. По сути, это была защита границ не только собственно Таджикистана, но и всей Центральной Азии, да и самой России, «открытой настежь» с этого направления.
Внешняя угроза для Таджикистана значительно снизилась после начала американской операции в Афганистане в 2001 г. Однако сегодня судьба этой операции в высшей степени неочевидна, поскольку у американцев силы отнимает Ирак, европейцы в принципе не готовы воевать, а талибы живут и здравствуют. Поэтому если судьба российского миротворческого контингента в Грузии представляется достаточно неясной, то в Таджикистане он продержится еще очень долго.
Российские миротворческие контингенты в странах СНГ состояли почти исключительно из десантников, наиболее подготовленной и боеспособной части ВС РФ. Наши миротворцы принципиально отличались от своих ооновских коллег готовностью убивать и умирать. Задачу «принуждения к миру» они понимали вполне буквально, поэтому выполняли ее быстро и успешно. В отличие от них, подавляющее большинство ооновских миротворцев никогда и ни при каких обстоятельствах не проявляло готовности умирать. Это касается даже и воинов из развивающихся стран, а уж про европейцев нечего и говорить. Классическим примером здесь является поведение голландских военнослужащих в Боснии, которые в 1995 г. не сделали ничего для того, чтобы предотвратить резню, устроенную сербами против мусульман в городе Сребренице. Капитан Хенрик ван дер Ваах, служивший в этом голландском батальоне, позже сказал следующее: «Долг офицера заключается в том, чтобы отказаться от неоправданного риска и сохранить жизни подчиненных. У нас не было такого приказа – умирать, спасая мусульман или кого бы то ни было». Вот и все миротворчество.
Можно отметить, что все указанные операции Россия провела в начале 90-х, когда в ней самой внутренняя экономическая и политическая ситуация была исключительно сложной. Статус Российской армии был не вполне понятен не только за пределами, но и внутри собственной страны. Тем не менее армия решила сложнейшую боевую задачу, – предотвратила уничтожение абхазского и южно-осетинского народов, самоуничтожение таджикского народов. Успех миротворческих операций сыграл очень значительную роль в том, что, несмотря на сложнейшие внутренние проблемы, Россия в 90-е сохранила абсолютное доминирование в СНГ, возможность оказывать решающее влияние на внутриполитические процессы в этих странах.
Сейчас, когда Россия «встает с колен», это решающее влияние почему-то утрачено практически полностью, страны СНГ все более уверенно идут своим путем, не оглядываясь на Москву. А наши миротворческие контингенты вроде бы продолжают выполнять свои задачи, но все больше начинают походить на контингенты НАТО в бывшей Югославии. В том смысле, что начинают обслуживать интересы руководства своих стран, на фоне которых задача сохранения мира как-то теряется.
* МЕЩАНСТВО *
Евгения Пищикова
Ширпотреб
Три эпохи накопления
В 89-м году Евгений Гонтмахер, ведущий научный работник Госплана, участвовал в газетной дискуссии «Стыдно ли быть богатым?» Во время спора молодой ученый озвучил Большой Вещевой Набор благополучного советского обывателя -как всем известный, давно сложившийся, не требующий пояснений: «На фоне нашей всеобщей бедности для того, чтобы выделиться, многого и не нужно: достаточно обладать коврами, хрусталем, отдельной квартирой, импортной стенкой, дачей, машиной с гаражом и кое-какой престижной радио– и видеотехникой» («Собеседник», 28 июля 1989 г.). Так оно и было – набор был общеизвестен, давно обсужден, обдуман, оправдан, освистан, принят как данность.
За прошедшие двадцать лет этот список довольства и изменился, и не изменился. Мне показалось важным понять, что поменялось в списке за эти годы, и как именно он менялся. Принято считать, что быт наиболее успешно противостоит любым новым идеям и любым революционным изменениям, потому что по своей природе приватная жизнь бесконечно консервативна.
И, однако, именно быт, налаженный советский быт, в девяностые годы разлетелся в пыль, в прах – потому что мы пережили не столько революцию идей, сколько революцию вещей и отношения к этим вещам.
Предметы в списке, возможно, остались прежними (за исключением мелочей, вещевых предлогов и междометий – хрусталя, видеотехники, стенки), но теперь они, стоя в ровном своем ряду, составляют совсем другое высказывание. Их выпотрошили и набили новым смыслом.
Восьмидесятые
Относительная вещевая стабильность длилась всего-навсего двадцать пять лет – с 60-го по 85-й год. Но то были мирные, ленивые, обывательские годы, и тянулись они неспешно. Не сразу, конечно, сложился набор Гонтмахера, далеко не всем зажиточным советским семьям он достался в полном объеме, и далеко не сразу утвердилось идеологическое обеспечение относительного довольства. До публичного обсуждения уместности честной любви к автомобилю дело, кажется, так и не дошло – так долго спорили о штанах и полированной мебели. Ведь грех какой – сервант с комодом!
В дилогии Любови Воронковой «Старшая сестра» и «Личное счастье», изданной в 1958 году (прекрасное чтение, полное документальных деталей), мы можем застать младенчество будущего общественного спора – иметь или не иметь? Перед нами разворачивается трогательная история комсомолки Зины Стрешневой, столкнувшейся с имущественным искушением.
Зина растет в рабочей семье: «Коврик, вычищенный снегом, ярко пестреет голубыми и красными цветами. Полотняные чехлы на диванных подушках, выстиранные и проглаженные, сияют свежестью. Большая полотняная скатерть, с тугими складками на сгибах, лежит на столе, словно впервые выпавший снег. Зелены и свежи цветы на окнах. В комнате тепло. Из-под большого желтого абажура лампы проливается на стол широкий круг света. Зина взглянула на стол и сразу увидела, кто чем был занят. На одном краю лежат тетради и букварь – Антон делает уроки. Чуть подальше – красный клубок шерсти с начатым вязаньем: мама вязала теплые носки Изюмке. На другом краю стола – раскрытая книга, общая тетрадь и в ней карандаш: папа готовился к политзанятиям». Это добрый, хороший, теплый мир. Зина, «вальцовщикина дочка», любит свою комнату, приучена уважать соседей, встает в школу по заводскому гудку. Но есть и другой мир – с ним она сталкивается, зайдя за нерадивой подружкой, дочерью инженера Белокурова (красота фамилии сразу настораживает): «Зина незаметно приглядывалась к окружающему. Какие богатые вещи! Ковер, на круглом столике бархатная скатерть, на резной полочке хрустальная ваза, в ней цветущая вишня, сделанная из розового шелка… На окне, среди цветов, аквариум с одиноко плавающей золотой рыбкой».
Супруга инженера Антонина Андроновна гордится достигнутым (она, разумеется, отрицательный персонаж, советская мещанка): «Кто такая я была? Простой диспетчер. Жила бедно, в какой-то комнатушке. А теперь? Отдельная квартира, ковры, машина, домашняя работница. Есть чему поучиться?»
Учиться, конечно, нечему. Красота – красотой, но богатая вещь несет в себе грех, опасность. Зина борется с собой и побеждает себя.
Ближе к добродетельному финалу дилогии она посещает ГУМ и, радуясь изобилию и красоте увиденного («Из-за широких витрин разливались сияющими потоками шелка, манили пестротой свежих красок ситцы, штапели, маркизеты, кокетливо выставляли узкие носы светлые туфельки, облаками нейлона и капрона дымилось розовое и голубое дамское белье»), все же решает, что эти вещи ей ни к чему. «Разве я могла бы одеть эту пышную прозрачную ночную рубашку? А занавески у нас еще хорошие, к тому же их сшила из полотна мама. Неужели же она, Зина, снимет мамины скромные красивые полотняные шторы и повесит какой-то дрянной тюль?»
Нет, никогда! В вещевой иерархии 1958 года одно из первейших мест занимает мануфактура. То же самое, между прочим, происходит и нынче – огромное, знаете ли, значение в убранстве квартир приобрели разнообразные воланы, оборки и складки. Мануфактура вернулась! Занавески, они же шторы, они же гардины, они же портьеры (вернее, их возвращенная ценность) – одна из главных вещевых новинок двухтысячных. Что бы это значило на языке вещей? Мы хотим занавеситься, скрыться? Спрятаться? Ну, это скорее бы подошло к нашим девяностым, и пришли бы преуютнейшие занавеси вместе с железной дверью. Нет, тут другое. В Москве (да, собственно, и в любом российском городе) нет такого товарного понятия – вид из окна. Купить «вид из окна» не всегда могут даже богатеюшки, потому как и дорогие дома строятся Бог знает где – и у Третьего кольца, и возле транспортных развязок, и на пустырях, и на заводских задах. И покупают эти квартиры люди, для которых Москва – поле боя, а вовсе не милое обжитое местечко. В квартире – полноценная сказка, блестящий пол, сверкающие анфиладные дали, а за окном нелюбые, страшные дома, машины гудят, холодом несет от МКАДа. Занавесить вид! Не спрятаться самим, а спрятать постылый город. Но это мы как-то перескочили через тридцать лет, и тянет вернуться обратно, в милое, теплое, ханжеское время. Итак, если в 58-м к «богатым» вещам следует однозначно относиться с опаской, то в семидесятые годы речь идет уже не об абсолютной греховности домашней красоты, а о вкусе. Мещанство не в обладании, а в неправильном обладании!
Сборник газетных статей «Мир в доме» («Известия», 1972 год) открывается репортажем. Журналист и художник-дизайнер (преподаватель художественно-промышленного училища им. Строганова) провели акцию – прошли по квартирам целого подъезда в новостройке. Цель – посмотреть, как обставлены квартиры. Нашелся материал для некоторого морализаторства. Мебель во всех квартирах слишком уж одинаковая, вся – полированная. Комнаты, заставленные «гарнитурами», предназначены для вещей, а не для детей и людей. Нехорошо расставлять безделушки на книжных полках – книги сами по себе значительная и важная часть интерьера. Ковры на стенах – немного старомодно… Ведь счастливым обладателям нового жилья с центральным отоплением не надо думать о сбережении тепла! А одна хозяйка повесила парчовые занавески на кухне. Позор ей! Вывод – есть еще недоработки по части эстетического воспитания советского человека. И есть недоработки у нашей легкой промышленности! Самое интересное – журналистов во время их адского набега на приватное пространство не пустили только в одну квартиру. И то хозяйка долго извинялась и в итоге объяснилась: «Бедно у нас… Даже холодильника нет…»
Как не понять печаль застенчивой женщины. Самыми главными предметами в любой добропорядочной квартире многие годы были Телевизор и Холодильник. Это отец и мать всех вещей в доме, и они находились между собой в некотором идеологическом споре. Сначала в соревновании важным было первенство («Вот встанут на ноги наши молодожены, купят сперва телевизор, а потом и холодильник…»), затем, уже в восьмидесятые, основное значение приобрели количественные показатели. Согласитесь, если в одной семье три телевизора и один холодильник, а в другой – три холодильника и один телевизор, то семьи эти имеют прямо-таки полярные жизненные философии. Телевизор – символ светскости, но и общинности; готовности семьи к новой информации и новым впечатлениям, но и согласия строить свой уклад и домашние ритуалы вслед за Программой. А холодильник – символ замкнутости, закрытости. Абсолютное вещевое воплощение отгородившейся от государства семьи – это закрытый холодильник, набитый «закрытыми» на зиму банками с собственными продуктовыми запасами.
Положение этих великих вещей в доме тоже показательно. Телевизор стоит на видном месте – и это обстоятельство даром для него пройти не могло. В течение тридцати лет всякий уходящий из семьи муж оставлял ключи на телевизоре – как бы передоверяя ему свои функции руководства домочадцами. Оставлял на видном месте! Рядом со всеми прочими домашними сокровищами, стоящими на телевизорной крышке – шкатулкой с «золотом», вазой, часами.
А вот русский холодильник – всегда был гол как сокол. Снаружи, разумеется. Обратите внимание, насколько печальна прокатная судьба большинства сериалов, снимающихся по западным лицензиям – в силу некоторых обязательств перед владельцами копирайта, телевизионщики вынуждены выстраивать домашние интерьеры будто бы типичной российской семьи в атлантическом стиле. Диван посреди комнаты, на холодильнике – ворох записок, пришпиленных магнитами. Маленькое несовпадение с житейской правдой, бывает, рушит всю задушевную атмосферу ситкома. Русский обыватель диван на юру не ставит и ерунды на холодильнике не пишет. Он любит, чтобы все было по правилам. Если в банке лежат шпроты, то на банке и написано – «Шпроты». А если в холодильнике лежит колбаса и огурцы, то почему на нем должна висеть записка: «Доброе утро, любимая»? Никакой любимой там пока что нет.
Так год за годом складывались отношения главных вещей дома, и складывался статусный набор благополучного обывателя. Основу его составляли вечные вещи.
Советский человек верил в долгую жизнь вещи, в то, что она долговечнее хозяина и предназначена хранить память о нем. Срок жизни советского статусного предмета – 25-30 лет. Качество предмета при этом не обсуждалось. Об этом много писали, и мне не хочется повторять давно обдуманное – действительно, машина была просто машиной (не важно какой), телевизор – просто телевизором. Это высшая степень телесно-духовного обладания вещью – с таким безусловным доверием, с такой верностью относятся к сокровищу, драгоценности, реликвии.
И вот такими-то расслабленными, с ленивыми улыбками на устах, мы вывалились в девяностые годы.








