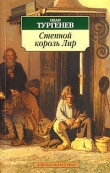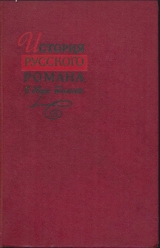
Текст книги "История русского романа. Том 2"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
То, что в первой части романа действие в собственном смысле слова почти завершено и в дальнейшем основной интерес романа сосредоточен не на самом действии, а на его необходимых последствиях и психологических результатах, придает композиции «Преступления и наказания» аналитический характер, сближающий ее с композицией таких трагедий, как «Царь Эдип» Софокла и «Макбет» Шекспира. Однако драматически концентрированное построение фабулы сочетается в «Преступлении и наказании» с таким разнообразным и в то же время детальным изображением и анализом внешнего мира, с таким обстоятельным развертыванием движения внутренней жизни героев, которые невозможны в драме и допускаются только более свободной и емкой формой романа.
В первых двух главах романа Достоевский описывает посещение Раскольниковым старухи – процентщицы, представляющее собой «репетицию» будущего преступления, и встречу героя в трактире с Мармеладовым. Разговор с Мармеладовым раскрывает перед читателем жуткую картину жизни окружающего героя столичного «дна» и освещает те социальные и морально – этические вопросы, вокруг которых лихорадочно вращается мысль Раскольникова.
Остальные пять глав первой части Достоевский посвящает детальному описанию переживаний Раскольникова в день преступления. Рассказ об этом роковом дне начинается с утра и ведется последовательно до момента, когда после убийства Раскольников, духовно и физически опустошенный, возвращается в свою каморку и погружается в забытье, еще не отдавая себе отчета в реальных последствиях убийства ростовщицы. В описание этого дня Достоевский вводит ряд самостоятельных эпизодов, которые, как может показаться читателю с первого взгляда, задерживают развитие действия, уводя мысли героя в сторону от задуманного убийства, но которые в действительности движут действие впе ред, способствуя окончательному созреванию решения Раскольникова. Таковы письмо матери, встреча на бульваре с франтом, преследующим пьяную девочку, и, наконец, сон Раскольникова, раскрывающий картину детства героя и тех первых впечатлений, которые он вынес пз столкновения с окружающим миром. Каждый из этих эпизодов многозначен, несет в себе несколько смысловых оттенков. Так, письмо матери освещает перед Раскольниковым новый аспект «подлости» того несправедливого мира, которым вызваны мучения самого героя; по письмо это наносит и страшный удар его самолюбию, так как в проекте брака сестры с Лужиным Раскольников угадывает жертву, приносимую матерью и сестрой во имя его благополучия. Но письмо это несет и другие функции: оно дает читателю первое представление о характерах Пульхе– рии Александровны Раскольниковой и Дупи, вводит в роман новые имена – Лужина, Свидригайлова – и этим подготовляет дальнейшее развитие действия. Кроме того, оно устанавливает параллель между судьбой Дуни и Сони Мармеладовой – также еще неизвестного читателю персонажа, судьба которого, однако, под влиянием рассказа Мармеладова уже приобрела в сознании Раскольникова символический смысл, стала своего рода обобщением мрачной судьбы страдающего и угнетенного человека. Так же многозначен сон Раскольникова. Это картина реальной русской провинции, сгусток тех мрачных впечатлений, которые накопились у героя в дни его детства, но вместе с тем и символическое обобщение социальных и нравственных мучений окружающих людей, выражение душевных страданий самого героя перед совершением убийства. Кроме этих эпизодов, играющих важную роль в созревании внутренней решимости Раскольникова, Достоевский вводит ряд других отступлений, постепенно освещающих для читателя тот темный для него вначале ход мысли героя, который привел Раскольникова к его «идее».
Посвятив первую часть романа психологической предыстории преступления и описанию самого убийства, Достоевский остальные пять частей романа (более четырех пятых общего его объема) посвящает нравственным переживаниям героя после совершения преступления.
Раскольников тщательно обдумал свое преступление и, как ему представлялось, наперед учел все важнейшие обстоятельства и необходимые последствия. Одиако уже в самый момент убийства обнаружилось трагическое расхождение между «арифметикой» Раскольникова, его отвлеченными логическими построениями, и действительной жизнью (V, 52). Раскольников рассчитал, как ему казалось, наперед все, вплоть до мелочей, но он не принял во внимание самого главного – того, что живая жизнь всегда «хитрее», чем предварительные расчеты, и что сам он – человек пз крови и плоти, а не машина, способная равнодушно и бесстрастно выполнять любые действия, для которых она предназначена. В момент убийства Раскольников забывает закрыть входную дверь. Вместо одной Алены Ивановны он должен убить и ее сестру Лизавету, вернувшуюся домой и заставшую его на месте преступления. От волнения и страха Раскольников не в состоянии открыть комод, где хранятся крупные деньги и банковые билеты, и ему удается захватить с собой лишь кошелек убитой процентщицы и драгоценности, находившиеся у нее в закладе. Задержавшись в квартире ростовщицы, он застигнут ее клиентами и ускользает от них, лишь воспользовавшись случайностью, впервые пережив мучительное чувство страха, которое будет с этого времени постоянно тревожить его снова и снова.
Обнаружившееся уже в первой части, в сцене убийства, трагическое расхождение между «арифметикой» Раскольникова и жизнью углубляется в следующих частях романа. Визит Лужина, возобновление прежнего знакомства с Разумихиным, отношения, завязавшиеся у Раскольникова с семейством Мармеладовых, приезд матери и сестры, появление Свидри– гайлова – все эти новые события, одно за другим внезапно вторгающиеся в жизнь Раскольникова, неожиданно производят в нем полный переворот. Если до преступления Раскольников чувствовал себя в своей норе отрезанным от всего мира, то теперь жизнь непрерывно сталкивает его с людьми, напоминает о его общественных, человеческих связях. Вырванный почти насильственно из своего одиночества и брошенный в гущу сталкивающихся человеческих интересов и страстей, Раскольников теперь тем более остро переживает последствия своего преступления. Именно благодаря тому, что он оказывается вовлеченным в сферу разнообразных человеческих интересов и отношений, он осознает, что своим преступлением разорвал нормальные связи с обществом, с другими людьми, поставил себя вне их круга и тем самым обрек на мучительное одиночество и укоры совести.
Борьба Раскольникова с полицией и следователем Порфирием Петровичем не получает в романе самодовлеющего сюжетного значения. Она сплетается в единый узел с той нравственной борьбой, которая началась в душе Раскольникова еще до того, как он навлек подозрения полиции, своеобразно осложняет и ускоряет процесс его нравственного пробуждения и отрезвления. Аналогичную роль играют в развитии сюжета «Преступления и наказания» столкновения героя с такими важнейшими в идейно – эстетическом отношении персонажами, как Лужин и Свидри– гайлов.
Как ни велико то место, которое занимает образ Раскольникова в «Преступлении и наказании», роман не стал только «психологическим отчетом» о преступлении Раскольникова (как это представлялось автору, когда произведение было лишь задумано). Раскольников с его переживаниями изображен Достоевским как часть внешнего мира, он окружен людьми и обстановкой, вне которых его преступление получило бы иной смысл, чем оно имеет в действительности. Лишь соотнесение «идеи» Раскольникова и его поступков с внешним миром, с идеями и поведением других персонажей позволяет Достоевскому раскрыть социальный и моральный смысл трагедии Раскольникова.
Достоевский группирует главных персонажей романа на основе своеобразного социально – психологического параллелизма. Он окружает каждого из героев образами, которые могут быть с ним сближены одними своими чертами и в то же время контрастируют с ним другими. В результате такой композиции один образ в романе Достоевского как бы комментирует другой, служит своеобразным «проявителем», с помощью которого раскрываются скрытые черты и возможности, заключенные в этом персонаже.
Одна и та же ситуация, один и тот же (или психологически родственный) характер даются Достоевским в нескольких различных «отражениях», каждое из которых углубляет изображение данного характера и ситуации, с одной стороны, подчеркивая их общественную типичность, а с другой – указывая на те различные с социальной и индивидуальной точки зрения формы, в которых выступают в общественной жизни близкие (или родственные друг другу) явления.
Так, судьбы девочки на бульваре, Сони Мармеладовой, Дуни уже в первой части сближаются в сознании Раскольникова как выражепие одних и тех же социальных и нравственных проблем. Но жертва Сопи приобретает для Раскольникова символическое значение не только как обобщение страшной судьбы женщины, которой угрожают брак по расчету с нелюбимым человеком, насилие или проституция. Судьбу Сони Раскольников сближает со своей собственной судьбой, в ее поведении и отношении к жизни он начинает искать решение своих собственных жизненных вопросов. Благодаря этому в романе устанавливается параллелизм не только между Соней и Дуней или Полечкой, но и между Соней и самим героем, между Раскольниковым и Мармеладовым, Лужиным, Свидригайловым, между Соней, Лизаветой и маляром Миколкой и т. д.
Ощущая глубокое отчаяние и беспокойство, терзаясь сомнением, испытывая страх, ненависть к своим преследователям, ужас перед совершенным и неисправимым поступком, Раскольников еще более внимательно, чем прежде, приглядывается к другим людям, сопоставляет свою судьбу с их судьбой, ищет в их жизни решения вопросов своего собственного существования. Каждый человек, появившийся на страницах романа, входит в него поэтому под двойным знаком. Он является не только новым, вполне самостоятельным характером, но и новой гранью в раскрытии той основной социально – психологической проблематики романа, которая с наибольшей силой выражена в образе Раскольникова. Имея свой собственный художественный смысл, каждый из характеров, изображенных в романе, в то же время оттеняет, углубляет и проясняет образ главного героя.
Буржуазный делец – приобретатель Лужин высказывает в разговоре с Раскольниковым мысли, из которых следует, что «идея» Раскольникова и совершенное им убийство прекрасно гармонируют с принципами плоско утилитарной буржуазной морали, подчиняющей нравственность узко эгоистическим и корыстным личным интересам. Опустившийся, циничный и в то же время сам страдающий от своей распущенности помещик Свидригайлов, не признающий никакой нравственной узды, гово|рит Раскольникову, что оба они «одного поля ягоды» (V, 235). Наоборот, униженная и поруганная миром Лужиных и Свидригайловых Соня с глубоким ужасом узнает о преступлении, совершенном Раскольниковым. И в то же время, узнав его роковую тайну, она не отворачивается от убийцы, а старается своей любовью и человеческим участием облегчить его нравственную пытку, помочь ему победить самого себя. Так устанавливается родство анархической «идеи» Раскольникова с настроениями и идеями господствующих классов, выясняется чуждость ее тому миру простых людей, от лица которого выступает Соня. Не сумев еще до конца победить себя, Раскольников по совету Порфирия добровольно признается в совершенном преступлении и идет на каторгу, где окончательно отрекается от своей «идеи».
7
Изображая в «Преступлении и наказании» трагедию Раскольникова, Достоевский колеблется в понимании его судьбы и общественных истоков его преступления. Реалистически показывая связь «идеи» Раскольникова с его духовным одиночеством и оторванностью от народа, Достоевский в то же время связывает эту «идею» с настроениями передового революционного лагеря и демократической молодежи 60–х годов. Эта тенденция, получившая отражение во многих эпизодах романа, вызвала еще при его выходе в свет протесты Г. 3. Елисеева, Д. И. Писарева и других представителей тогдашней демократической критики, справедливо утверждавших, что «идея» Раскольникова не имеет никаких точек соприкосновения с идеями революционного лагеря 60–х годов, представляет собой полную их противоположность.
Однако, отвергая реакционную тенденцию автора «Преступления и наказания», уже Писарев был далек от того, чтобы свести к ней все содержание романа Достоевского. Противоречивость общественного мировоззрения Достоевского, его стремление доказать, что преступление и духовный крах Раскольникова будто бы связаны с влиянием передовых общественных теорий и настроений революционной молодежи 60–х годов, не помешали Писареву оценить обличительную силу «Преступления и наказания».
Утверждая, что преступление Раскольникова и его идея о праве избранной личности на преступление будто бы вытекает из настроений передового общественного лагеря, Достоевский невольно попадает в романе в заколдованный круг. Писатель сам остается трагически замкнутым в пределах той ложной дилеммы, которую решает в романе его герой. Достоевский полагает, что из положения, в котором находится Раскольников, для мыслящего человека возможны лишь два пути: либо анархически своевольное, индивидуалистическое бунтарство, либо отказ от бунта и смиренное (религиозное приятие существующего несправедливого порядка вещей, несмотря на невозможность внутренне с ним примириться. Первый из этих путей, по которому идет в романе Раскольников, ведет к отрыву от народа и к духовному краху, второй, которому учит своей судьбой героиня романа Сопя Мармеладова, представляется Достоевскому путем, воплощающим подлинные идеалы народа. Того же пути, по которому шли революционеры 60–х годов, стремившиеся освободить народные массы от анархического бунтарста и своеволия, для того чтобы поднять их на сознательную и организованную революционную борьбу, Достоевский не признает, хотя именно этот путь только и мог привести исторически к подлинному освобождению народных масс.
Неверие Достоевского в революционные идеалы его эпохи, его враждебное отношение к освободительному движению, которое он смешивал с индивидуалистическим, анархическим бунтарством, вели его к проповеди смирения, к утверждению идеи об очистительной силе страдания, к призывам отказаться от ложной «гордыни» ума и склониться перед неисповедимыми путями промысла. Однако реакционные религиозные идеи Достоевского, нашедшие свое отражение в образе Сони Мармеладовой, в окраске многих эпизодов и в особенности в эпилоге «Преступления и наказания» (рассказывающем о религиозном «обращении» атеиста Раскольникова), не могли заглушить гораздо более мощной обличительной силы романа, вызывающего гнев и возмущение и призывающего читателя – вопреки религиозным идеалам Достоевского – не к смирению, а к протесту против социальной несправедливости и классового угнетения.
Слова Раскольникова, полные ненависти к торжествующим «хозяевам жизни», – слова, с помощью которых он в разговоре с Соней пытается оправдать свое преступление («Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Вот они снуют все по улице взад и вперед, и, ведь, всякий‑то из них подлец и разбойник уже по натуре своей, хуже того, идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования», (V, 343, 424), находят глубокое подтверждение на страницах романа. Как отметила Роза Люксембург, «Преступление и наказание» обнажает всю глубокую ненормальность общества, в котором честный и одаренный молодой человек становится убийцей, – общества, стихийно толкающего человека на преступление, порождающего в головах людей ложные, антиобщественные теории, подобные «идее» Раскольникова. [286]286
Р. Люксембург. О литературе. Гослитиздат, М., 1961, стр. 140–141.
[Закрыть]
Достоевский раскрывает в «Преступлении и наказании» социальные причины проституции, горячо и страстно выступает против тех невыносимых условий жизни, которые освещают рассказ Мармеладова, история Сони, эпизоды, повествующие о Катерине Ивановне и ее детях, широко развернутые в романе описания Сенной и прилегающего к ней района, занятого публичными домами и другими «заведениями». Изображение невыносимых условий жизни демократического населения города, пронизанное болью и возмущением, страстной протестующей мыслью, делает «Преступление и наказание» одним из самых выдающихся реалистических социальных романов русской и мировой литературы.
Достоевский горячо восстает в «Преступлении и наказании» против представления о том, что преступления, нищета, проституция – вечные, неизбежные явления жизни. Всей логикой своего романа Достоевский доказывает, что преступления не являются результатом «злой воли» преступника, но что они обусловлены нуждой, голодом и страданиями, одиночеством и растерянностью человеческой личности, глубоко ненормальными условиями общественной жизни.
8
Тема преступления играла очень большую роль и в «готическом» романе конца XVIII – начала XIX века, и в реалистическом романе 30–40–х годов, и в социально – авантюрном романе Э. Сю. Однако каждый из этих трех типов западноевропейского романа, известных Достоевскому, трактовал эту тему по – своему.
В «готическом» романе – «Монахе» Льюиса, «Мельмоте – скитальце» Мэтьвдрена, «Эликсире сатаны» Гофмана – борьба противоположных начал в душе преступника – индивидуалиста рассматривается как непосредственное проявление борьбы потусторонних сил – «неба» и «ада». Отсюда мистический колорит этих романов, отсутствие еще в них трезвого реалистического подхода к изображению человеческой психологии. В романах Бальзака– «Отце Горио», «Блеске и нищете куртизанок», «Темном деле» – с преступления снят всякий мистический покров, и оно предстает перед читателем как одно из «нормальных», ежедневных проявлений всеобщих законов буржуазной жизни. В романах Э. Сю и П. Феваля в противовес этому преступление снова, как в «готическом» романе, окружено атмосферой ужаса и тайны, но ужас этот у читателя рождает не действие «демонических» сил, а условные, романтические контрасты света и тени и авантюрная занимательность фабулы.
Достоевский был хорошо знаком с произведениями Э. Сю, П. Феваля и вообще тех современных ему западноевропейских романистов, которые стремились в своих романах сочетать изображение картин социального «дна» с чисто авантюрной занимательностью («сказочностью», по характеристике Белинского). Однако в отличие от В. Крестовского и других русских подражателей французского романа – фельетона Достоевский в своих романах никогда не смотрел на тематику, связанную с изображением преступления, как на средство для создания авантюрно – занимательной фабулы. Он навсегда сохранил верность идее Белинского о противоположности между подлинно реалистическим социальным романом и авантюрным романом в духе Э. Сю, этой «Шехерезадой» XIX столетия. [287]287
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР., М. —Л., 1955, стр. 168.
[Закрыть]
Со времени своего пребывания на каторге, где жизнь столкнула его не только с политическими, но и с уголовными преступниками, Достоевский постоянно обращался к проблеме преступления, потому что проблема эта связывалась в его сознании с важнейшими социальными и нравственными вопросами русской жизни его эпохи. Интерес этот еще больше усилился в 60–е годы, так как неизбежным следствием ломки крепостнического уклада и развития капитализма в пореформенную эпоху были рост числа преступлений, усложнение их социальных причин и психологических мотивов. В связи с этим в 60–е годы в России возникает обширная литература в области уголовного права, судебной психиатрии, криминалистики в широком смысле слова. После судебной реформы 1864 года появляется ряд специальных судебных периодических изданий, газеты начинают из номера в номер уделять место уголовной хронике. Лишь на этом историческом фоне может быть правильно понята роль, которую играет тема преступления в романах Достоевского.
Достоевский рассматривает преступление как наиболее острую, открытую форму обнаружения тех социально – психологических противоречий и конфликтов, которые в более приглушенном и скрытом виде характеризуют «нормальную», будничную жизнь дворянского и буржуазного общества его эпохи, находившуюся в состоянии острой ломки и кризиса. Преступление, по мысли Достоевского, не опрокидывает обычные, освященные законом, вечные нормы жизни общественных верхов. Оно является обнажением тех разрушительных, антиобщественных идей и стремлений, которые лишь прикрыты оболочкой традиционной морали и законности, но под этой оболочкой прочно и неистребимо живут в сознании множества людей, неизбежно порождаются ежедневными условиями жизни дворянского и буржуазного мира.
Поэтому преступление в изображении Достоевского приобретает черты явления, хотя и «исключительного», но и в самой своей исключительности общественно – типичного. Именно так подходит Достоевский к изображению убийства, совершенного Раскольниковым. Преступление Раскольникова рассматривается романистом как выражение – в своеобразной, индивидуально окрашенной и модифицированной форме – социального и морально – психологического кризиса, переживаемого не одним Раскольниковым, но множеством людей, хотя и осмысляемого каждым из них по – своему. Именно эта типичность настроений Раскольникова (и самого его преступления) побудила Достоевского сделать его центральным персонажем романа, в котором писатель собирался, по собственному признанию, «перерыть все вопросы».
В противоположность авторам «готических» романов Достоевский освобождает изображение преступления от условно романтической, мистической окраски. Он освещает ярким факелом самую душу преступника, стремится проследить весь тот сложный и извилистый путь, который привел его к преступлению. В изображении автора «Преступления и наказания» герой предстает перед читателем не как воплощение потусторонних, «демонических» сил (как это имело место при изображении героев – инди– видуалистов у романтиков), а как вполне самостоятельный человеческий характер. Он действует не под влиянием борьбы «неба» и «ада», а под влиянием реальных, человеческих побуждений. Правда, сам Раскольников временами стремится объяснить свои действия вмешательством потусторонних сил («меня черт тащил», – V, 341), но это объяснение отражает субъективное эмоциональное состояние героя и не вступает в конфликт с объективным психологическим анализом его преступления, развернутым на страницах романа.
Роман «Преступление и наказание» был воспринят уже современниками как один из величайших психологических романов мировой литературы, а за Достоевским со времени выхода в свет этого произведения прочно утвердилась слава писателя – психолога.
Тот пристальный и тонкий психологический анализ, зарождение которого можно было наблюдать уже в «маленьких» романах Достоевского 40–х годов, в «Бедных людях» и «Неточке Незвановой», получил в «Преступлении и наказании» более полное и глубокое развитие. В отличие от романистов предшествующего периода Достоевский, так же как и Тол стой, не ограничивается изображением общих контуров душевных процессов, их начального и конечного этапов, а стремится с наибольшей возможной полнотой показать самое течение мыслей и чувств героев, изобилующее неожиданными и сложными поворотами, богатое причудливыми сцеплениями и ассоциациями идей, нередко происходящее в пределах одного и того же замкнутого круга и вместо искомого выхода приводящее в конце концов мысль обратно к ее исходному пункту.
В эпоху Достоевского и Толстого усиленный интерес к проблемам психологии был свойствен не только литературе и искусству. Это было время, когда отвлеченные схемы идеалистической «философии духа» успели утратить свое влияние и на смену им пришла новая психологическая наука, основанная на наблюдении и эксперименте, нередко материалистическая по своему характеру. В один год с «Преступлением и наказанием» вышли «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова – книга, которая была прочитана Достоевским и имелась в его библиотеке, так же как некоторые другие медицинские и психологические труды 60–х годов. [288]288
См.: Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. ГИЗ, М. – Пгр, 1922, стр. 45–48.
[Закрыть]В самом «Преступлении и наказании» упоминается статья немецкого физиолога Пидерита, посвященная анализу механизма психологических процессов в свете данных физиологии (V, 326).
Достоевский не сочувствовал материалистическим тенденциям современной ему физиологии и психологии. Но он интересовался их методами и научными результатами и сам нередко сопоставлял свои наблюдения с наблюдениями, сделанными психологами и психиатрами, исследования которых попадали в поле его зрения. Тот метод пристального, почти научного по своей точности психологического анализа, которым пользовался Достоевский и который был воспринят Н. К. Михайловским как нечто родственное «жестокости» естествоиспытателя, не мог возникнуть вне атмосферы бурного развития естественных наук, широкого распространения методов научного и психологического эксперимента, что характерно для второй половины XIX века, в особенности для 60–х годов.
Говоря об искусстве Достоевского – психолога, так ярко и полно развернувшемся в «Преступлении и наказании», невозможно не коснуться различия между психологическим анализом Достоевского и Толстого. Толстого интересует в его романах прежде всего психология глубокого «нормального» – с точки зрения своих идеалов и требований к обществу– человека. Герои Толстого – Пьер Безухов, Левин или Анна Каренина – переживают разлад с обществом, но самый разлад этот вызван тем, что общество не удовлетворяет их вполне разумным и естественным требованиям, которые совпадают с требованиями каждого нравственно здорового, не испорченного обществом человека. Иначе обстоит дело у Достоевского. В центре внимания Достоевского обычно стоят люди, которые не только находятся в разладе с обществом, но и сами несут в себе его болезнь, и притом отражают ее в особенно яркой и выпуклой форме, граничащей, по выражению самого писателя, с «исключительностью» и «фантастичностью». Именно в этом особенность психологии Раскольникова, Свидригайлова и последующих центральных персонажей романов Достоевского.
Герои Достоевского, переживая разлад с окружающим обществом, в то же время сами несут в себе груз порожденных им ложных идей и иллюзий. Яд буржуазного индивидуализма и анархизма проник в их сознание, отравил их кровь, поэтому‑то самым страшным их врагом являются они сами, как можно видеть на примере Раскольникова. Болезнь и разорванность общества порождают в них столь же больное и разо рванное сознание, в котором окружающие люди и предметы приобретают зловещую, фантастическую окраску.
Таким образом, в отличие от Толстого – психолога в центре внимания Достоевского стоит не нормальная и здоровая, а потрясенная, разорванная и больная психика, его привлекает по преимуществу анализ таких ложных форм сознания и болезненных переживаний, порожденных современной ему общественной жизнью, которые нередко принимают патологический характер (или граничат с патологией).
Следует, однако, иметь в виду, что Достоевского, как правило, всегда интересует именно общественная патология, анализ таких болезненных психологических явлений, которые, по мысли писателя, отражают социальные болезни эпохи и порожденный ими кризис общественной и личной морали. Поэтому неправилен распространенный среди некоторых буржуазных ученых, получивший хождение еще при жизни Достоевского, взгляд на него как на художника – психопатолога, герои которого подлежат суду не столько с общественной, сколько с медицинской, клинически-психиатрической точки зрения.
В отличие от французских писателей – натуралистов, от молодого Золя и Гонкуров, которые, разделяя взгляды естествоиспытателей – позитивистов своего времени, смотрели на человека не как на общественное, а как на биологическое существо, сознательно ставили в своих романах цель клинически точно изобразить историю развития душевного заболевания, Достоевский ни в «Преступлении и наказании», ни в позднейших романах никогда не ограничивался постановкой подобных задач, чуждых, как показал еще Белинский, задачам подлинно большой реалистической литературы. Моральная раздвоенность и патологические душевные состояния интересовали Достоевского как выражение общественной патологии, как показатели социального и морального расстройства общества, отражающегося в душе отдельного человека.
Именно таково освещение психологии Раскольникова в «Преступлении и наказании». Раскольников отнюдь не действует – как нередко утверждали буржуазные критики и историки литературы – под влиянием своего рода гипнотического внушения, он вполне отдает себе отчет в своих поступках и в своей нравственной ответственности за них. Недаром в эпилоге романа Достоевский иронически отзывается о «модной теории временного умопомешательства, которую так часто стараются применить в наше время к иным преступникам» (V, 435), отводя наперед возможность применения этой «модной теории» к его герою. Не одни лишь особенности натуры и личной психологии Раскольникова, но и идеи, возникшие в его мозгу под влиянием окружающей общественной жизни, представляющие своеобразную, ложную форму сознания, стихийно порождаемую жизнью у целой категории людей, разных по своему психологическому складу (как, например, Раскольников и Свидригайлов), – таков в романе источник преступления Раскольникова. Таким образом, психология героя в изображении Достоевского остается всегда в конечном счете детерминированной общественной жизнью, в какой бы сложной, подчас мистифицированной форме ни выступала при этом связь между общественной обстановкой и ее отражением в мозгу героя.
Со взглядом Достоевского на преступление не как на отвлеченное проявление борьбы «небесных» и «адских» сил, но как на результат внутренней, психологической борьбы в душе преступника, отражающей глубокое неблагополучие общественной жизни, тесно связана философская проблематика «Преступления и наказания».
В то время как в обычном авантюрно – уголовном (в том числе детективном) романе в центре внимания автора находится борьба преступника и тех, кто стремится раскрыть его преступление, выступая в качестве орудия законности (полиции или сыщика), в «Преступлении и наказании» борьба преступника и уголовного закона имеет лишь второстепенное значение. Главное место здесь занимает не борьба Раскольникова и представителя официальной законности – следователя Порфирия Петровича, а внутренняя, морально – психологическая борьба, происходящая в душе самого Раскольникова. Это обусловлено тем, что в отличие от авантюрного романа в романе Достоевского герой совершает преступление как против юридических законов окружающего его общества, так и – прежде всего – против того высшего закона, носителями которого являются для Достоевского люди из народной среды и который начертан вечными, неизгладимыми знаками в душе самого героя. Убивая старуху – процент– щицу, он совершает двойное преступление: убивает не только ее, но и себя (V, 342), отрезая себя «ножницами» от окружающих людей и от всего человечества (V, 96). И точно так же, как он совершает двойное убийство, Раскольников несет за него двойное наказание – перед уголовным и перед моральным законом, записанным в его собственном сердце. Поэтому главным обвинителем Раскольникова является не следователь Порфирий Петрович, а сам же Раскольников: борьба его с моральным законом, заключенным в нем самом, в его собственной совести, определяет фабулу и композицию романа.