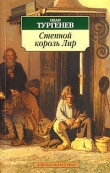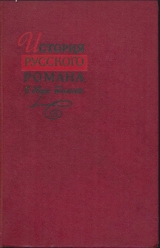
Текст книги "История русского романа. Том 2"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
В «Обрыве» тот или другой тип любви не обязательно соотносится с тем или другим характером человека, объясняется им и сам объясняет его. Райский, как говорит Гончаров, был захвачен особым видом страсти к Вере. Он любил ее «только фантазией и в своей фантазии» (VIII, 214). И это великолепно раскрывало весь его характер, наделенный избытком праздной фантазии. В других случаях нет подобного прикрепления образа страсти к соответствующему характеру, к истории личности, что было связано с изменившимися задачами романиста. Конечно, и страсть Веры связана с ее характером. Об этом писатель не забывает и в других случаях, но он не ограничивает изображение страсти пределами лишь характера, а ищет в ней выражение духа времени, исканий, борьбы, уровня развития общества, миросозерцания, положения человека в обществе.
Теперь главное у Гончарова не столько создание общественных типов (от этого он полностью не отказывается и в «Обрыве»), сколько изображение жизни русского общества в момент кризиса устоявшихся его форм, пробуждения, борьбы нового со старым. И симптомы всего этого проницательный художник находит в разнообразных проявлениях любовной страсти. Окончательное падение Марины, дикая страсть ее мужа Савелья явились следствием крепостного права, которое служило благоприятной почвой для всякого обезображивания человека. Для Марины и Савелья характерно полное отсутствие, как говорит романист, «всякого человеческого осмысления» своих поступков.
Другие источники безобразной страсти у Ульяны Андреевны, жены Козлова. В «Обрыве» довольно подробно рассказана история ее беспорядочной, легкомысленной жизни. И в этом автор нашел ключ к объяснению возможного извращения чувства. Превращению этой заложенной дурным воспитанием возможности в действительность способствовала семейная жизнь Ульяны Андреевны, вся обстановка этой жизни. Бессознательная страсть Козлова к жене не давала материала для жизни ее ума и сердца, не развивала их, не наполняла человеческим содержанием семейные отношения. Такое слепое влечение, не замечающее даже своего предмета, вполне гармонировало со всем характером Козлова, оторванного от окружающей действительности, погруженного в изучение по книгам чужой и далекой жизни.
«Грех» бабушки, ставшей в юности жертвой страсти, совершается в результате чинимых ее любви препятствий. Трагически, «обрывом» кончается и любовь Веры к Марку Волохову. Во всем обширном романе Гончарова нет страсти, которая привела бы к счастью, к выражению полноты жизни. В чем причина такого рокового исхода? В объяснении его можно, конечно, сослаться на отрицательное отношение романиста к любви как страсти. Его положительный герой Штольц был врагом поэзии страстей. Противником ее зарекомендовал себя и Петр Адуев. В чувстве Тушина к Вере торжествуют разум и воля. Напротив, разнообразное проявление страсти у Райского, Веры, Козлова, Марины, как и у поклонника «колоссальной страсти» Александра Адуева, изображено Гончаровым в качестве болезни, имеющей часто роковой, трагический исход. Однако нет оснований к обвинению Гончарова в филистерском благоразумии. Он знает, что любви без страсти быть не может. Романист холоден в изображении женщины – статуи Софьи Беловодовой. Правда, он поэтизирует естественную любовь Марфиньки и Викентьева, но и эта любовь не его идеал. Гончаров не противник страсти в любви, но он защищает человеческое содержание в ней. Если же ее человеческое содержание встречает на своем пути препятствия, обезображено обстоятельствами жизни, насильно ими заглушено, то в этом вина прежде всего общества, а не натуры человека. Изображая роковой, трагический исход страсти, всевозможные искажения ее человеческой природы, романист говорит о ненормально живущем обществе, о господстве в нем уродливых предрассудков, о первых признаках пробуждения его самосознания, о начавшемся процессе распада отживающих представлений и отношений, о поисках новых критериев морали. Ранее Гончаров утверждал: каковы характеры, такова и любовь. Теперь он расширил эту формулу и сказал: каково общество, такова и любовь.
В «Обрыве» изменился не только общий характер гончаровского романа. В нем появилось новое и в конкретных приемах, и в способах изображения жизни. В «Обрыве» отсутствует поэтика «мелочного» воспроизведения характеров в их слиянии с домашней обстановкой, с породившей их средой. «Обыкновенная история» и «Обломов» отличались резко выраженной и последовательно осуществляемой централизацией. Романист давал историю жизни, духовного развития главных героев, она являлась основой сюжета всего произведения. В соответствии с этим в «Обыкновенной истории» и «Обломове» большое значение приобрела экспозиция, изображающая социальную среду, в которой сложились характеры младшего Адуева и Обломова. В «Обрыве» нет подобной централизации, отсутствует в нем и экспозиция, знакомящая читателя с условиями формирования героев. Характерно, что в процессе работы над романом Гончаров свел до минимума предшествующую изображаемым событиям историю жизни Райского, воспроизведение породившей его среды.
В последнем романе Гончарова имеется несколько главных, центральных героев: Райский, Вера, Бережкова и Тушин. Больший захват жизни отражен и в сюжете. Сюжет «Обыкновенной истории» как бы вытянут в одну ниточку. Следует говорить о художественном схематизме этого романа. В нем заключен один конфликт и развивается одна интрига. В «Обломове» Гончаров пошел еще дальше в освобождении русского романа от сложного и динамического сюжета, занимательной фабулы – он как бы остановил движение жизни. «Обрыв» же не монографический, а многосюжетный роман, включающий ряд самостоятельных, центральных и второстепенных историй. В нем даны запутанные, многообразные перипетии, занимательные и эффектные ситуации, крайне изменчивые характеры, бурпо развивающийся (в конце романа) сюжет.
Многосюжетность «Обрыва», необходимая для широкого захвата жизни, не нарушает единства романа. В каждом из сюжетов речь идет об истории того или другого типа любви. Совокупность же этих историй дает как бы исчерпывающую картину «параллелей страстей». И здесь проявляется рационалистическая и дидактическая тенденция. Приводя эти параллели, художник заставляет сравнивать и выбирать, он как бы подсказывает одно, нормальное, и остерегает от другого, опасного или гибельного. Структуру своего романа, вобравшую «параллели страстей», Гончаров, конечно, создавал не как геометрический чертеж. Но поэтика всех трех его романов убеждает, что в природе таланта их автора лежала сильная склонность к той «вдохновенной геометрии», о которой справедливо говорят некоторые пушкинисты, характеризуя принципы пушкинской композиции. Эта особенность поэтики Гончарова коренилась в характере его художественного мышления, сложившегося в процессе осознания и воспроизведения дореформенной действительности. Последняя обладала таким соотношением своих элементов, которое могло питать гончаровский «художественный догматизм». Названной склонности Гончаров остался верен и в романе «Обрыв». В нарисованной им картине жизни явились параллели различных типов любви, строгая градация их содержания и форм проявления.
Борьба за Веру, развернувшаяся между героями романа, и связанная с нею, вытекающая из нее внутренняя борьба, совершающаяся в нравственном мире Веры, трагический исход всего этого как преддверие избавления от «обрыва» и обновления для иной жизни – такова сердцевина всего романа. В нее‑то и стягиваются все многочисленные сюжетные линии «Обрыва». Вместо централизации структуры романа вокруг типического характера возникла централизация вокруг типического конфликта. Главная задача Гончарова заключалась в том, чтобы поставить своих многочисленных и разнообразных героев в обстановку единого и многостороннего конфликта, отражающего борьбу нового со старым. Романист был чуток к этой борьбе и открывал ее проявления в самых интимных сторонах человеческой жизни. Он подчеркивал, что в нарисованном им конфликте его в конечном счете интересовали не индивидуальные судьбы конкретных личностей, а выраженная в них борьба старой и новой жизни. «Пала, – говорит он, – не Вера, не личность, пала русская девушка, русская женщина, – жертвой в борьбе старой жизни с новою» (VIII, 96).
В романе «Обрыв» возникли и другие изменения в его поэтике. Смещения произошли в художественной символике романиста. Обломовщина явилась символическим обозначением определенного общественного уклада жизни и выросших на нем строя психики и особенностей поведения. Образ «обрыва» в последнем романе также имеет общее значение и постоянно, как и слово «обломовщина», обыгрывается художником при изображении самых различных ситуаций. Но образ «обрыва» в концепции всего романа – это не художественный символ широкого общественного уклада жизни, не средство типизации характеров и обстоятельств, а аллегория «новой лжи», нравственного падения, «греха», отступления от «правды». Совершенно очевидно, что такой аспект в художественном обобщении вел к дидактизму (аллегория присуща дидактическим жанрам), к усилению моралистической тенденции. Некоторые персонажи «Обрыва» превратились в дидактические символы, явились олицетворением «новой правды» (Тушин), России (бабушка), «новой лжи» (Волохов) и т. д. И самый конфликт между двумя «правдами», его исход приобрели резко выраженный дидактический характер.
Гончаров всегда стремился предохранить себя от дидактизма и рассудочности. Он великолепно отдавал себе отчет в поджидающей его опасности, таящейся в самом существе всей его общественной и творческой позиции. Романист декларировал необходимость спокойного и беспристрастного отношения истинного художника к своему предмету изображения. Только такое отношение позволяет писателю приблизиться к истине жизни. Созданные Гончаровым объективные формы художественного воспроизведения жизни сыграли выдающуюся роль в борьбе и с романтической поэтикой, и с дидактической литературой, проникнутых субъективизмом, произвольным обращением с предметом изображения. Гончаров скептически оценивал писателей с субъективным складом таланта и противопоставлял им художников, талант которых отличается эпическим беспристрастием. Однако – и так часто бывает – художник «ушибся» об то самое, что он так желал избежать и против чего так решительно выступал. Дидактическая нота сильно прозвучала в его последнем романе. И это было вызвано сдвигом (назовем его «поправением») в понимании романистом положительных начал жизни.
Талант Гончарова особенно расцветал в тех случаях, когда он всецело отдавался непосредственному творчеству, когда он находился полностью под властью главной своей потребности – рисовать характеры и наслаждаться своей способностью их рисовать. Они же говорили сами за себя. В «Обрыве» же между автором и действительностью встал – художник – романтик Борис Павлович Райский. Ему романист передал функции наблюдателя и судьи жизни, свое понимание событий и лиц. Это как бы ограничило Гончарова в правах непосредственного общения с действительностью и непосредственного творчества.
Чем же объясняется такая принципиальная роль романтика Райского в отношениях реалиста Гончарова с изображаемой им действительностью? Посредничество Райского между романистом и жизнью необходимо было для осуществления одного из основных эстетических принципов Гончарова. Автор «Обрыва» считал, что подлинный художник не прямо списывает жизнь общества и природы, а как бы видит их через свою фантазию. Свою фантазию Гончаров и объективировал в образе такого героя, которому она была особенно свойственна. С помощью фантазии Райского романист стремился лучше приблизиться к сущности действительности (а заодно и к образу самого Райского), освободиться от непосредственной связи с нею. Художник Райский необходим был Гончарову и для выражения своих эстетических идей, особенно своих взглядов на роман. Более того, процесс работы Райского над романом, его поиски формы и предмета романа во многом отражают манеру, искания Гончарова – романиста. «Обрыв» во многом явился ответом на вопросы о том, что такое роман, искусство, каков творческий процесс у художника, в каких отношениях с жизнью он должен находиться, какая жизнь «просится» в роман, в живопись, в скульптуру, в музыку. И все это высказано с помощью Райского, показано в его размышлениях об искусстве, в его творческой работе. Следовательно, Борис Райский – очень близкое романисту лицо. Но Гончаров полностью не передает ему своих функций. В романе есть и наблюдатель жизни, художник – артист Райский, и трезвый реалист Гончаров. Точка зрения последнего на жизнь и людей, на творчество и страсть не только сливается с восприятием Бориса Райского, но и отлична от него, самостоятельна. Не отказывается романист и от своего суда над Райским, от иронии над его идеалистическими представлениями о жизни, творчестве и страсти. Так возникло «два потока» в течении повествования. Они то сливаются, то расходятся, споря. Реальная жизнь развивается сама по себе, по своим не фантастическим, а действительным законам страсти, и в то же время она отражается в представлениях и поступках Райского. Без изображения этого невозможно было показать художника Райского в жизни и в искусстве. И именно такого художника, у которого фантазия и анализ не в ладу, который живет и любит фантазией.
Из сказанного видно, что Гончаров полностью не отказался от своего первоначального замысла написать роман о художнике. Многое осталось от этого замысла в окончательном тексте «Обрыва», но слилось с другими, ставшими для романиста более актуальными вопросами.
4
После «Обрыва» Гончаров не возвращался к жанру романа, хотя в его воображении и рисовался новый, четвертый роман, захватывающий современную ему «укладывающуюся» действительность. Но роман так и не был создан. Препятствием к этому было не только непонимание романистом новейших типов русской жизни или то, что он исчерпал свою эпоху в той форме романа, которая была подсказана автору характерным для этой эпохи укладом жизни. С новыми типами романист мог бы познакомиться, а сложившуюся у него форму романа сломать и создать новую, соответствующую новому предмету изображения. Тенденция к этому у него, как было сказано, уже наметилась. Принципы типизации образа Райского глубоко противоположны принципам типизации образа Обломова. В одном случае типизация улавливала устойчивое, коренное, уходящее глубоко в почву. В другом случае она раскрывала крайне изменчивое и противоречивое, почти неуловимое. Это стремление романиста воспроизвести в качестве типического изменчивое и противоречивое, находящееся в состоянии непрерывного брожения, свидетельствовало о том, что его художественная практика в какой‑то мере ломала его эстетические представления о типическом. Следовательно, Гончаров обнаружил способность изменять свою систему, когда этого требовал предмет изображения. И все‑таки романа о пореформенной, «переворотившейся» действительности он не написал.
У Гончарова была своя большая духовная, писательская драма, свой «обрыв». С появления образа Марка Волохова началось охлаждение к писателю не только «молодого поколения», но и всего прогрессивного русского общества. Достаточно вспомнить многочисленные и безуспешные попытки автора «Обрыва» объясниться о отвернувшимся от него обществом, чтобы понять, как были глубоки страдания крупнейшего художника России. И дело не только в Марке Волохове, источнике столкновений Гончарова с современной ему действительностью. Это только эпизод в истории драматических отношений писателя и общества. Вся литературно – общественная позиция и эстетика типического у Гончарова привели его к безысходному конфликту с формирующейся пореформенной действительностью. И этот итоговый конфликт свидетельствовал не только об ограниченности взглядов писателя на жизнь, на типическое в искусстве. Он говорил и о силе художника, о его честности, о верности правде. Да, его испугала революционная Россия! И это явилось одной из причин его разобщения с современностью. Но он, как художник, не воспел и пореформенный буржуазный прогресс, не стал апологетом капиталистической цивилизации. Он готов был даже временами восхищаться Штольцами и Тушиными на заре их деятельности, но удержался от изображения их полного торжества в пореформенное время. Да и в романах своих Гончаров поставил Ольгу и Веру не только выше дворян Обломова и Райского, но и выше буржуазных героев – Штольца и Тушина, что также вело к разрыву художника с капитализирующейся современностью. При такой позиции ему действительно было не ясно, куда же следует вести Ольгу и Веру в условиях пореформенной России. И это тоже заставило художника отказаться от изображения современности. Необходимо вспомнить о самом сокровенном в позиции писателя, когда речь идет о его отношениях с современностью. Поборника и пропагандиста буржуазного прогресса настораживали присущие капиталистам черты – бесчеловечность, утрата высоких духовных стремлений и идеалов, меркантилизм. Гончаров среди русских романистов один из первых разгадал убожество «философии жизни» русского буржуа, мизерность его идеала счастья, трусливость перед большими проблемами бытия, непонимание им подлинных потребностей человеческой личности. И это разгадал художник, который связывал с буржуазным прогрессом судьбы мира и своей родины! Как и во многих других случаях, здесь правда жизни оказалась сильнее надежд писателя. Да, романист понимал, что судьба социально– экономического прогресса находится в руках буржуазии. И это была историческая истина. Ее высказывал и Белинский. Но художник, подобно своему учителю, уловил и нравственную бескрылость Штольца, прозрел в нем человека узких горизонтов, духовно обедненного, способного довольствоваться достигнутым. В мыслях, во всей своей духовной сущности Штольц объективно оказался таким же консервативным, как и сам Обломов. И в этом тоже заключалась правда. Но эта правда служила уже будущему.
Гончаров иногда оглядывался назад, на патриархально – обломовское царство и будто спрашивал: а не здесь ли сохранились цельность челове ческой личности, ее достоинство, человечность, любящее сердце, высокие помыслы? Вот почему Гончаров, автор романа – путешествия «Фрегат „Паллада“», любуется стройной, трудовой, благообразной, чистой жизнью обитателей Ликейских островов, этого забытого цветущего уголка, где люди живут еще в «золотом веке». Это промелькнувшее чувство симпатии вовсе не означает, что Гончаров хотел бы остановить колесо истории. Нет, он убежден, что буржуазная цивилизация придет и в этот благословенный уголок. Симпатии автора говорят о другом. В них видна прорывающаяся грусть, вызванная тем, что современный ему человек утрачивает человеческое. Этот гуманистический мотив звучит и в романах Гончарова – в горячих тирадах Александра Адуева и Ильи Ильича Обломова об утрате современным им человеком своего высокого предназначения и достоинства. В них, конечно, много смешного, что великолепно понимал автор, он видел, что свой идеал цельного человека его герои черпают в родной им Обломовке. Но заветной мечтой самого романиста все же было гармоническое слияние лучшего из прошлого с лучшим в настоящем – с энергией, исканиями ума, созидательной деятельностью, прогрессом. Таково заветное желание романиста. Оно утопично, ибо подлинными наследниками всего лучшего, что оказалось завоеванным и накопленным в нравственной истории человечества, выступили такие социальные силы, которые были незнакомы Гончарову.
Следовательно, в уходе романиста от современности, в отказе от романического творчества сказывались не только растерянность перед новым, непонимание этого нового (демократической России), но и все более овла девавшее им равнодушие к складывающемуся буржуазному обществу, к преуспеянию его героев. Поэтому Гончаров, поборник буржуазного прогресса, не написал эпопею буржуазного мира.
Необходимо иметь в виду и еще одно важное обстоятельство – характер художественного мышления Гончарова, особенности его таланта. Подобного рода препятствие на пути сближения романиста с современностью нельзя было устранить, не став художником совсем иного типа. Это вовсе не значит, что оригинальность таланта фатально предопределяет все его возможности. Л. Н. Толстой пореформенных лет очень остро воспринимал современную ему действительность. И под ее воздействием совершился принципиальный перелом не только в его идеологической позиции, но и во всей его художественной системе, в способах и приемах изображения жизни, даже в строе его художественного языка. Так остро воспринимаемая им действительность открыла, пробудила и развила в его таланте новые творческие способности и возможности. То же следует сказать о Достоевском и Глебе Успенском. Этого сказать нельзя о Гончарове. Новый строй русской жизни не захватил его в свой водоворот и не вызвал в нем той глубочайшей ломки, которую пережили прозаики пореформенной эпохи. Талант Гончарова оказался неподатлив на впечатления, возбуждаемые современной ему действительностью. Эстетика и практика романа, художественное мышление и мастерство Гончарова сложились на почве осознания им особенностей дореформенной жизни и задач ее воспроизведения в искусстве. Он пытался, исходя из своего личного опыта, установить некоторые общие законы искусства, перенести результаты своей практики и осознания ее на искусство в целом (теория и практика типического). Но оказалось, что новый, складывающийся тип жизни пришел в резкое столкновение с художественным мышлением Гончарова, с его эстетикой, с его системой романа, с устаревшими приемами изображения действительности. Это обстоятельство и лишило его возможности обратиться к созданию романа о новом.
У Гончарова навсегда сохранилось глубокое убеждение в том, что типизировать средствами искусства можно лишь прошлое или такие явления и характеры современности, которые тесно связаны с прошлым. Это привело Гончарова – романиста к безысходному конфликту с формирующейся современностью. В ее осознании он был слаб, ограничен. Но вся система его поэтики, тип его мышления, особенности его таланта, беспомощные перед хаосом складывающейся действительности, приобретали огромную силу проникновения в прошлое, в сложившийся уклад жизни, выявивший все свои возможности. В историю русской литературы Гончаров вошел как выдающийся мастер реалистического общественно – психологического романа. Его великая заслуга состоит в том, что он с исчерпывающей полнотой и с большим мастерством художника – реалиста раскрыл и объяснил читателю сущность патриархально – крепостнической Руси, пропел отходную умирающему миру и тем внес неоценимый вклад в общедемократическую борьбу за свободу народа. В руки революционных поколений России Гончаров дал роман, который явился могучим оружием в борьбе с эксплуататорским строем жизни.