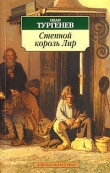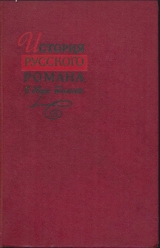
Текст книги "История русского романа. Том 2"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Смена идейных течений, общественных настроений представляется писателю сменой «увлечений». Он придает значение не столько содержанию теорий, которыми увлекается молодежь, сколько этическому их смыслу. Гуманные теории, овладевшие умами в 40–х годах, по мнению Писемского, помогли молодым людям пережить годы реакции, не потеряв своих высоких стремлений, а затем, в эпоху осуществления реформ, стать полезными деятелями. Писемский сознает, что реформы не уничтожили беззаконий, злоупотреблений и нищеты народа, но считает, что ими положено начало освобождения России, которое может совершиться постепенно, через добросовестный труд умных и деловых людей.
Если в романе «Взбаламученное море» все изложение подчинено одной, ложной идее, то роман «Люди сороковых годов» включает огромное количество эпизодов и картин, правдиво рисующих характеры героев или обстановку тех или иных лет. Наряду с высказываниями, отчасти перекликающимися с мнением «почвенников», идеологов журнала «Заря», в котором печатался роман, в произведении Писемского слышится трезвый голос писателя – реалиста, скептически опрокидывающего все иллюзии о «хоровом начале русской жизни» и «легкости» крепостного права в России. [192]192
См.: А. П. Могилянский. Примечания к роману «Люди сороковых годов». В кн.: А. Ф. Писемский, Собрание сочинений, т. IV, 1959, стр. 303–305.
[Закрыть]
Наличие в романе противоречивых высказываний и эпизодов, которые могут быть диаметрально противоположно поняты и истолкованы, вряд ли может быть признано случайным. Писемский, создававший в разные периоды своей жизни романы с ясно выраженной тенденцией, принципиально отстаивал вместе с тем право писателя на «нелицеприятное» отображение потока жизни во всем его многообразии. Выражая впоследствии мысль, что свободная форма романа дает возможность «многое захватить и многое раскрыть», [193]193
А. Ф. Писемский. Письма, стр. 364.
[Закрыть]он подчеркивал, что писатель не должен црямо выражать и особенно навязывать читателю свой взгляд на изображаемые события.
В романе «Люди сороковых годов» Писемский старается быть беспристрастным историком, отойти от своей обычной тенденциозности.
Вводя в роман споры людей противоположных мнений (спор «аристократа» Абреева и «демократа» Плавина или того же Абреева с «народолюбцем» Зиминым), автор ограничивается выражением скептической иронии по отношению к этим спорам. Скептицизм и ирония его распространяются и на главного героя – Павла Вихрова, своей симпатии к которому он не скрывает.
Образ Вихрова открывает собой целую галерею героев, которые оказались в центре последующих романов Писемского. В этом герое 40–х годов писатель стремился воплотить те черты, которые представлялись ему наиболее привлекательными. Артистически и литературно одаренный, красивый, пылкий и добрый, Вихров возбуждает восторженную привязанность в тех, кто сталкивается с ним. Гласное выступление против крепостного права и угнетения женщины навлекло на Вихрова гонения.
Писатель не отрицает, что в произведениях, за которые Вихров, подобно Салтыкову и Тургеневу, был выслан из столицы, «все подламывается: и семейство, и права» (V, 209), что он распространял «разрушительные» идеи Франции (V, 160). Однако автору романа не кажется достойным внимания то, что Вихров от идей утопического социализма, от утверждений, что у нас «вся система невыносимая» (V, 324), совершенно нечувствительно для себя совершает крутой переход к преданности престолу и восхищению императором. Писатель не придает значения изменениям во взглядах своего героя, ибо, по его мнению, этическое содержание исканий Вихрова остается одним и тем же. Герой Писемского прежде всего литератор, его идеи находят свое выражение лишь в его творчестве, и он менее всего стремится непосредственно проводить их в жизнь. Практическая деятельность, которую он представляет себе лишь в форме государственной службы, сначала пугает его. Попав на путь такой деятельности, он служит добросовестно и честно – в условиях засилия николаевской бюрократии дело «нелегкое, которое, однако, приносит свои плоды после реформы.
Писемский не отказывается полностью в этом романе от открытой полемики с радикальным лагерем. Ядовитые намеки и выпады против деятелей «Современника» рассыпаны по страницам произведения. Заявление, что современная поэзия развращает женщин, дополненное довольно ясным намеком на то, что речь идет о творчестве Некрасова, фразы о современных журналах, которые якобы учат молодежь не любить отечество и стремиться эмигрировать в Лондон, целая сцена, долженствовавшая убедить читателя, что под влиянием репертуара Островского театр опошлился, и своим острием направленная против критики Добролюбова, – подобные эпизоды романа свидетельствуют о том, что писатель внутренне не примирился с радикалами.
Однако и реакционным силам он не выражает сочувствия; более того, реакцию, политическое угнетение, выражающее недоверие правительственных верхов к интеллигенции и народу, он объявляет важнейшей причиной распространения революционных идей и бунтарских настроений в обществе.
Открытая полемика, как выше уже отмечалось, занимает в романе «Люди сороковых годов» значительно меньшее место, чем во «Взбаламученном море». Однако скрытая полемическая мысль, как мояшо предположить, определила даже структурные особенности романа.
В течение 1855–1858 годов в восьми книжках «Полярной звезды» Герцен публиковал «Былое и думы». Писемскому несомненно были известны важнейшие части этого произведения уя<е во время его поездки к Геоцену. Первые два тома отдельного издания «Былого и дум» вышли в 1861 году. В этих томах содержалось изображение событий с 1812 по 4847 год, рисовался процесс духовного формирования героя, знакомства его с революционными идеями, характеризовалась среда, окружавшая его, описывались гонения, которым он подвергся, жизнь в провинции, любовь героя.
Издание отдельными томами «Былого и дум» было закончено в 1867 году, так что есть основания думать, что до написания «Людей сороковых годов» Писемский знал это произведение Герцена целиком. Никогда не терявший интереса к личности и деятельности Герцена, боровшийся с ним, но всегда понимавший, сколь велико влияние последнего на общественное мнение России, Писемский не мог пройти мимо такого исторического документа, как «Былое и думы».
«Люди сороковых годов» – роман, в котором явно ощущается творческое соревнование Писемского с Герценом, попытка по – своему ответить на вопросы, поставленные автором «Былого и дум». Роман Писемского, как и «Былое и думы» Герцена, должен был, по мысли автора, показать значение идей 40–х годов, создать типический образ представителя поколения, «расшатавшего» веру в «законность» крепостного права. Характер героя, судьба его должны были в романе рисоваться на фоне широкой картины жизни страны в определенный исторический период.
Герцен держался исторической реальности, точно воспроизводя пережитое в образах и картинах огромный силы, и превращал свои мемуары в художественное произведение. Писемский вводил в свое произведение некоторые реальные события, сохраненные его памятью, образы исторических лиц, однако вымысел занимал в его романе значительно большее место, чем в «Былом и думах». Наделяя героя романа многими чертами своего собственного характера, приписывая ему некоторые факты своей биографии, Писемский в общем заставляет его пройти другой путь, чем прошел он сам. Писемский не мог идти за Герценом, сделавшим себя, со всеми реальными чертами своего характера и жизни, героем книги об эпохе. Писемский сознавал, что он не является такой «центральной» личностью, как Герцен, что ни сам он, ни его жизнь не вобрали всех типичных для времени, воплощающих эпоху черт, и он заставил своего героя дополнительно пережить многое такое, что выпало на долю других людей его поколения. Кроме того, если историческая концепция Герцена вытекала из фактов и легко «накладывалась» на строго исторический, почти документальный рассказ, то концепция Писемского, его понимание значения 40–х годов для дальнейшего развития страны не подкреплялись, а опровергались фактами. Поэтому вымысел, которым дополняет Писемский описание реальных событий, часто носит здесь утопический, искусственный характер, а некоторые эпизоды и фигуры романа схематичны.
5
Полемизируя в течение нескольких лет с русскими революционерами и с их лондонским «старшиной», начав романом «Взбаламученное море» литературную борьбу с нигилизмом, Писемский не сумел убедить своих читателей в том, что революционеры несут только одно отрицание и разрушение. Политические идеи русской революционной демократии оставались всегда неприемлемыми для писателя. Однако, внимательно наблюдая жизнь, Писемский убеждался, что влияние революционеров на русское общество не уменьшается, а увеличивается. Кроме того, ему стало ясно, что революционеры, выступающие против социальной несправедливости, подвергают себя опасности во имя того, что им представляется счастьем для народа или всего человечества, не преследуя каких бы то ни было эгоистических целей. Внутренний мир, этические принципы человека более всего интересовали писателя. Стремясь разоблачить нигилистов и Герцена, Писемский в романе «Взбаламученное море» подверг сомнению их моральные качества. Он попытался представить дело таким образом, будто от революционно настроенной молодеяш нити тянутся к преступной среде, что экзальтация нигилистов напускная, фальшивая, что «лондонская эмиграция» трусливо прячется за спины неразумной молодежи. Однако процессы над студенческой молодежью, героическое поведение революционеров, их высокая принципиальность, самоотверженность и чистота – все это не могло пройти мимо внимания такого зоркого наблюдателя, как Писемский. Жизненный опыт подсказывал писателю, что и в дворянской среде, в кругу обеспеченных, знатных людей лучшие не те, кто поддерживает существующий порядок и отстаивает свои привилегии, а те, кто думает о счастье всех и готов жертвовать ради него своим благополучием.
Новый роман Писемского «В водовороте» (1871) был злободневен и современен именно потому, что здесь сказались наблюдательность писателя, его способность вновь и вновь проверять свои впечатления. В литературе, посвященной анализу творчества Писемского, отмечалось, что этот роман содержит эпизоды, в которых писатель как бы «отменяет» свои слишком поспешные и не объективные оценки революционеров. [194]194
См.: М. П. Еремин. Выдающийся реалист, стр. 45.
[Закрыть]
Центральным героем романа является князь Григоров. Этот образ некоторыми своими чертами повторяет Бакланова («Взбаламученное море») и Вихрова («Люди сороковых годов»). Однако если эти герои случайно, эпизодически соприкасаются с носителями революционных идей и лишь поверхностно усваивают некоторые их теории, то Григоров сознательно сочувствует революционной борьбе, верит в идеалы революционеров, ненавидит аристократическую среду, к которой принадлежит, и готов порвать с нею. Писемский, конечно, пе раскрывает, в чем состоят убеждения князя, как он намерен вести борьбу против общественных пороков и к какому общественному порядку стремится. Однако, рисуя своего героя как аристократа и богача, автор заставляет его солидаризоваться с мнением демократов, утверждать, что Чернышевский и Добролюбов принадлежат к сонму великих людей наряду с Пушкиным, Ломоносовым и Суворовым.
Именно то обстоятельство, что, будучи аристократом и богачом по рояедению, князь оказывается демократом по духу, выступает как источник обаяния героя. Можно высказать предположение, что житейский образ Герцена тревожил воображение писателя, когда он создавал эту фигуру. Однако и Григоров, несмотря на крайность своих мнений, остается инертным, бездеятельным, как и другие ему подобные герои Писемского. Писемский чувствовал 1что слабость его героя как раз не типична для той революционной среды, которую он хотел показать. Вместе с тем идеалы революционеров казались писателю наивной мечтой, а самая борьба – опасной и безнадежной затеей. Характерным для революционеров свойством – готовностью действовать соответственно своим убеждениям – Писемский наделил героиню романа Елену Жиглинскую. Фигура этой до конца последовательной в своих взглядах, смелой и решительной женщины освещена в романе трагическим светом. Горячая и чистая, она оказывается униженной и оскорбленной; самоотверженно преданная делу, она узнает, что дело, которому она посвящает себя, – мираж; она гибнет, потерпев полное поражение, но не разуверившись в правильности своего пути.
Всегда суровый и беспощадный к своим героям, Писемский создает в романе «В водовороте» два противостоящих друг другу, по – своему идеальных, женских образа.
Выше отмечалось, что уже в ранних романах Писемского противопоставление и сопоставление характеров и судеб людей являлось основой композиции. В романе «Взбаламученное море» писатель противопоставлял «жрицу любви» Софи Леневу идеальной ягене, женщине удивительно цельной и аскетически – нравственной – Евпраксии Баклановой. Только на последних страницах романа возникал образ молодой нигилистки Елены Базелейн, противопоставленный и набожной, консервативной Евпраксии, и пылкой, беспечной Софи. Сравнение это было явно не в пользу Елены, основной психологической характеристикой которой являлась фальшивость, ложь ради «служения модной идейке». Композиция романа «В водовороте» по сравнению с другими романами писателя упрощена. Вместе с тем противопоставление двух главных героинь, представляющих принципы консервативный и революционный, предельно обнажает проблему, которая ставится в произведении. То обстоятельство, что революционерка Жиглинская сопоставляется с княгиней – женщиной, далекой от каких‑либо общественных интересов, свидетельствует о том, что писателя интересует главным образом психологический аспект характеристики героинь.
Княгиня, подобно Евпраксии Баклановой, – хранительница нравственных устоев, издавна укрепившихся в дворянской среде. Новые «развращающие» идеи свободы чувства чужды ей. Заметим, кстати, что и в «Взбаламученном море», и в «В водовороте» Писемский провозглашает такое отношение женщины к своему семейному долгу, как верность «пушкинскому идеалу».
В ответ на «вольнодумные» утверждения скептика – литератора Микла– кова (образ во многом автобиографический), что безнравственность современного брака выражается в том, что жены, разлюбившие мужей, не покидают их, княгиня убежденно отвечает, что порядочная женщина не может разлюбить своего мужа. Она глубоко религиозна и считает, что цель ее жизни – сохранение семьи, счастья и покоя любимого мужа.
Подобный образ представляется Писемскому воплощением женственности. Однако в романе «В водовороте» писатель подвергает такой тип женщины и критике, подчеркивая, что княгиня – натура, «идущая по течению», лишенная смелости и самостоятельности. Особенно ясно эта интонация звучит в конце романа, когда любящая и бесконечно преданная мужу княгиня сразу после его смерти выходит замуж за пошлого стяжателя барона Мингера, предварительно посетив всех именитых родных покойного князя и испросив их согласия. Таким образом, верность княгини и ее порядочность оборачиваются пошлостью.
Конец романа, снижающий образ княгини, «оправдывает» Елену. Мик– лаков, близко знавший и Елену, и княгиню, считает «Елену за единственную женщину из всех им знаемых, которая говорила и поступала так, как думала и чувствовала!» (VI, 452).
Эта особенность ставит Елену не только выше княгини, но и выше самого князя Григорова, который считает себя ее единомышленником. Готовность следовать своим убеждениям на деле, осуществлять свои идеалы практически, которая прежде отталкивала Писемского от революционеров, выступает в новом его романе как главное достоинство героини.
Вместе с тем решение Елены посвятить всю свою жизнь делу освобождения Польши – надуманная, «головная» мысль. По сути дела, она не знает Польши и поляков, поэтому она верит небылицам, рассказанным ей заурядным авантюристом. Не более, чем Польша, знакома ей и Россия. Миклакова, вернувшегося из поездки по России, Елена спрашивает: «А этого демократического, революционного движения неужели нет в провинциях нисколько?… – Подите вы! – воскликнул Миклаков. – Революционные движения какие‑то нашли! Бьются все, чтобы как‑нибудь копейку зашибить, да буянят и болтают иногда вздор какой‑то в пьяном виде». Елена не сомневается в справедливости слов Миклакова, она задумывается и разочарованно восклицает: «Странно!.. Я думала совсем другое! – Мало ли что вы думали! – отвечал ей насмешливо Миклаков» (VI, 448).
Автор солидаризируется с Миклаковым, хотя в его же романе есть эпизоды, которые противоречат представлению о том, что демократического и революционного движения нет в России.
Елена Шиглинская выступает как мечтательница, обреченная на одиночество и гибель. Таким образом, писатель не отказывается от своего убеждения, что революционеры оторваны от родной почвы, не знают народа. Однако причину увлечения молодежи освободительными идеями он усматривает уже не во вредном влиянии иноземных идей и русской бесцензурной печати, а в извечном стремлении наиболее страстных и бескорыстных натур к самопожертвованию, подвигу и духовной независимости. Именно такова Елена.
Не понимая существа идей «новых людей» и искажая эти идеи, Писемский показывает тем не менее революционеров в романе «В водовороте» как носителей благородных, честных устремлений, людей сильного характера, самые заблуждения которых более плодотворны и привлекательны, чем бесхребетная, безвольная добродетель обывателей, плывущих по течению, или скрытые пороки хищников, умеющих придавать своим интригам лояльную форму.
6
Теме буржуазного хищничества, лишь отчасти затронутой в романе «В водовороте» (образ барона Мингера), посвящен роман «Мещане» (1877), в котором тенденция автора, его отношение к изображаемому выражаются значительно яснее, чем в произведениях, предшествовавших ему. «Мещане» – роман сатирический. К нему с большим основанием, чем к какому‑либо другому роману, можно применить характеристику творчества Писемского, данную Шелгуновым, который утверждал, что в произведениях этого писателя обличение «является чем‑то подавляющим, глушащим, тяжелым до невыносимости». [195]195
Н. В. Ше лгунов. Народный реализм в литературе. В кн.: Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. II, СПб., 1895, стр. 569.
[Закрыть]
Писемский снова ставит перед собой цель показать типические черты времени, раскрыть, чем живут, к чему стремятся «дети века». И снова писатель касается жгучего вопроса современности, пишет произведение на злобу дия. Предметом изображения в его новом романе является пореформенная эпоха. Бурный рост капиталистического хищничества, разгул спекуляций и мошенничества, злоупотреблений, торжество бессердечных, готовых на любое преступление ради наживы кулаков и авантюристов – вот основная примета времени, по мнению писателя.
Дикая орда «мещан» – жадных до денег, темных и злобных предпринимателей – протягивает лапы не только к богатствам, к наследственным имениям дворян, трудовым сбережениям горожан и государственным сундукам, но и к духовным ценностям. В романе «Мещане» Писемский как бы возвращается к сатирическому методу своих ранних произведений. Калейдоскоп лиц, разнообразных и наделенных индивидуальной характеристикой, создает в целом яркую и определенную картину социальной среды.
В предреформенную эпоху Писемский считал средой, воплотившей наиболее полно пороки современной общественной жизни, помещичье, дворянское общество. Изображению его он и посвящал свои произведения. После реформы буржуазия стала оттеснять дворянство, оказывать все большее влияние на экономическую и политическую жизнь страны. Обли-
чение капиталистического, «мещанского» Ваала, жрецов денежного мешка Писемский считал своей общественной заслугой, наряду с обличением крепостничества. Аферист Янсутский, жуликоватый делец Офонькин, кулак Хмурин, самодур Олухов, граф Хвостиков, торгующий собственной дочерью и состоящий на побегушках у богачей, растленный князь Мамелюков, дамы – дочь графа, хорошенькая вдова Мерова – и жена богача Олухова Домна Осиповна, ведущие жизнь кокоток и пирующие за одним столом с «камелиями», – все эти люди составляют единое общество, названное Писемским «мещанами». Их процветание знаменует собой торжество «торгашества, серости и низких инстинктов».
Итогом развития цивилизации Писемский считает трагический крах всех лучших стремлений и помыслов человечества. Реформация, французская революция, изобретения и открытия ученых, даже шедевры, созданные художниками, – все использовано буржуазией для завоевания и укрепления своего господства над обществом, все обращено в капитал.
Растление людей мещанским хищничеством, по мнению писателя, процесс не обратимый. Он не видит сил, способных противостоять торжествующей «Таганке». Революционеры, как мы уже видели, никогда не казались ему силой, способной воздействовать на жизнь общества. В романе «Мещане» они вообще исчезают из поля зрения писателя. В романе происходит спор об исторической роли рабочего класса. Практичный, знающий жизнь администратор Тюменев утверждает, ссылаясь на опыт Англии, что рабочие и капиталисты «совершенно мирным путем столкуются и сторгуются между собой», что «работник… обратится в такого же мещанина, как хозяин» (VII, 23). Эти предположения возмущают Бегушева. Однако сам Бегушев может противопоставить всеобщему цинизму только неопределенную мечту о нравственном самоусовершенствовании людей, о новом «сошествии Христа» на землю. Без этого, по его мысли, и рабочие не смогут спасти мир от буржуазии.
Бегушев, аристократ и философ, «человек сороковых годов», противопоставлен в романе мошенникам и хищникам, интригующим, суетящимся в погоне за наживой.
Писемский указывал, что при иллюстрировании романа «барство Бегушева необходимо выразить, это вытекает из внутреннего смысла романа: на Бегушеве – барине пробуются, как не оселке, окружающие его мещане; не будь его, – они не были бы так ярки; он фон, на котором они рисуются». [196]196
А. Ф. Писемский. Письма, стр. 347.
[Закрыть]
Бегушев объясняет поступки многочисленных героев романа, будучи так или иначе связан с каждым из них. Пестрые эпизоды, разнородные сюжетные линии, отражающие сложные интриги приобретателей, сталкивающихся в войне всех против всех, сплетаются в клубок, в центре которого в силу более или менее случайных обстоятельств стоит Бегушев.
Бегушев оказывается главным героем романа, хотя он фактически не участвует в развитии сюжета и живет среди современников как почетный гость, наблюдающий и произносящий приговоры, но не разделяющий их страстей и устремлений. Образ Бегушева сродни многим героям романов Писемского 60–70–х годов. Особенность метода изображения этого героя выражается прежде всего в том, что писатель более откровенно обнажает мысли и приемы, которые в прежних его романах были скрыты или завуалированы.
Противопоставляя людей 40–х годов последующим поколениям, Писемский прямо говорит здесь, что «это были люди непрактические, люди слова, а не дела» (VII, 70), но в этом‑то он и видит залог их независимости, чистоты и морального превосходства.
Бегушев не революционер. Высказывая крайне смелые и самостоятельные взгляды, он не верит вместе с тем ни в будущее Европы, ни в будущее России. Разгром революции 1848 года показал ему, как он утверждает, что Европа неуклонно катится к полному подчинению всех сфер жизни торгашеству и мелкому расчету. После этого он отходит от революционных настроений и погружается в искусство и литературу, в сферу чистой мысли и теоретических построений.
Этому характерному для его творчества герою Писемский придает ряд внешних и внутренних черт, сближающих его с Герценом.
Если в других своих романах, отталкиваясь от прототипа Герцена, личность которого в течение всей жизни неодолимо привлекала его, Писемский всячески старался завуалировать это, то теперь, по прошествии многих лет после его столкновения с Герценом, Писемский старается открыть читателю, какой образ стоял перед ним, когда он создавал своего героя. Он дает Бегушеву имя Александр Иванович, его первую жену называет Натальей, придает герою биографию, которая в некоторых пунктах близка к биографии Герцена; описывая внешний его облик, он говорит о гордой, осанистой фигуре, львиной гриве Бегушева, вкладывает в его уста мысли и подлинные слова Герцена. [197]197
См.: Б. П. Козьмин. Писемский и Герцен. «Звенья», т. VIII, М., 1950, стр. 138–147.
[Закрыть]
Ненависть Николая I к Бегушеву, о которой упоминается, указания на идейные связи героя с декабристами и многие другие исторические черты, разбросанные в романе, заставляют воспринимать Бегушева как реальное, историческое лицо. Писемский требовал, чтобы в иллюстрациях к роману Бегушев сохранял реальные черты внешности лиц, которые послужили его прототипами: «… в типе его, если можете, постарайтесь сохранить (то, что я, писавши, сам имел в моем воображении) характер лиц Бестужева и Герцена». [198]198
А. Ф. Писемский. Письма, стр. 342–343.
[Закрыть]
Герцен как прототип значительно сильнее был отражен в герое романа, чем М. А. Бестужев, которого Писемский также имел в виду. [199]199
См. комментарии Ф. И. Евнина к роману «Мещане». В кн.: А. Ф. Писемский, Собрание сочинений, т. VII, 1959, стр. 422.
[Закрыть]Вместе с тем, как выше отмечалось, политическая позиция и мировоззрение героя романа резко отличают его от Герцена. Неоднократно обращаясь к образу Герцена, Писемский мечтал о том «идеальном» Герцене, которого он создал в своем воображении перед поездкой в Лондон. Личное обаяние Герцена, которое ощутил писатель при встрече с ним, было огромно, но не менее велико было разочарование Писемского после спора, обнаружившего, как не похожа идейная позиция Герцена на ту, которую он ему приписывал. Через много лет после этого спора Писемский создает тот «идеальный» образ, который был безжалостно разрушен во время «неприятного разговора» в Лондоне.
В романе «Мещане», несмотря на актуальность проблем, несмотря на обилие сатирических образов, особенно хорошо удававшихся Писемскому, нашли свое выражение наиболее уязвимые стороны деятельности писателя. Мрачный колорит, неверие в перспективы развития общества пронизывают роман. Современная буржуазия предстает в нем как неодолимая сила. Эпизоды, рисующие рыцарей наживы, их хитроумные интриги и циничные откровения подчас повторяют друг друга, действие романа замедлено, композиция его лишена стройности.
Уже в ранних романах Писемского герой, даже интеллектуальный герой, нередко характеризовался прежде всего как физиологическая особь, как человек инстинктов и страстей, а не мыслей и принципов. В «Мещанах» этот метод характеристики превалирует. Наряду со стра стью к наживе над героями властвует стихийная любовная страсть. Если в романе находятся личности, способные противостоять притягательной силе золота, то любовь, в ее наиболее низких, чувственных формах, торжествует победу и над ними.
После романа «Мещане» Писемский вновь обратился к прошлому в поисках светлого начала жизни.
В 1878–1880 годы он работает над своим последним романом – «Масоны». Произведение это, рисующее русскую жизнь 30–40–х годов XIX века, изображает события, как бы предшествующие эпохе, описанной в «Людях сороковых годов». Историческая концепция нового ромапа писателя также близка к той, которая нашла себе выражение в первом его романе о прошлой эпохе.
Тщательно, с добросовестностью исследователя описывая ритуалы масонских лож, излагая этические теории масонов, Писемский трактует масонство как выражение извечного стремления лучших людей русского общества к правде и справедливости. Попытки масонов бороться со злоупотреблениями и преступлениями оканчиваются в романе неудачей, несмотря на обаяние одного из руководителей масонов – Марфина, имеющего друзей в высших слоях общества. Однако писатель не делает вывода о бессмысленности борьбы масонов, хотя роман и заканчивается запрещением масонских лож и прекращением деятельности масонов.
Роман «Масоны», несмотря на свою растянутость, несмотря на вялость изложения в некоторых эпизодах и наивность исторической концепции автора, по своему настроению явился светлым аккордом, завершившим творчество Писемского – романиста (Писемский умер в январе 1881 года). В этом последнем романе писатель выразил веру в плодотворность усилий лучших людей общества, даже тогда, когда их борьба не приносит сразу видимых результатов.
В романе «Масоны», так же как и в романах «Люди сороковых годов» и «Мещане», Писемский ставит перед собой задачу охарактеризовать целую категорию людей, объединенных общностью взглядов, образа жизни и отчасти судьбы. Разнообразие типов, характеров людей, стремящихся к единой цели, объединяющихся или сталкивающихся в этом стремлении, составляет типичную черту подобных романов Писемского. Однако если в романе «Мещане» подавляющее большинство персонажей – типичные представители ненавистной писателю мещанской среды, а герой, чуждый этой среде, выглядит как одинокий экземпляр вымирающего племени, то в «Масонах» все герои первого плана– «идеалисты», благородные и бескорыстные защитники добра. Сознавая, что их идеалы обречены на гибель, Писемский показывает бессилие масонов перед наступающим мещанством. Но характерно, что в романе «Масоны» авантюрная интрига, оканчивающаяся поражением масонов, никак не влияет ни на судьбы главных героев, ни на их убеждения. Общая светлая тональность романа не меняется на всем его протяжении, так же как не менялся мрачный колорит романа «Мещане» с первых до последних его страниц.
В «Масонах» авантюрная интрига, характерная для поздних романов писателя, перестает играть конструктивную роль, ибо не борьба хищников между собой и даже не попытка честных людей противостоять интригам авантюристов, а нравственные искания и неистребимость стремления к добру составляют в этом романе главную черту, которую видит в жизни людей и делает основой своего произведения писатель. Рисуя снова, как и в романе «В водовороте», «идеалиста», благородные порывы которого наивны, а представления о жизни во многом ошибочны, Писемский не приходит к печальному выводу о невозможности «деятельного добра». Постоянный интерес к молодому поколению, ищущему новых путей в жизни, при всем несогласии Писемского с идеями демократической молодежи, заставлял его обращаться к образам протестующих и самоотверженных «идеалистов», чуждых делячеству и мещанскому хищничеству. Уходя от современности, тяготившей его своим буржуазным аморализмом, он уносил в мир образов прошлого нравственные вопросы, которые ставились перед ним борьбой и настроениями лучших его современников. Поэтому последний его роман явился не повествованием о благородных филантропических затеях старого масона, а хроникой нравственных исканий людей, жизнь которых состоит в неустанных и самоотверженных попытках разоблачить ложь.