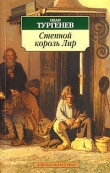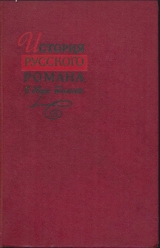
Текст книги "История русского романа. Том 2"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Из всех других женских характеров, созданных Тургеневым, Ирина Ратмирова имеет только одну родственную себе натуру – в лице той княжны Р. из «Отцов и детей», после смерти которой Павел Петрович Кирсанов получил подаренное им когда‑то ей «кольцо с вырезанным на камне сфинксом». «Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка» (III, 195). «Что гнездилось в этой душе – бог весть!», – писал Тургенев в «Отцах и детях», а в «Дыме» он ответил на этот вопрос, показав живую и страстную натуру, превращенную великосветской средой в сухой и «озлобленный ум».
3
Как и в других романах Тургенева, образ героини в «Дыме» помогает писателю осветить жизненную судьбу главного героя и дать ему оценку. Из дворянских персонажей Тургенева, играющих ведущую роль в его романах, Литвинов наделен наиболее устойчивым характером. Он, правда, колеблется в своем выборе между Ириной и Татьяной, но не нерешительность, а сила страсти заставляет его изменить невесте, несмотря на мучительное чувство своей тяжелой вины перед ней. Решающим испытанием для героя становится «тот роковой выбор», который предлагает ему сделать Ирина в своем последнем письме: «Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия, твои прошедшие труды не пропадут, мы найдем для них полезное применение… только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками, и знай, ничье сердце никогда не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины» (IV, 167).
Художник «Искры» выпустил в 1869 году в Петербурге иллюстрированный памфлет на роман «Дым», где Литвинов, получив приведенное выше письмо Ирины, рассуждает как завзятый альфонс: «—А что, черт возьми! – сказал он. – Ведь она правду пишет. Протекция сильная, хорошая протекция! Можно сначала пристроиться где‑нибудь смотрителем гошпиталя или экономом, или там кастеляншею, что ли, потом поступить в какую‑нибудь комиссию собрания или какой‑нибудь комитет Загреба– ния, Чины, это, пойдут своим порядком, ордена, награды, аренды… _
«И картины, одна другой привлекательнее, стали рисоваться в его воображении». [225]225
«Дым». Карикатурный роман А. Волкова и К°, живьем взятый из художественно – сатирического романа И. С. Тургенева. СПб., 1869, стр. 33.
[Закрыть]
Но в том‑то и дело, что Литвинов в романе Тургенева рассуждает совсем не так и памфлет своей карикатурной интерпретацией его мыслей лишь подчеркивает то действительное решение, которое принимает тургеневский герой по поводу предложенного ему любимой женщиной «рокового выбора». «Ты мне даешь пить из золотой чаши, – воскликнул он, – но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья… Прочь! Оставаться здесь с тобой после того как я… прогнал, прогнал мою невесту… бесчестное, бесчестное дело!» (IV, 169). Чего стоило Литвинову это решение, Тургенев показывает в начале главы XXVI, где, сравнивая состояние своего героя с состоянием крестьянки, «потерявшей единственного, горячо любимого сына», говорит: «И Литвинов так же „закостенел“».
Мертвящему миру аристократической верхушки Тургенев в лице своего героя противопоставил в романё «плебея» (сына «отставного служаки – чиновника из купеческого рода» и матери – дворянки). Не случайно, разлучив Литвинова с генеральшей Ратмировой, урожденной княжной Осининой, бывшей любовницей императора, романист приводит своего героя к отвергнутой им ради Ирины Тане Шестовой.
Татьяна повторяет любимый тургеневский образ идеальной девушки из среднепоместного «дворянского гнезда», вроде Лизы Калитиной, только без ее религиозно – аскетической одержимости. Немного страниц отведено характеристике этого образа, и все же он оставляет впечатление удивительной духовной чистоты и той героической силы характера, которая сказывается в мужественном поведении Тани в горькие для нее минуты, когда она накануне предстоящей свадьбы с любимым человеком узнает, что оставлена им ради другой – замужней светской дамы. Внутренний смысл покаянного возвращения Литвинова к невесте раскрывает реплика Капитолины Марковны в заключительной главе романа: «Не мешай ему, Таня… видишь: повинную голову принес». Тургеневская характеристика этой воспитательницы Татьяны бросает свой косвенный отсвет и на духовный облик последней. «Капитолина Марковна Шестова, старая девица, пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения, esprit fort… и демократка, заклятая противница большого света и аристократии», не могла, разумеется, не передать воспитаннице и какую‑то часть своих «вольнодумных» убеждений.
Образ Потугина, которому автор в переписке с Писаревым и Герценом придавал исключительно важное значение, играет в общей композиции романа чрезвычайно противоречивую роль. Перипетии отношений Потугина с Ириной органически входят в художественное целое. «Страшная, темная история» Элизы Вельской, в которой принимает участие Потугин, усиливает сатирический намек Тургенева на аморальность царя и вместе с тем дополнительно раскрывает противоречивый духовный облик Ирины, которая, спасая свою предшественницу, самовластно распоряжается судьбой полюбившего ее чиновника. Потугин не разрывает художественную ткань произведения и там, где он выступает посредником Ирины в ее романе с Литвиновым. Но роль этого персонажа в качестве литвиновского Вергилия, проводящего героя через «адский круг», занимаемый в «Дыме» бесовским скопищем губаревского кружка, и назойливые политические поучения Потугина, обращенные к тому же Литвинову, не входят в художественную концепцию романа так же органически, как входят в нее «великосветские» эпизоды произведения: они, употребляя выражение Д. И. Писарева, «пришиты к повести на живую нитку».
«Дым» оказался художественно наиболее слабым именно там, где Тургенев революционно – демократической программе русского экономического развития противопоставил либерально – потугинский идеал «цивилизации» европейского типа, осуществляемый в его предпоследнем романе реформистской практикой Григория Литвинова. Это не может, однако, зачеркнуть общего прогрессивного значения «Дыма», как произведения, в котором, по верному определению Д. И. Писарева, главная сила политического удара, нанесенного Тургеневым, «действительно падает направо, а не налево». [226]226
См. письмо Д. И. Писарева от 18 (30) мая 1867 года И. С. Тургеневу: Д. И. Писарев, Сочинения, т. 4, стр. 424–425.226
[Закрыть]
1
Замысел последнего романа Тургенева отделен от окончания «Дыма» тремя годами. Парижские рукописи И. С. Тургенева датируют замысел «Нови» 1870 годом; февралем 1872 года датированы еще две записи – «Формулярный список лиц новой повести» и «Краткий рассказ новой повести» («концепт»). Уже эти предварительные материалы, начиная с заметки 1870 года, раскрывают концепцию последнего тургеневского ромайа, законченного писателем в 1876 году и опубликованного в первых двух номерах «Вестника Европы» за 1877 год. Работа Тургенева над окончательным оформлением «Нови» не внесла существенных изменений в ее первоначальный замысел, дополнив последний лишь исторической конкретизацией в романе событий русской общественной жизни последующих лет. Приурочив действие романа к 1868 году, Тургенев внес в него и материалы нечаевского процесса 1871 года, и эпизоды «хождения в народ», принявшего массовый характер лишь с 1874 года. Так, характеризуя Маркелова, Тургенев записывает: «Совершенно удобная и готовая почва для Нечаевых и К 0…»; [227]227
А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева. Изд. «Academias, М. – Л., 1931, стр. 116.
[Закрыть]в отношении же Ма– шуриной он прямо замечает: «Нечаев делает из нее своего агента». [228]228
Там же. сто. 123.
[Закрыть]Сам Нечаев, хотя он и не появляется лично среди действующих лиц «Нови», угадывается в ней в образе загадочного Василия Николаевича.
Социальный состав народнических персонажей, действующих в романе, соответствует демократической природе революционных народников 70–х годов.
Плебейское происхождение семинариста Остродумова и «повивальной бабки» Машуриной отчетливо сказывается в самом облике и манерах обоих. «Медленно покачивая грузное, неуклюжее тело», Остродумов при первом же своем появлении в романе «ввалился» в комнату Нежданова, «сплюнул в сторону», «пробурчал». У Машуриной «довольно грубоватый… голос», волосы, «небрежно скрученные сзади в небольшую косу» и «широкая красная рука». «В этих неряшливых фигурах, с крупными губами, зубами, носами (Остродумов к тому же еще был ряб), сказывалось, – как подчеркивает сам Тургенев, – что‑то честное и стойкое, и трудолюбивое» (IV, 191–193).
Тургеневские характеристики народников раскрывают и вторую существенную их особенность: горячую веру в ближайшую победу их со-
циалистических идеалов. Маркелов «объяснил Нежданову, что Остродумов и Машурина присланы по „общему делу“, которое теперь скоро должно осуществиться». «Сверкая глазами, кусая усы, он начал говорить взволнованным, глухим, но отчетливым голосом о совершаемых безобразиях, о необходимости безотлагательного действия, о том, что в сущности все готово» (IV, 258). Таким же убеждением в «безотлагательной» неизбежности революции проникнута и Машурина: «Но как приступить, к чему – да еще безотлагательно? У Машуриной нечего было спрашивать: она не ведала колебаний» (IV, 262). Не ведает, подобно ей, колебаний и Остродумов, а Кисляков в присланном им товарищам письме «сам удивляется тому, как это он, двадцатидвухлетний юноша, уже решил все вопросы жизни и науки – и что он перевернет Россию, даже „встряхнет“ ее!» (IV, 296). Даже Марианна, молодая девушка, едва прикоснувшаяся через посредство Нежданова к идее народной революции, тоже «не ведала колебаний»: «Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной – вот чем она томилась» (IV, 286). Маркелов «ждет только известия от Василья Николаевича, – и тогда останется одно: немедленно „приступить“…» (IV, 265). Даже выданный тем самым Еремеем, который для него «был как бы олицетворением русского народа», Маркелов винит в неудаче восстания не крестьян, а только самого себя: «Нет! нет! – шептал он про себя… то все правда, все… а это я виноват, я не сумел; не то я сказал, не так принялся!» (IV, 448). Не ведает, подобно Маркелову, сомнения в осуществимости и правоте своего дела также и Машурина, продолжающая это дело после гибели и ареста всех остальных.
Тургенев не верил в возможность победы буржуазно – демократической революции в России, он сам разъяснял, что в эпиграфе к роману «Новь» под плугом, глубоко поднимающим новь, имел в виду не «революцию, а просвещение». [229]229
М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 84.
[Закрыть]Но в отличие от романистов из лагеря реакционера Каткова, изображавших революционно – демократическую молодежь «в образе зверином» (Б. Маркевич), Тургенев, по его собственному признанию, создавая «Новь», хотел «взять молодых людей, большей частью хороших и честных». [230]230
Там же, стр. 102.
[Закрыть]Уже в «Формулярном списке» он выделял именно те черты, которые определяют его героев как людей «хороших и честных». Так, Маркелов «глубоко оскорблен» не только за себя, но и за всех угнетенных, а потому постоянно готов на дело; Марианну характеризуют «энергия, упорство, трудолюбие… бесповоротность и способность увлекаться страстно»; Остродумов – «усердный и честный»; Машурина «способна на всякое самоотвержение». [231]231
А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева, стр. 116, 118 и 123.
[Закрыть]
Тургенев сумел подняться в «Нови» и до верного понимания того факта, что вовсе не диктаторская воля Нечаева или Бакунина определяла деятельность русской народнической молодежи, а глубокая и страстная любовь к трудовым народным массам, толкавшая на революционную борьбу этих «хороших и честных» людей, «постоянно оскорбляемых за себя, за всех угнетенных». Великолепным свидетельством этого понимания является завершающий весь роман диалог Машуриной и Паклина. Отвечая на вопрос последнего: «вы все по приказанию Василия Николаевича действуете… или вами распоряжается безымянный какой?» – Машурина говорит:
«– А может быть, и безымянный!
«Она захлопнула дверь.
«Паклин долго стоял неподвижный перед этой закрытой дверью.
«– „Безымянная Русь!“– сказал он, наконец» (IV, 477).
Этой «безымянной Русью» был тот угнетенный народ, о котором с такою горечью говорит во второй главе романа Нежданов: «Пол – Росснн с голода помирает… везде шпионство, притеснения, доносы, ложь в фальшь – шагу нам ступить некуда…» (IV, 199). Народник С. Н. Кривенко в своих литературных воспоминаниях 1890 года писал: «Я… ни на одну минуту не ставил „Нови“ на одну доску с „Бесами“ Достоевского, как некоторые делали. Там я видел озлобление, прежде всего и больше всего озлобление, а тут находил нечто примиряющее, нечто происходящее совсем из иного источника: порою недоразумение и недостаточное знакомство с молодежью (а не предумышленность), порою скорбь и досаду (а не нетерпимость и злобу), а порою несомненно и добрые стремления и желания, словом нечто от доброты. Все это как‑то само собой чувствовалось между строк». [232]232
С. Н. Кривенко. Из литературных воспоминаний. Цит. по: сб. «Тургенев в воспоминаниях революционеров – семидесятников», изд. «Academia», М. – Л, 1930, стр. 217–218.
[Закрыть]
Можно, разумеется, отвести положительное свидетельство С. Н. Кривенко в пользу «Нови» ссылкой на тот факт, что такие современники Тургенева, как М. Е. Салтыков – Щедрин или Г. А. Лопатин, резко осудили писателя именно за изображение в романе деятельности революционных народников. Существует, однако, и такой коллективный документ, как прокламация «Народной воли», выпущенная 27 сентября 1883 года в связи со смертью И. С. Тургенева. В этой прокламации образы Нежданова и Маркелова из романа «Новь» поставлены в один ряд с лучшими образами всей тургеневской романистики, как «выхваченные из жизни… типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь». [233]233
Там же, стр. 7.
[Закрыть]Тот же самый Г. А. Лопатин, который так резко критиковал «Новь» при первом ее появлении, позже, в беседе, записанной С. П. Петрашкевич – Струмилиной, говорил о Тургеневе так: «Он был в лучшем смысле этого слова либерал. Ну, радикал. Он приветствовал каждую попытку выступления против старого строя». [234]234
Там же, стр. 124.
[Закрыть]Какие бы нега тивные черты ни вносил Тургенев в образы революционных народников в своем последнем романе и как бы ни утверждал в авторском коммен тарии к нему, что «самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско», [235]235
М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 102–103.
[Закрыть]«Новью», говоря словами Лопатина, он приветствовал их «попытку выступления против старого строя».
2
П. В. Анненков, М. М. Стасюлевпч, С. Н. Кривенко, П. Лавров, П. Кропоткин и Якубович – Мелынин, будучи представителями различных политических лагерей, тем не менее одинаково высоко оценили художественные достоинства последнего тургеневского романа, поставив созданные писателем образы Нежданова, Марианны и Маркелова в ряд с героическими характерами предыдущих романов Тургенева. П. В. Анненков 7/19 марта 1877 года писал из Баден – Бадена М. М. Стасюлевичу, имея в виду только что опубликованную «Новь»: «Читаем мы здесь процесс наших пропагандистов и не можем не изумляться тому, что Тургенев угадал заранее их ходы и приемы. Вот уж подлинно vates – так, кажется, звали пророков по – латыни». [236]236
Там же, стр. 340.
[Закрыть]
Однако М. Е. Салтыков – Щедрин, А. А. Фет, Л. Н. Толстой и Г. А. Лопатин, т. е. люди также различных политических убеждений, отрица тельно отозвались о последнем романе Тургенева. 17 февраля 1877 года Щедрин писал о «Нови» П. В. Анненкову: «Никакого признака турге невской кисти тут нет, т. е. даже в архитектуре романа… с внутренней стороны это вещь еще более слабая. Лица консервативной партии (Си– пягин, Калломейцев) описаны с язвительностью, напоминающей куафер– ское остроумие… Что же касается до так называемых „новых людей“, то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! ужели даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья!». [237]237
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XIX, Гослитиздат, М., 1939, стр. 87–88.
[Закрыть]Л. Н. Толстой И —12 марта того же года писал А. А. Фету: «„Новь“ я прочел первую часть и вторую перелистывал. Не мог прочесть от скуки. В конце он заставляет говорить Паклина, что несчастье России в особенности в том, что все здоровые люди дурны, а хорошие люди нездоровы. В этом и мое и его собственное суждение о романе. Автор нездоров и его сочувствия с нездоровыми людьми, и здоровым он не сочувствует…». [238]238
Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений (юбилейное издание), т. 62, Гослитиздат, М., 1953, стр. 314.
[Закрыть]
Так же разноречиво в оценке «Нови» и советское литературоведение. М. Клеман в своей монографии «И. С. Тургенев» (1936) пришел к выводу, что народническое движение в последнем романе писателя полностью искажено. Г. Макогоненко, наоборот, увидел в романе чуть ли не марксистское освещение политической ситуации в России 70–х годов, [239]239
Г. Макогоненко. Политический смысл романа «Новь». «Литературный современник». 1939, №№ 7–8.
[Закрыть]а Л. В. Пумпянский в историко – литературном очерке о романе «Новь» писал, что «для понимания революционного движения 60–х г[о– дов] она дает гораздо меньше, чем „Бесы“». [240]240
И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. IX, ГИЗ, М. —Л., 1930, стр. 162.
[Закрыть]
В отличие от Щедрина, который, отрицая преемственность «Нови» по отношению к предшествующим романам Тургенева, объяснял художественную, по его мнению, слабость этого романа искажением в нем истинного характера революционного движения в России тех лет, Л. В. Пумпянский объясняет это искажение исторической правды тем, что, создавая «Новь», «Тургенев был связан им же когда‑то созданным типом романа о герое». Г. А. Вялый в статье «От „Дыма“ к „Нови“» дает третье решение того же вопроса: «„Новь“ ближе к старому типу романа Тургенева, чем „Дым“», она «как бы возвращается к истокам, к „Ру– дину“, который тоже был романом о неудачнике, о „ненастоящем“ герое, о деятеле, лишенном исторической перспективы». [241]241
Г. А. Бялый. От «Дыма» к «Нови». «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института, факультет языка и литературы», т. XVIII, вып. 5, 1956, стр. 97–98.
[Закрыть]Однако в отличие от Пумпянского Г. А. Бялый не считает роман «Новь» ни слабым в художественном отношении, ни искажающим реальную картину современной писателю политической эпохи.
Особую трактовку художественной архитектоники «Нови» предложил А. Г. Цейтлин. Называя Тургенева «убежденным приверженцем романа с одноплановым сюжетом», он, однако, заявляет: «По своей композиции „Новь“ не столько продолжение старых тургеневских традиций, но и поиски новой формы уже не только общественно – психологического, но и социально – политического романа». [242]242
А. Г. Цейтлин. Мастерство Тургенева – романиста. Изд. «Советский писатель», М., 1958, стр. 265.
[Закрыть]Именно поиски новой формы в «Дыме» и «Нови», по мнению А. Г. Цейтлина, привели к ослаблению их художественной цельности и силы. «Сильно развитые в этих романах сатирические элементы, – пишет он, – вступают в борьбу с лиризмом и оттесняют его на задний план. Потому‑то оба эти последних романа слабее его предшествующих созданий». [243]243
Там же, стр. 383.
[Закрыть]
Любая из приведенных выше характеристик «Нови» содержит в себе известную долю истины, однако ни одна из них не соответствует подлинным особенностям последнего тургеневского романа в целом, сложная противоречивость которого не укладывается ни в одну из предложенных концепций. А. Г. Цейтлин, например, противопоставляет «Новь» «Рудину», утверждая, что «жизненная драма… Нежданова и Марианны не так глубока, в ней почти нет элементов трагичности, присущих жизненной драме Рудина». [244]244
Там же.
[Закрыть]Неправомерность подобного утверждения подтверждается не только всей судьбой Нежданова в романе, но и прямой записью самого Тургенева в «Формулярном списке лиц новой повести», датированной февралем 1872 года: «Натура трагическая – и трагическая судьба». Причиной, предопределяющей неизбежность сближения Марианны с Неждановым, автор «Формулярного списка» считал именно «привлекательность всего трагического, а с Неждановым она пережила страшно трагические дни».
Раскрывая уже в первой относящейся к «Нови» записи, датированной 17/29 июля 1870 года, замысел своего будущего романа, И. С. Тургенев писал: «Мелькнула мысль нового романа. Вот она: есть романтики реализма… Они тоскуют о реальном и стремятся к нему, как прежние романтики к идеалу… Они несчастные, исковерканные – и мучатся сами этой исковерканностыо – как вещью, совсем к их делу не подходящей… Между тем их явление, возможное в одной России, что все еще носит характер пропедевтический, воспитательный, – полезно и необходимо: они своего рода пророки, проповедники… Пророчество – болезнь – голод, жажда; здоровый человек не может быть пророком и даже проповедником. Оттого я и в Базарова внес частицу этого романтизма…». [245]245
А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева, стр. 107.
[Закрыть]
Замысел этот, действительно, нашел свое художественное воплощение в «Нови», которая, как и все другие романы Тургенева, носит характер монографический, являясь «романом о герое» (Л. В. Пумпянский). Сюжетная коллизия и этого последнего романа определяется характером его главного героя.
Уже внешний портрет Нежданова, эскизно нарисованный автором во второй главе первой части романа, выделяет героя из общего круга других народников. В отличие от их неприглядных лиц, неряшливых фигур и плебейских манер у него красивое белое лицо, изобличающее аристократическую «породу». «Благородный» гонор Нежданова раскрывается уже в манере, с которой герой бросает кассиру три рублевых ассигнации (последние деньги, которые были при нем), чтобы не уступить театральный билет первого ряда «господину офицеру» (IV, 205). С другой стороны, плебейское самолюбие этого незаконного сына родовитого князя сказывается в «писаревской» ненависти героя к «эстетике», в его стихотворных подражаниях мотивам гражданской лирики Добролюбова, в озлобленном презрении к барскому тону, царящему в семействе Сипяги– ных, в яростной ненависти к реакционным убеждениям Калломейцева.
Такое противоречивое смешение плебейских и аристократических черт в характере Нежданова дает Паклину основание назвать его «Гамлетом российским». Этим объясняется и его трагическая судьба. В ряды революционных борцов, судя по всему, Нежданова привело не столько сочувствие угнетенным народным массам, сколько личная обида за свою неудачную судьбу. По характерному признанию самого автора, у его героя «темперамент уединенно – революционный». Недаром и выглядит НеЖданов чужеродной фигурой как среди своих товарищей по революционной организации, так и в кругу аристократов Сипягиных.
Этим отсутствием под ногами Нежданова устойчивой социальной почвы, породившей «убежденнейших» и бесстрашных революционных борцов, вроде Остродумова и Машуриной, объясняется в последнем романе Тургенева и то внутреннее сомнение героя в реальности революционного «дела», которое приводит в конце концов Нежданова к самоубийству. Это внутреннее сомнение обнаружилось при первом же появлении героя на страницах романа, когда автор подмечает, что лицо Нежданова, заставшего у себя в комнате товарищей по революционному кружку, «выражало неудовольствие и досаду» (IV, 198). Сообщив Паклину, что он едет к Сипягину «на кондицию», Нежданов говорит: «…чтобы зубов не положить на полку… „И чтоб от вас всех на время удалиться“, – прибавил он про себя» (IV, 213). В письме же, отправленном уже из поместья Сипягиных, Нежданов недвусмысленно сообщает своему интимному другу Сцлину: «…сплю крепко, гуляю всласть по прекрасным окрестностям – а главное: вышел на время из‑под опеки петербургских друзей» (IV, 244). «Как же это вы так!» – говорит Маркелов, упрекая Нежданова в бездеятельности в «общем деле», «которое теперь скоро должно осуществиться» (IV, 258). Слушая речь Маркелова «о необходимости безотлагательного действия», Нежданов «сперва… пытался возражать», но потом, взвинтивши себя, «он с каким‑то отчаянием, чуть не со слезами ярости на глазах, с прорывавшимся криком в голосе принялся говорить в том же духе, как и Маркелов, пошел даже дальше, чем тот» (IV, 259). А позже, написав полное пессимизма стихотворение, Нежданов с недоумением спрашивает сам себя: «Этот скептицизм, это равнодушие, это легкомысленное безверие – как согласовалось все это с его принципами? с тем, что он говорил у Маркелова?» (IV, 267).
Так, определяя общее звучание «Нови», лейтмотивом проходит через весь роман тема мучительных колебаний Нежданова: то отчаянная потребность «безотлагательных действий», то такое же отчаянное безверие, усталое равнодушие и скептицизм. А ведь это трагическое противоречие, составляющее жизненную драму Нежданова и главную особенность его характера, было свойственно также и Рудину, герою первого тургеневского романа. Даже интимные отношения Нежданова с Марианной напоминают отношения Рудина с Натальей Ласунской: оба они, завоевав сначала любовь этих героинь, наделенных потребностью «деятельного добра», теряют их доверие, когда те убеждаются, что «прекраснодушные слова» героев находятся в непримиримом противоречии с их неспособностью к активному действию.
Использует Тургенев в «Нови» и многие другие составные компоненты художественной структуры того типа романа, который был им создан еще в «Рудине». Известно, например, какую исключительную роль играл в поэтике уже первого тургеневского романа пейзаж, являющийся художественным средством раскрытия автором определенного психологического состояния его героев. В «Дворянском гнезде» пейзаж как бы «аккомпанирует» малейшим оттенкам в переживаниях Лаврецкого, постепенному развитию его чувства к Лизе. В «Накануне» Тургенев устами Рубина прямо мотивирует нерасторжимую связь явлений природы с миром человеческих эмоций. Даже Базаров, иронически обрывающий в «Отцах и детях» риторические рассуждения Аркадия о красоте среднерусского пейзажа, сам в сцене ночного объяснения с Одинцовой испытывает неодолимое воздействие волнующей летней ночи. Дыхание природы проникает даже в настроения героев «Дыма», дейст – вне которого протекает преимущественно в номерах баден-баденских отелей. Большое значение имеет пейзаж и в художественной системе) «Нови».
Подавленное состояние Нежданова перед его отъездом из Петербурга в деревню оттеняет эскизная зарисовка одного из дворовых уголков северной столицы: «Нежданов остался один… Он продолжал глядеть через стекло окна на сумрачный узкий двор, куда не западали лучи даже летнего солнца, и сумрачно было и его лицо» (IV, 214). Сцене, в которой возникает чувство первой симпатии между Неждановым и Марианной, непосредственно предшествует описание сипягинского сада, своею «красою весеннего расцветания» просветляющего сумрачные настроения Нежданова.
Поэзия любви, воедино слитая с поэзией природы, насыщает лучшие страницы первой части романа, которая и завершается гармоническим аккордом: «Они пошли вместе домой, задумчивые, счастливые; молодая трава ластилась под их ногами, молодая листва шумела кругом; пятна света и тени побежали, проворно скользя по их одежде, – и оба они улыбались и тревожной их игре, и веселым ударам ветра, и свежему блистанью листьев, и собственной молодости, и друг другу» (IV, 343).
Мрачный пейзаж чахлого фабричного дворика выразительно оттеняет драматическую сцену самоубийства Нежданова, над которым в эту минуту нависло «низкое, серое, безучастно – слепое и мокрое небо», да обнаженные сучья старой яблони «искривленно поднимались кверху, наподобие старческих, умоляющих, в локтях согбенных рук» (IV, 462).
Даже Л. Н. Толстой, отрицательно оценивший «Новь» после ее появления в печати, именно по поводу этого романа писал о Тургеневе: «… в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета, – это природа. Две, три черты и пахнет»; [246]246
«Литературное наследство», 1939, № 37–38, стр. 222.
[Закрыть]«ничего лучшего ни в одной литературе не знаю». [247]247
Там же, стр. 450.
[Закрыть]
Значительно меньшее место по сравнению с предыдущими романами Тургенева занимает в «Нови» музыка. Она играет здесь иную роль, являясь средством косвенной характеристики душевного состояния героев. Сцена игры Марианны на фортепиано в присутствии Сипягиных, Калломейцева и Нежданова явно демонстрирует отношение главных героев романа к музыке как забаве: «Марианна села за фортепиано и сыграла, ни хорошо ни худо, несколько „песен без слов“ Мендельсона… да и Нежданов, несмотря на надежду, выраженную Сипягиным, никакого пристрастия к музыке не имел» (IV, 237).
Зато не менее широко, чем в ранних романах, пользуется Тургенев в «Нови» «характеристической деталью», значение которой он так убедительно обосновал в своей переписке с друзьями и которую так широко применял еще в своих первых романах. Роль подобной детали играет в шестой главе «Нови» ручной попугайчик, который с такой любовью тянется к Марианне и с такой антипатией относится к Сипягиной. Деталью, раскрывающей скрытый от посторонних подлинный характер взаимоотношений Марианны с Сипягиной, являются в восьмой главе романа брови героини, которые «нервически подергиваются, когда она говорит с своей патроншей» (IV, 245). Подобно «светлой и сладкой» улыбке Паншина («Дворянское гнездо»), лицемерно – доброжелательный характер Сипягиной хорошо раскрывает в «Нови» та «особенная, ласковая светлость взгляда, которая словно по команде приливала к ее чудесным глазам» (IV, 248). Социальную чуждость этой светской барыни деревенским мужикам выразительно демонстрирует такая художественная деталь: Сипягипа «в церкви, во время обедни, молилась по крошечной книжечке, переплетенной в малиновый бархат; книжечка эта смущала иных стариков; один из них не воздержался и спросил у своего соседа: „Что это она, прости господи, колдует, что ли?“» (IV, 241).
С другой стороны, для характеристики Марианны Тургенев привлекает художественную деталь, солнечно озарившую образ его самоотверженной героини: «Солнечный свет, перехваченный частой сеткой ветвей, лежал у ней на лбу золотым косым пятном – и этот огненный язык шел к возбужденному выражению всего ее лица, к широко раскрытым, неподвижным и блестящим глазам, к горячему звуку ее голоса» (IV, 275).
Можно было бы привести из «Нови» также большое количество примеров той «тайной психологии», мастером которой показал себя Тургенев еще в «Рудине». Ограничимся одним: «Нежданов продолжал сидеть на стуле; Марианна стояла перед ним. Его руки лежали вокруг ее стана; ее руки опирались об его плечи. „Да; нет, – думал Нежданов, – а между тем, бывало, прежде – когда мне случалось держать ее в своих объятьях – вот так, как теперь, – ее тело оставалось по крайней мере неподвижным; а теперь я чувствую: оно тихо и – быть может против ее воли – бежит от меня прочь!“.
«Он разжал свои руки. И точно: Марианна чуть заметно отодвинулась назад» (IV, 430–431).
В приведенной сцене Тургенев изобразил только внешний факт, но какое глубокое психологическое, содержание скрывает за собою этот факт: Марианна, разгадавшая разочарование своего избранника в революции, бежит от него прочь!
Не меньшую, чем в других романах Тургенева, роль играет в «Нови» и «лирический комментарий» автора. Так, описав воздействие на Нежданова окружающего его пейзажа сипягинской усадьбы, Тургенев замечает: «…он отдавался весь тому особенному весеннему ощущению, к которому – ив молодом и в старом сердце – всегда примешивается грусть… взволнованная грусть ожидания – в молодом, неподвижная грусть сожаления – в старом» (IV, 246–247). Иногда подобный авторский лиризм проявляется в «Нови» в форме косвенной речи, передающей переживания героев: «Его окружало какое‑то облако; полутусклой завесой стояло оно между ним и остальным миром – и, странное дело! – сквозь эту завесу виднелись ему только три лица – и все три женских – и все три упорно устремляли на него свои глаза. Это были: Сипягина, Машурина и Марианна. Что это значило? И почему именно эти три лица? Что между ними общего? И что хотят они от него?» (IV, 266).