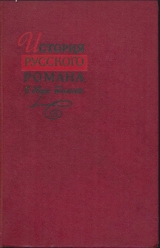
Текст книги "История русского романа. Том 2"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Ф. М. Достоевский, а затем и Гл. Успенский с наибольшей остротой, до трагической боли ощутили брожение и хаос в сознании и жизни людей переходного времени. Характерно, что в 60–е годы художественное мышление Гл. Успенского воплощалось преимущественно в привычных жанровых формах повести, рассказа и очерка. «Разоренье» воспринималось писателем в процессе его создания как роман. Начиная же с 70–х годов автор «Больной совести» остро осознает всю невозможность продолжения работы в своей прежней манере. Он решительно отказывается от стеснительных теперь для него традиционных жанров. Писатель ищет такие– художественные формы, которые, по его представлению, могли бы передать со всей драматической остротой ощущение нарастающей тревожной неустойчивости и противоречивости русской жизни переходного времени, позволили бы в живой форме откликнуться на злобу дня, порожденную этим временем, а вместе с тем давали бы ему свободу в выражении собственных тревог и болей за положение и судьбу русского человека.
Эпоха тревожной неустойчивости, полная драм и трагедий в судьбах народа и интеллигенции, «убила» в Успенском возможности к созданию романа, до крайности обострила все его художественное мышление, определила взволнованный, «личностный» тон его произведений. При этом не следует забывать, что острые впечатления от «переворотившейся» действительности падали на подготовленную почву. Вся психика художника, с ее повышенной чуткостью, обнаженностью нервов, была «открыта» для драматической действительности, которая терзала эту психику. С подобным душевным строем невозможно было создавать романы, добиваться художественности, оставаться на позициях органического мышления и творить в рамках привычных жанровых форм. Успенский, как и Щедрин, смело ломал эти формы. Достоевский по характеру своей душевной организации был близок Гл. Успенскому. Он улавливал распад и деградацию старого и проницательно угадывал возникновение тех новых сил буржуазного общества, античеловеческая, разрушительная власть которых определяла трагические судьбы людей. Но это не привело Достоевского к отходу от романа и повести. «Дух нового времени» воплощался у него в этих формах. Однако их внутренняя художественная логика приобретала новые черты. Все особенности романов Достоевского, не исключая стиля, тона и форм повествования, несли на себе печать пореформенного времени. Структура его романов резко меняется после пережитого им духовного перелома 1863–1864 годов. В сюжеты романов Достоевского широкой волной вливаются «злоба дня», «текущий момент» – власть денег, игра нездоровых страстей, пробужденных новым временем, судебная хроника, политические процессы. Воспроизведение «низких», «грязных» бытовых подробностей сочетается у Достоевского с постановкой больших философско – этических вопросов своего времени. Хроника прошлого сливается с современностью в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Взлеты и падения, бунт и смирение, преступление и раскаяние, красота и безобразие, гармония и хаос – все эти противоположности совмещаются у Достоевского и являются своеобразным выражением беспорядочной, трагически хаотической жизни. Достоевский поражает воспроизведением многообразных глубинных проявлений жизни и человеческого духа переходного времени. Стремление к обобщающему синтезу проблем, форм воспроизводимой действительности и форм повествования характеризует новаторство его романов. В художественно – философском обобщении фактов жизни он порой поднимается до романтического символа («Легенда о великом инквизиторе»).
Достоевский резко противопоставлял тип своего романа романам Тургенева и Гончарова, а особенно Толстого. Для характеристики различных тенденций в реализме второй половины XIX века показательна полемика Достоевского и Гончарова. Поводом для этой полемики явилось письмо Гончарова к Достоевскому от 11 февраля 1874 года. В нем автор «Обломова» утверждал, что зарождающееся не может быть типом, так как последний «слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц». Гончаров считал, что творчество «объективного художника» «может являться только тогда… когда жизнь установится; с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит». [9]9
И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, Гослитиздат, М., 1955, стр. 457.
[Закрыть]Через два года в статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“» (1876) Гончаров вновь вернулся к вопросу о формах жизни, достойных искусства. «Искусство серьезное и строгое, – говорил он, – не может изображать хаоса, разложения… Истинное произведение искусства может изображать только устоявшуюся жизнь в каком‑нибудь образе, в физиономии, чтобы и самые люди повторились в многочисленных типах под влиянием тех или других начал, порядков, воспитания, чтобы явился какой‑нибудь постоянный и определенный образ формы жизни и чтобы люди этой формы явились во множестве видов или экземпляров… Старые люди, как старые порядки, доживают свой срок, новые пути еще не установились… Искусству не над чем остановиться пока». [10]10
Там же, стр. 212–213.
[Закрыть]
Достоевский отвергает положения Гончарова о том, что подлинное искусство не может иметь дело с современной неустоявшейся действительностью. Ответное письмо Достоевского на письмо Гончарова от 11 февраля 1874 года не сохранилось. Но в «Дневнике писателя» (за январь 1877 года), а также в романе «Подросток» («Заключение») Достоевский полемизирует с Гончаровым по вопросу о формах современной ему действительности и возможностях ее воспроизведения в романе. «Если в этом хаосе, – пишет он, – в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самых великих наших художников. У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся… Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит и кто их укажет? Кто хоть чуть – чуть может определить и выразить законы и этого разложения и нового созидания?». [11]11
Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. СПб., 1883, стр. 35–36.
[Закрыть]
Автор «Подростка» и считает себя художником, улавливающим процессы разложения старого и созидания нового. Он противопоставляет себя писателям, которые воспроизводят законченные формы и сложившиеся типы действительности и которые на этой основе создают произведения, характеризующиеся завершенностью и целостностью. Такие писатели, по убеждению Достоевского, не могут изображать современность, лишенную устойчивости, полноты выражения. Они невольно должны будут обратиться к историческому роду творчества и в прошлом искать «приятные и отрадные подробности», «красивые типы», создавать «художественные законченные» картины. Достоевский иронизирует над подобными писателями. К их числу он готов отнести всех своих выдающихся современников, особенно Толстого. В оценках Достоевским творчества своих великих современников было много субъективного. Толстого уже в предреформенные годы властно захватила современность, эпоха ломки и брожения. Его творческое воображение особенно поразил характер, находящийся в непрерывных напряженных поисках истины и правды, в состоянии духовного кризиса и перелома, разрыва со своей средой, с привычной обстановкой жизни. И своего любимого героя из дворян Толстой под воздействием жизни и собственных исканий должен был все более сближать с народом. В последнем же романе Толстого, «Воскресении», Нехлюдов становится отщепенцем своего сословия. Романист вводит его в ту «виноватую Россию», в которой с такой потрясающей силой обнаружил он трагическую судьбу трудового народа. И именно в этой среде отверженных Толстой теперь находит настоящих своих героев. Его Катюша Маслова, различные типы революционеров – совершенно новые герои из народа.
Достоевский, как и Щедрин, осознает себя художником «смутного времени». «Работа, – заявляет он, – неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти (порожденные переживаемым «беспорядком и хаосом», – Ред.)… еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однакож, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и… ошибаться». [12]12
Ф. М. Достоевски, Собрание сочинений, т. 8, Гослитиздат, М., 1957, стр. 625.
[Закрыть]Таким и был Достоевский – романист. Всем стилем своих романов он передавал динамику, биение пульса современной ему «переворотившейся» и «укладывающейся» жизни. И подобно Толстому, но своими путями, он сумел это осуществить, проникая в глубины человеческой души. В этом отношении уже показательна и самая композиция романов Достоевского. История формирования характеров, воспроизведение разнообразных обстоятельств этого формирования, что так характерно для романов Гончарова и Толстого, – все это не входит прямо в сюжет его романа, а предшествует ему, отодвигается в предысторию. Главное же в сюжете – конечные драматические и трагические конфликты и катастрофы, события и страсти, столкновения идей и следствия всего этого. Эпическое воспроизведение действительности Достоевский, имеющий дело с драмой мятежно ищущей и страдающей души своего героя, решал драматическим способом. Драматизм присущ не только композиционному построению романов Достоевского. Драматическими средствами он воспроизводит и характеры.
С этим связана огромная роль в романах Достоевского внутренней речи героев, их записок и исповедей, а также диалога, дискуссий. Драматизм событий и внутренней жизни героев был присущей романам Достоевского формой выражения напряженного биения пульса современной ему действительности.
3
В пореформенные десятилетия шла не только бурная ломка старого. В этом водовороте рождалась новая Россия, противоречия буржуазного развития, переплетаясь с крепостническими пережитками, становились все более острыми. Ни один из насущных вопросов не был разрешен, а поэтому «подземные ключи жизни» продолжали свою великую работу.
В 1879–1881 годах сложилась вторая революционная ситуация в России, она определила новый демократический подъем в стране, который, как и в 1859–1861 годах, не вылился в массовую революционную борьбу и сменился годами реакции. 1881 год – конец золотого века русского революционного народничества, начало его перерождения в мещанско– кулацкий либерализм. Своей непосредственной цели – «пробуждения народной революции», как указывает В. И. Ленин, народники «не достигли и не могли достигнуть». [13]13
В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 235.
[Закрыть]
Торжество буржуазного порядка, разгром революционных сил в стране и разгул реакции после 1881 года вызвали и соответствующие настроения в русском обществе. Эти настроения проникали в журналистику, в литературу, в русский роман. Решительный отход от революционного наследства 60–70–х годов, сознательное стремление оклеветать или опошлить это наследство, противопоставление ему теории «малых дел», забвение политики и игнорирование злободневных вопросов народной жизни – таковы основные тенденции в настроениях той части русского образованного общества, которое решило «поумнеть» и слиться с новыми условиями жизни. «Поумнел» – так назвал Боборыкин свою повесть 1890 года, а в романе «За работу!» он сделал попытку развенчать русского писателя – демократа, его служение русскому мужику.
Изживание бывшими демократами своих верований в социализм, в мужика и в боевое искусство, общее понижение идейного уровня литературы, а также обмельчание духовного мира интеллигента, широкое распространение обывательских настроений – вся эта мутная волна захватила Боборыкина и Засодимского, Потапенко и Бажина. Она же породила и целую плеяду новых беллетристов, типичных «восьмидесятников» – Лугового, Баранцевича и др. Творчество этих прозаиков было в количественном отношении очень обильным, оно заслоняло классический роман, крупнейшие представители которого (Тургенев, Достоевский, Гончаров) в рассматриваемый период уже завершали свой творческий путь.
Для понимания особенных условий этого сложного периода в истории русского романа следует вспомнить ту характеристику, какую дал этой реакционной эпохе в истории России В. И. Ленин. «Ведь в России, – писал он, – не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: „наступила очередь мысли и разума“, как про эпоху Александра III! …Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль, создав основы социал – демократического миросозерцания». [14]14
Там же, т. 10, стр. 230.
[Закрыть]И в высшей степени знаменательно, что именно в эту эпоху титан русского и мирового реализма Л. Толстой создал роман «Воскресение», идейно – художественная концепция которого является ключом для понимания новых судеб русского романа в ту переломную эпоху русской жизни. Главный герой романа Нехлюдов стоит в ряду предшествующих толстовских «ищущих» героев. И в этом смысле «Воскресение» связано с прошлым, с пройденной автором ступенью в видении мира. Однако значительно меняется способ раскрытия образа Нехлюдова. Как справедливо пишет Б. Бурсов, Нехлюдов «занят не столько тем, что происходит с ним самим, сколько тем, что происходит с другими». [15]15
Б. И. Бурсов. Чехов и русский роман. Сб. «Проблемы реализма русской литературы XIX века», Изд. АН СССР, М. —Л., 1961, стр. 283.
[Закрыть]И последнее имеет принципиальное значение, так как ведет героя к признанию объективной силы вещей, не зависящей от его желаний и воли. Эта тенденция пробивала себе путь в литературе не только в романах, но и в других прозаических жанрах, подготавливавших будущий расцвет русского романа в новых условиях и на новых основаниях. В этом плане исключительно велика роль Чехова, хотя он писал пе романы, а рассказы, повести и новеллы. В этих жанрах он освещал проблемы такого характера, которые были «подвластны» русскому классическому роману, а их структура зачастую обладает особенностями миниатюрного романа.
В художественном методе чеховских рассказов и повестей несомненно продолжение традиций русского классического романа, но вместе с тем Чехов и здесь был новатором, сказавшим свое новое слово. Неизменно торжествующая объективность в воспроизведении жизни проникнута внутренним светом, тем пафосом лиризма, который органически присущ русской прозе, русскому роману. Строгая сдержанность, совершенная уравновешенность и удивительная простота повествовательной формы, целостность и единство, полнота художественного воспроизведения, органичность художественного миросозерцания – все это роднит чеховскую прозу с лучшими образцами русского романа XIX века и позволяет сказать об особом значении для Чехова пушкинской повествовательной традиции. Если же обратиться к чеховским принципам изобрая<ения и способам освещения действительности, то следует напомнить глубокую связь Чехова и с гоголевской традицией. Гоголь и Чехов углубляются в обыденную жизнь, в тину повседневных мелочей, и оба честно и откровенно говорят людям, погрязшим в хаосе эгоистических побуяедений, о скуке и позоре их жизни. В. Г. Белинский говорил, что Гоголь разана– томировал жизнь до мелочей и пустяков и придал им общее значение, показав, что на этих пустяках и мелочах вертится целая сфера жизни. Таким методом пользуется и Чехов. Но если Гоголь умел возводить мелочи и пустяк, весь «дрязг жизни» к общему устройству жизни, то Чехов уже идет дальше. В мелочных дрязгах он прозревает необходимость иного порядка жизни.
Итак, необходимо подчеркнуть объективно существующую связь чеховского рассказа с русским общественно – психологическим романом. Но почему же все‑таки Чехов избрал не форму общественно – психологиче– ского романа, а жанр сравнительно небольшого рассказа? Отвечая на этот вопрос в общей форме, следовало бы сказать, что в ту или иную историческую эпоху бывают не только господствующие идеи времени, но и господствующие формы их художественного воплощения. И эти формы художник берет из рук самой действительности, которая их и предопределяет. Здесь существенна роль общественной позиции писателя. Жизнь, сплетенная из мелочей, требовала рассказа, очерка, серии рассказов или очеркового цикла. Но зоркий, проницательный художник Чехов улавливал в этих мелочах и большие, общие процессы. На этой основе он и создавал в 90—900–е годы свои рассказы – романы. Характерно и то, что расширение горизонта вйдения мира у Чехова в эти годы вызывало в нем и потребность непосредственного обращения к роману. [16]16
Более подробно об этом смотри в названной статье Б. И. Бурсова «Чехов и русский роман».
[Закрыть]
Из всего сказанного следует, что судьбы русского романа 80–90–х го дов не могут быть поняты, если оставаться в пределах лишь одного жанра романа и руководствоваться количественным соотношением сил в нем. Важно учесть общие тенденции в критическом реализме конца XIX века, те процессы, которые совершались в прозе таких мастеров, как Успенский, Чехов и Короленко. В истории русского романа XIX века были такие периоды, когда выработка его форм и присущих ему способов изображения жизни совершалась в рассказе и очерке, в повести и новелле. И любопытно, что подобное совершалось в эпохи переломные – в 30–40–е годы, затем в 60–е и, наконец, в 80–90–е годы. В такие периоды малые прозаические жанры расчищали путь для романа. Поэтому речь должна идти не об упадке русского классического романа конца XIX века, а о появлении в русской прозе таких тенденций, которые были симптомом исканий новых форм романа, иных способов изображения жизни. Наиболее бурно, глубоко и разносторонне этот процесс, естественно, должен был обнаружиться в самую критическую эпоху в жизни России, когда она оказалась в преддверии буржуазно – демократической и социалистической революции, и в творчестве такого писателя, который явился буревестником этой революции.
РУССКИЙ РОМАН 1860–1870–х ГОДОВ
ГЛАВА I. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И БОРЬБА ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РОМАН (Г. Е. Тамарченко)1
Наиболее заметное отличие романа 60–х годов, рожденное условиями и потребностями эпохи, было заключено в стремлении полнее и шире развернуть изображение положительных сил общественной жизни. Пока Россия была, по выражению Ленина, «забита и неподвижна», пока общественный застой и политическая реакция определяли духовную атмосферу, в реалистическом романе неизбежно преобладала художественная критика действительности. Именно на этом поприще возникли достижения того реализма, родоначальником которого Чернышевский считал Гоголя: «Кто, кроме романиста, говорил России о том, что слышала она от Гоголя?» – спрашивал он в 1856 году. [17]17
Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 304. Все последующие ссылки на это издание (тт. I‑XVI, 1939–1953) даются в тексте (том и страница); «Что делать?» цитируется по XI тому, в тексте указываются только страницы.
[Закрыть]Исторический оптимизм, вера в скрытые силы народа и в его будущее получали тогда подлинно художественное выражение по преимуществу через энергию отрицания, сказывались в разящей силе художественной критики. Вплоть до 50–х годов преобладание критического начала оставалось незыблемым; недаром лучших писателей, начавших свою литературную деятельность в пред– реформенное десятилетие, – Тургенева, Гончарова, Салтыкова – Щедрина, Григоровича – Чернышевский считал представителями «гоголевского направления», художниками, идущими по пути, проложенному Гоголем.
Неудачи самых гениальных писателей того периода были связаны с их попытками на современном материале художественно воплотить свои положительные идеалы. «Изображение идеалов, – писал Чернышевский, – было всегда слабейшею стороною в сочинениях Гоголя и, вероятно, не столько по односторонности таланта, … сколько именно по силе его таланта, состоявшей в необыкновенно тесном родстве с действительностью… действительность не представляла идеальных лиц или представляла в положениях, недоступных искусству, – что оставалось делать Гоголю?» (III, 10—И). Образы второго тома «Мертвых душ», которые «произошли от сознательного желания Гоголя внести в свое произведение отрадный элемент», не удались, по убеждению Чернышевского, вовсе не случайно – эта закономерность вытекала из содержания эпохи, отраженной в романе; она сказывалась на всем развитии романа этого периода.
В западноевропейском романе первой половины века Чернышевский также отмечал недостаток художественной силы в изображении «отрадных элементов» действительности. Романам Диккенса и Жорж Санд, которые высоко ценили передовые русские люди 40–50–х годов, он придавал то же значение в мировом литературном развитии, какое признавал за творениями Гоголя для России. Вслед за Белинским Чернышевский отводил Жорж Санд и Диккенсу роль лучших романистов века, так как их романы служат «тем идеям, которыми движется век»: они «внушены идеями гуманности и улучшения человеческой участи» (III, 302). [18]18
См. о переводах романов Жорж Санд в 1840–е годы и об отношении Чернышевского к писательнице: А. П. Скафтымов. Чернышевский и Ж. Санд. В кн.: А. П. Скафтымов. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958, стр. 203–227; 3. X. Либинзон. Чернышевский о западноевропейском романтизме. «Ученые записки Горьковского гос. педагогического института им. А. М. Горького», т. 16, Филологическое отделение, 1955, стр. 168–187.
[Закрыть]И все же главную художественную слабость этих романистов Чернышевский видел в неопределенности, экзальтации, мечтательности, недостаточной жизненной достоверности и естественности тех «отрадных элементов» жизни, которые нашли отражение в их произведениях. Эти художественные недостатки, по мнению Чернышевского, перекрываются умением названных романистов откликнуться на самые существенные, назревшие и неотложные потребности общественного развития, глубоким влиянием их на идейную жизнь своего времени (III, 341–342).
Особое значение Диккенса в развитии романа и близость его к интересам русской жизни Чернышевский видел в том, что «это защитник низших классов против высших, это каратель лжи и лицемерия» (I, 358). В Диккенсе Чернышевского привлекали демократическое сочувствие угнетенным низам общества и художественная критика господствующего порядка и господствующей морали. Но и у Диккенса он отмечал бледность и неубедительность «отрадных элементов» в общей картине эпохи, и Диккенса, по его словам, «можно упрекнуть в идеализации положительной стороны жизни» (II, 801). У Диккенса мечтательная сентиментальность связана с представлением о незыблемости, непреодолимости основ господствующего порядка вещей, с неверием в возможность коренного преобразования жизни на началах человечности и справедливости. [19]19
См.: М. Л. Селиверстов. Диккенс и Теккерей в оценке Чернышевского. Фрунзе, 1954.
[Закрыть]
Суждения Чернышевского о русском и западноевропейском романе, и в особенности о Диккенсе и Жорж Санд, важны потому, что они показывают, как понимал он пути развития и задачи современного ему романа. Еще важнее другое: именно в этих романистах, да еще, пожалуй, и в Годвине с его романом «Калеб Вильямс», Чернышевский видел своих предшественников, когда обдумывал роман «Что делать?». На их традиции и завоевания в области социального романа он опирался, их недостатки и слабости хотел преодолеть, для того чтобы сделать следующий шаг в развитии романа, в дальнейшем сближении его с потребностями общественной жизни.
Насколько сознательно и продуманно Чернышевский подходил к этим вопросам, видно из рассуждений Веры Павловны о Диккенсе и Жорж Санд: «Как это странно, – думает Верочка после первой серьезной беседы с Лопуховым, – ведь я сама все это передумала, перечувствовала, что он говорит и о бедных, и о женщинах, и о том, как надобно любить, – откуда я это взяла? Или это было в книгах, которые я читала? Нет, там не то: там все это или с сомнениями, или с такими оговорками, и все это как будто что‑то необыкновенное, невероятное. Как будто мечты, которые хороши, да только не сбудутся!» (56). Верочку Розальскую не удовлетворяет в лучших романах недавнего прошлого то же самое, что Чернышевский – критик расценивал как их слабость, – романтическая экзальтация, излишняя мечтательность и сентиментальность там, где речь идет о вещах, которые представляются автору «Что делать?» и его героине естественной необходимостью, неотложной потребностью современного развитого человека: об уничтожении социального неравенства и зависимого положения женщины, установлении разумных отношений между людьми в общественной и личной жизни, равенстве в любви, солидарности всех членов общества в труде и в быту. Короче говоря, речь идет о необходимости торжества новых принципов в практике жизни, о коренном преобразовании действительности.
Чернышевский утверждает, что все это воспринимается Верочкой как естественные и неотложные потребности ее человеческой природы: «А мне казалось, что это просто, проще всего, что это самое обыкновенное, без чего нельзя быть, что это верно все так будет, что это вернее всего! – продолжает она свои размышления. – А ведь я думала, что это самые лучшие книги. Ведь вот Жорж Занд – такая добрая, благонравная, – а у ней все это только мечты! Или наши– нет, у наших уж вовсе ничего этого нет» (56). В самом тексте «Что делать?» более четко, чем в критических статьях, писанных семью годами раньше, определены различие между Жорж Санд и Диккенсом и общая их слабость с точки зрения Чернышевского: «Или у Диккенса – у него это есть, только он как будто этого не надеется; только желает, потому что добрый, а сам знает, что этому нельзя быть. Как же они не знают, что без этого нельзя, что это в самом деле надобно так сделать и что это непременно сделается, чтобы вовсе никто не был ни беден, ни несчастен. Да разве они этого не говорят? Нет, им только жалко, а они думают, что в самом деле так и останется, как теперь, – немного получше будет, а все так же… А вот он (Лопухов, – Ред.) говорит, что его невеста растолковала всем, кто ее любит, что это именно все так будет, как мне казалось, и растолковала так понятно, что все они стали заботиться, чтоб это поскорее так было» (56).
Таким образом, главная слабость социального романа на Западе заключается, по мнению Чернышевского, в том, что идеи социальной справедливости выступают там как прекраснодушная мечта, не имеющая корней в самой действительности и поэтому не дающая стимула к действию, к практической борьбе за осуществление положительного идеала. Задача русского романа заключалась в том, чтобы показать, как эти идеалы из области сентиментальных мечтаний переходят постепенно в сферу реальной практической деятельности, доступной простым и обыкновенным людям, таким, как Вера Павловна и Лопухов.
Эстетическая задача сводилась, следовательно, к требованию реалистического, свободного от романтической экзальтации и от сентиментальной мечтательности изображения «положительной стороны жизни». Чернышевский стремился создать роман, который был бы реалистичен не только в критике существующего строя, но и в изображении прогрессивных сил общественной жизни, способных бороться за преобразование действительности и несущих в своих характерах и отношениях реальные черты будущего.
Насколько эта задача была осуществима по условиям эпохи и в какой мере писателю удалось осуществить ее в романе «Что делать?». Сама постановка такой задачи стала возможна только благодаря тому соединению интересов демократической революции с идеями утопического социализма, которое было характернейшей исторической особенностью русского революционно – демократического движения 60–х годов. Идеи борьбы за революционный выход из общественного кризиса, имевшие глубокие корни в русской жизни, открывали широкие возможности реалистического изображения действительности. С другой стороны, идеалы социализма, хотя они еще не успели стать массовыми и носили утопический характер, способствовали как революционной критике действительности, так и положительным исканиям в области новых форм общественной жизни.
Крестьянская реформа не разрешила ни одного из коренных противоречий русской действительности, не сняла с повестки дня ни одной из проблем, решения которых требовали интересы развития страны. Поэтому Чернышевский и его единомышленники считали и демократическую революцию делом не только необходимым, но и близким, требующим немедленного практического осуществления. Это оказалось иллюзией, но только в смысле близости исторических сроков. Носители «демократической тенденции в реформе 1861–го года, казавшиеся тогда (и долгое время спустя) беспочвенными одиночками, оказались на деле неизмеримо более „почвенными“, – оказались тогда, когда созрели противоречия, бывшие в 1861–м году в состоянии почти зародышевом». [20]20
В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 90.
[Закрыть]Поэтому пропаганда прямого перехода самых передовых и самых стойких людей к революционной практике и поддержки их деятельности со стороны прогрессивной части русского общества уже в эти годы вовсе не была беспочвенной и бесперспективной. Надежды Чернышевского и героев его романа на массовую крестьянскую революцию не оправдались, но борьба за нее не была исторически бесплодной: «…революционеры играли величайшую историческую роль в общественной борьбе и во всех социальных кризисах даже тогда, когда эти кризисы непосредственно вели только к половинчатым реформам. Революционеры – вожди тех общественных сил, которые творят все преобразования; реформы – побочный продукт революционной борьбы.
«Революционеры 61–го года остались одиночками и потерпели, по– видимому, полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи». [21]21
Там же, стр. 100
[Закрыть]
Создавая своих положительных героев – «обыкновенных новых людей» и «особенного человека», Чернышевский отражал не только вполне реальные, но и самые существенные черты эпохи, выдвинувшей на арену исторической деятельности целый слой разночинной интеллигенции, на сочувствие которой опиралось и из среды которой рекрутировало своих деятелей революционно – демократическое движение. Это был, по выражению Герцена, «новый кряж людей, восставший внизу и вводивший исподволь свои новые элементы в умственную жизнь России… Отщепленцы всех сословий, эти новые люди, эти нравственные разночинцы, составляли не сословие, а среду, в которой на первом плане были учители и литераторы, – литераторы – работники, а не дилетанты, студенты, окончившие и не окончившие курс, чиновники из университетских и из семинаристов, мелкое дворянство, обер – офицерские дети, офицеры, выпущенные из корпусов, и проч.». [22]22
А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30 томах, т. XVII, Изд. АН СССР, М. 1959, стр. 101–102.
[Закрыть]Еще слишком малочисленная для того, чтобы породить массовое движение, но достаточно деятельная и близкая к интересам народной жизни, чтобы представлять эти интересы на общественной арене, эта среда уже вырабатывала свои формы быта, свою мораль, свое отношение к обществу, к народу, к труду, формируя человеческие характеры, совершенно своеобразные, не похожие на передовых людей предшествующей эпохи.
Таким образом, по объективным условиям времени Чернышевский мог в своем романе «Что делать?» избежать недостатков, свойственных романам Жорж Санд, которая, по ее собственным словам, стремилась изобразить человека таким, каким он должен быть, но не таким, каким он представляется глазам читателя. Несмотря на то что главное внимание в романе «Что делать?» сосредоточено на изображении «положительной стороны жизни», Чернышевский мог при этом оставаться на почве реальной действительности, а значит, и в манере воспроизведения ее сохранять естественность и простоту, не впадая в экзальтацию и не становясь на котурны. Именно так понимал свою задачу сам Чернышевский. Он говорит о своих «новых людях»: «Где проглядывает у меня хоть малейшая тень мысли, что они уж бог знает как высоки и прекрасны, что я не могу представить себе ничего выше и лучше их, что они – идеалы людей? … Что они делают превыспреннего? Не делают подлостей, не трусят, имеют обыкновенные честные убеждения, стараются действовать по ним, и только – экое какое геройство, в самом деле! Да, мне хотелось показать людей, действующих, как все обыкновенные люди их типа, и надеюсь, мне удалось достичь этого» (227).








