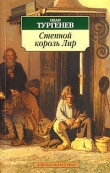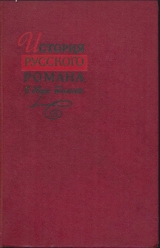
Текст книги "История русского романа. Том 2"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Применяет Тургенев в «Нови» и обычную для него форму самохарактеристики героя (сравни, например, предсмертное письмо Нежданова с прощальным письмом Рудина к Наталье Ласунской). Немало общего с предшествующими романами можно обнаружить в «Нови» и в отношении тургеневского метода построения диалогов и монологов, так же как и в характере их композиционной связи с повествовательными, эпистолярными и лирическими частями произведения. Анализ «Нови» показывает, таким образом, что этот последний роман Тургенева в его основных компонентах не расходится с тем тургеневским типом романа, который был создан писателем еще в 50–х годах.
3
Было бы, однако, ошибкой утверждать, что «архитектура» тургеневской романистики оставалась в «Нови» совершенно той же самой, что и в первом романе Тургенева. В «Рудине» монографический принцип, прокламированный уже самым названием произведения, выдержан был с такою последовательностью, какая не встретится ни в одном из последующих романов Тургенева. Рудин, действительно, единственный бесспорный герой первого тургеневского романа. Там, где Рудин не выступает и не действует сам, о нем говорят, спорят, рассказывают другие персонажи романа. Даже Наталья Ласунская интересует Тургенева только в связи с ее отношением к Рудину: говоря о ее судьбе после разрыва с последним, автор ограничивается лишь беглым замечанием о свадьбе героини с Волынцевым, так же как он это делает в отношении Лежнева и Липиной.
Обстановка сюжетного действия в «Рудине» ограничена двумя помещичьими усадьбами (Ласунской и Лежнева) с небольшим числом их обитателей и гостей (Ласунские, Лежнев, Волынцев, Липина, Пигасов, Папдалевский, Басистов и m‑lle Boncourt). Можно подумать, что вся дворня богатой помещицы Ласунской состоит лишь из того лакея, который докладывает барыне о приезде Рудина. Экономическая основа социальных взаимоотношений в тогдашней русской деревне вообще не раскрыта в первом романе Тургенева. Читатель лишь узнает из него, что Ласунская, несмотря на наличие в ее усадьбе расторопного управляющего, сама распоряжается делами своего поместья, что Лежнев – хороший хозяин, а Пигасов – кулак и ростовщик. Крепостное крестьянство представлено в романе стариком с его больной старухой, которую навещает сердобольная помещица Липина, да деревенской девкой, с которой неудачно заигрывает Пандалевскпй. Совершенно отсутствует крестьянская тема и в тех разговорах, которые ведут между собою персонажи романа, написанного автором «Записок охотника», прекрасно знавшим положение крепостного крестьянства в тогдашней России. Даже общественная среда, сформировавшая духовный мир самого Рудина, представлена в первом романе Тургенева лишь в беглых характеристиках Лежнева, рассказывающего Липиной о студенческой молодости героя.
Избранный Тургеневым объект художественного воспроизведения цредопределял и самую архитектонику его первого романа, сосредоточенного на изображении идеалиста, погруженного в абстрактный мир философских идей и вступающего в неразрешимый драматический конфликт с окружающей его реальной действительностью. Где‑то рядом, за границами романа, своей трудной человеческой жизнью живут закабаленные крепостническим строем крестьяне Ласунской, Лежнева, Волынцева, Липиной и Пигасова, но в самом романе почти нет и признака этой жизни, в нем царят лишь ученая атмосфера возвышенных философских споров, светлая поэзия музыки, поэзия любви, да красота окружающей дворянскую усадьбу облагороженной благоухающей летней природы.
В «Дворянском гнезде» Тургенев, наряду с экономической и моральной деградацией целых дворянских родов (Лаврецких, Пестовых, Кали– тиных, Воробьиных, Кубенских), раскрывает трагическую судьбу двух крепостных крестьянок – Маланьи и Агафьи, выводит образы ряда других крестьян, провинциальных и столичных чиновников (Гедеоновский и Паншин), разночинцев (Михалевич), иностранцев (Лемм, Эрнест, m – г Courtin и Луиза). Романист широко использует политический диалог (между Лаврецким и Паншиным, Лаврецким и Михалевичем, отцом и дедом героя), элементы социально – политической сатиры (образы Гедео– новского, Паншина, княжны Кубенской, французского аббата, генерала Коробьина, Варвары Павловны, ее любовника – француза) и многое другое. Не ограничиваясь политической и любовной сферой, Тургенев в «Накануне» сумел дать глубокий социальный анализ жизни московской дворянской семьи, семьи «отставного гвардии поручика Стахова», ввел в роман университетского ученого Берсенева, скульптора Шубина, обер – секретаря сената Курнатовского, «русскую немочку» Зою Николаевну Мюллер, содержанку Николая Артемьевича – вдову немецкого происхождения Августину Христиановну, компанию московских немцев, отставного прокурора, доктора, портного, нищих, дворню, болгар. Место действия, ограниченное в «Рудине» смежными усадьбами Ласунской и Лежнева да гостиницей города С…, охватывает в «Накануне» Кунцево, Царицыно, московский дом Стаховых, московскую квартиру Инсарова и Венецию. Самое же главное изменение архитектоники третьего тургеневского романа заключалось в том, что образ героя не играет в нем такой организующей роли, как в «Рудине» и «Дворянском гнезде», уступая зачастую свое центральное место героине.
На страницах «Отцов и детей» читатель встречается с разночинцем Евгением Базаровым, с «мягеньким баричем» Аркадием Кирсановым, с его отцом, «красным» помещиком, Николаем Петровичем, с аристократическим Павлом Петровичем, с мачехой Аркадия Феничкой, дочерью простой экономки, с состоятельной барыней, помещицей Одинцовой, с мелкопоместной дворянкой Ариной Власьевной и ее мужем отставным штаб – лекарем Базаровым, с нигилистом – сыном откупщика Ситниковым, с помещицей – ростовщицей Кукшиной, с чиновным кругом губернского города, с дворовыми людьми в имении Кирсановых, с мужиками Арины Власьевны.
Еще богаче и шире охват русской социальной среды в «Дыме». Здесь и обедневшая семья родовитых московских князей Осининых, и придворная знать во главе с самим Александром II, и компания русских реакционных генералов, друзей «либерального» генерала Ратмирова, и «плебействующий» помещик Литвинов, и идеолог крайнего западничества, отставной петербургский чиновник из семинаристов Потугин, и пестрая толпа иностранных гостей баден—баденского курорта, и гейдельбергские политические эмигранты герценовского направления, и многие другие.
Сохраняя в основном поэтику, сложившуюся еще в «Рудине», Тургенев постепенно эволюционировал от жанра социально – психологического романа к роману политическому («Дым» и «Новь»). Однако параллельно этому процессу происходило ослабление социально – политической значимости главного героя, в силу чего последний роман Тургенева приобретает значительно менее монографический характер, нежели первый.
4
Раскрывая идейно – политический замысел своего последнего романа, И. С. Тургенев сделал в разное время несколько многозначительных признаний. В письме к А. П. Философовой от 11 сентября 1874 года он заметил: «Времена переменились; теперь Базаровы не нужны… нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы… Мы вступаем в эпоху только полезных людей… и это будут лучшие люди. Их, вероятно, будет много; красивых, пленительных – очень мало» (XII, 465–466). 3 января 1877 года автор «Нови» разъяснял М. М. Стасюлевичу, что хотел в своем последнем романе «взять молодых людей, большей частью хороших и честных – и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско». [248]248
М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 102–103.
[Закрыть]А за 7 лет до этого, формулируя первую «мысль нового романа», Тургенев писал: «В противу– положность этому («романтику реализма» Нежданову, – Ред.)… надо поставить настоящего практика на американский лад… У него своя ре лигия – торжество низшего класса, в котором он хочет участвовать. – Русский революционер». [249]249
А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева, стр. 108.
[Закрыть]
Несмотря на существенную оговорку о «ненужности» героических натур «теперь», т. е. в 70–х годах, Тургенев, согласно его собственному признанию, заключенному в письме к М. М. Стасюлевичу от 2 января
1880 года, «всегда был… "постепеновцем", либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, – принципиальным противником революций». [250]250
М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 243.
[Закрыть]И это политическое убеждение сказывалось так или иначе во всех его романах. Но вместе с реформистским взглядом на характер общественного процесса Тургеневу были свойственны постоянный интерес и сочувствие к натурам, проявляющим высокую общественную активность, хотя он и желал видеть в них реформаторов – просветителей, а не революционеров.
Взгляды Тургенева на современный ему русский общественный процесс и на роль деятельных натур нашли свое преломление в отношении романиста к его трагическим героям, выраженном зачастую устами его «процветающих» персонажей. Не кто иной, как благоразумный и прозаический Лежнев, говорит в первом романе писателя о Рудине: «В нем есть энтузиазм… мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет! Пора!» (II, 117–118). Легкомысленный Шубин с неожиданной для него серьезностью, восхищением и скрытою завистью замечает в разговоре с Уваром Ивановичем по поводу Инсарова и Елены: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо, хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все равно. А там – натянуты струны, звени на весь мир или порвись!» (III, 138). Именно либеральный «барич» Аркадий говорит Василию Ивановичу Базарову: «Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда‑либо встречался» (III, 288). Тургенев был искренним как в своем органическом неверии в самую возможность победы русской буржуазно – демократической революции, так и в своем преклонении перед героическими характерами конкретных носителей этой революционности– от Елены Стаховой и Евгения Базарова до Марианны, Маркелова, Остродумова и Машуриной. Приведя большую часть своих героев к неизбежной, как ему казалось, гибели, писатель тем пе менее оправдал их перед судом истории именно как героев. Даже Нежданова автор «Нови», объективно говоря, осудил и покарал в романе не столько за его революционную деятельность, сколько за то, что он «двух станов не боец», а следовательно, и не нужен людям.
В «Нови» Тургенев взял актуальную для 70–х годов общественно – политическую проблему и, несмотря на идеализацию соломинской реформистской программы экономического развития России, отдал революционным народникам искреннюю дань уважения за бескорыстную их любовь к трудовому народу.
Общественное, а вместе с тем и художественное значение тургеневских романов было прямо пропорционально большей или меньшей типичности их героев для русской общественной жизни второй половины
XIX столетия. Рудин, например, явился типическим обобщением характера передовой дворянской интеллигенции 40–х годов, художественным образом, созданным писателем в ту эпоху, когда эти люди уже исчерпали свое прогрессивное значение в русском освободительном движении и схо дили с исторической арены, чтобы уступить на ней ведущую роль разночинцам Басистовым.
Характер Федора Лаврецкого, героя «Дворянского гнезда», был достаточно типичным для представителя той поместно – дворянской культуры, лучшие носители которой в 50–х годах не умели устроить сколько‑нибудь удовлетворительно ни своей личной судьбы, ни судьбы зависимых от них масс крепостного крестьянства. Инсаров и Елена Стахова стали типическими выразителями той потребности передовых общественных сил в «сознательно – героических натурах», которая возникла в русском обществе «накануне» новой пореформенной эпохи. Базаров при всех сказавшихся отрицательно на его образе следах полемики Тургенева с «Современником» был и остается до сих пор одним из наиболее ярких художественных воплощений характера демократа – разночинца 60–х годов.
Иначе обстоит дело с «Новью». Образ Нежданова типичен сам по себе, как определенный социальный характер русской общественной жизни, но в освободительном движении 70–х годов он не являлся и не мог являться центральной фигурой, определяющей политическое содержание революционного народничества. Н. Утин, организатор Русской секции Международного общества рабочих, в одной из статей «Народного дела» нарисовал обобщенный портрет представителя Русской секции Альянса социалистической демократии, – портрет, очень напоминающий главными чертами своего характера тургеневского героя. «Хочу быть революционером, – говорит о себе в статье Утииа сторонник бакунинско – нечаевской политической программы, – но не теоретиком, не доктринером, а практиком! Давайте мне дела, дела! Скорее, а то жар остынет! Скажите: что делать? но делать сейчас, и нельзя ли без приготовлений, без труда!». [251]251
«Народное дело», 1869, № 7—10, стр. 159–160.
[Закрыть]
Пламенные речи Нежданова, пронизанные тем же бакунинским призывом к «безотлагательному действию», с последующим ощущением «духовной усталости», вызванной чувством разочарования в реальных возможностях немедленной победы русской революции, – все это показывает, что Тургенев был довольно близок к верному пониманию сторонников нечаевской политической программы в России на рубеже 60–70–х годов. Не противоречат этому толкованию и другие обстоятельства в последнем романе Тургенева, перечисленные в монографии М. К. Клемана: «… обрисованные в романе пропагандисты либо не верят в успех и целесообразность своей деятельности (Нежданов), либо весьма ограничены и являются послушными пешками в руках таинственного, оставленного за кулисами „Василия Николаевича“(Остродумов, Машурина, Маркелов), либо уж ничего общего с народническим движением не имеют и примкнули к нему по совершенно случайным обстоятельствам (Кисляков, Голушкин, Паклин)». [252]252
М. К. Клеман. И. С. Тургенев. ГИХЛ, Л„1936, стр; 199.
[Закрыть]В нечаевском «Катехизисе революционера» имеется специальный параграф, рекомендующий революционной организации в России привлечение и использование в своих интересах именно людей, которые «ничего общего с народническим движением не имеют», вроде купца Голушкина в тургеневском романе.
Тургенев, однако, не собирался превратить свой последний роман в «художественную историю» нечаевской заговорщицкой организации. Перед писателем – реалистом стояла более широкая задача: охарактеризовать революционный процесс первой половины 70–х годов в целом. Нечаев, представленный в «Нови» под именем Василия Николаевича, не случайно оставлен романистом «за кулисами»: обманутая им, по словам К. Маркса, русская революционная молодежь, убедившись на практике в результатах этого обмана, не переставала верить в свои социалистические идеалы, как это и происходит в романе Тургенева с Маркеловым.
Причины трагической судьбы своего последнего героя романист непосредственно выводил из его характера. Характер же Нежданова Тургенев объяснял его социальным происхождением. Об этом свидетельствует выразительный диалог Паклина и Нежданова: «—Ну, брат, – промолвил Паклин, – я вижу: ты хоть и революционер, а не демократ!
«– Скажи прямо, что я аристократ!
«– Да ты и точно аристократ… до некоторой степени.
«Нежданов принужденно засмеялся» (IV, 202).
И автор «Нови» недвусмысленно солидаризуется с отзывом своего персонажа: «Паклин недаром обзывал его аристократом; все в нем изобличало породу». Романист прямо отмечает, что «фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые Сталкивались в его существе». Ни у Остродумова, ни у Машуриной не было этих неждановских противоречий, а потому и той трагической судьбы, которая определяется его положением «ни павы ни вороны» по отношению к обоим социально – политическим лагерям. Характер Нежданова в «Нови» оказался не типичным, для того чтобы представлять революционно – демократический лагерь 60–70–х годов, что и обусловило в конечном счете слабую сторону последнего тургеневского романа.
М. Драгоманов вспоминает о своей беседе с великим русским романистом: «Разговор пошел главным образом о „Нови“, причем Тургенев рассказал, что смысл романа пострадал много от выпуска цензурою двух сцен: одной, где изложен разговор Меркулова с губернатором после ареста, а другой (целая глава), в которой описано „хождение в народ“ Марианны. Эта Марианна, как женщина, оказалась более способною подойти к будничной жизни крестьян, чем переодетые студенты, – и возбудила к себе более симпатии и доверия мужиков. Правда, они сразу догадались, что эта барышня, однако толковали с нею по душе, – и один старик сказал ей: „это все правда, барышня, что ты говоришь о том, как нас обижают баре; мы это и сами знаем, – да ты научи, как нам избавиться от всего этого“». [253]253
Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892, стр. 222.
[Закрыть]
Ни тургеневская героиня, ни революционные народники 70–х годов не смогли «этому» научить русского мужика. Тургенев попытался предложить в своем последнем романе вместо революционной народнической «сохи» реформистский «плуг» соломинской программы народного «просвещения». Ни та, ни другая программа не нашли, однако, сочувственного отклика в мужицком сердце. История доказала, что учителем и революционным вождем крестьянства, способным привести трудовые массы к свержению эксплуататорского строя, мог быть только русский рабочий класс, сливший свою экономическую борьбу против капиталистов с социалистической сознательностью и политической борьбой революционно – марксистской интеллигенции.
В письме И. С. Тургенева к К. Д. Кавелину от 17/29 декабря 1876 года имеется знаменательное в этом отношении признание автора «Нови»: «Быть может, мне бы следовало резче обозначить фигуру Павла, соломинского фактотума, будущего народного революционера, но это слишком крупный тип, – он станет со временем (не под моим, конечно, пером – я для этого слишком стар и слишком долго живу вне России) центральной фигурой нового романа. Пока – я едва назначил его контуры» (XII, 498).
В знаменитой речи, прочитанной Тургеневым 7 июня 1880 года по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, русский романист, говоря о своем великом учителе, отметил, что «прошедшее жило в нем такою же жизнью, как и настоящее, как и предсознанное им будущее» (XI, 218). Этим чувством исторической перспективы обладал и сам Тургенев. Еще в «Рудине» рядом со сходящим с исторической арены представителем дворянского идеализма 40–х годов романист показал фигуру «будущего деятеля» в лице разночинца Басистова, хотя в первом своем романе он «едва назначил его контуры». В эпилоге «Дворянского гнезда» Федор Лаврецкий, сходя со сцены, пушкинскими словами приветствует будущее в лице молодого поколения Калитиных и их юных друзей. В «Накануне», нарисовав во весь рост энергичную фигуру болгарского революционера Инсарова, на вопрос Шубина: «Когда же наша придет пора? Когда у нас народятся люди?» – автор, устами Увара Ивановича, уверенно ответил: «Дай срок… будут». Базарова Тургенев сам называл «провозвестником», «фигурой, стоящей в преддверии будущего». В приведенном выше письме к Кавелину автор «Нови» объявил «крупным типом» «будущего народного революционера» не народника и не культуртрегера Соломина, а сознательного фабричного рабочего Павла, назвав его «центральной фигурой нового романа».
Историческое чутье «предсознанного будущего» не изменило Тургеневу и в этой его догадке. Прошло 30 лет с тех пор, как были сказаны вещие тургеневские слова, и другой русский писатель – А. М. Горький действительно сделал фигуру фабричного рабочего Павла «центральной фигурой нового романа» – пролетарского социалистического романа XX века.
1
«Обрыв», задуманный в конце 40–х годов, органически связан с предшествующими частями гончаровской «трилогии», особенно с романом «Обломов». Гончаров усматривал черты обломовщины не только в бытии помещика Ильи Ильича, но и в других сферах жизни. В романе «Обрыв» он показал ту же обломовщину, но более утонченную, в столичных аристократических кругах, в особенности в артистической натуре Райского. Учитель Козлов, товарищ Райского, олицетворяет судьбу науки в обломовском обществе, глубоко равнодушном к ней. И Малиновка, имение Бережковой, должно было явиться той же Обломовкой, но в другую эпоху жизни, в момент наступления кризиса, пробуждения. Вместе с тем «Обрыв» связан и с «Обыкновенной историей». Борис Райский не только, как говорил Гончаров, сын Ильи Обломова, он находится в не менее тесном родстве и с романтиком Александром Адуевым.
Исследователи Гончарова установили, что в статье В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» высказаны идеи, которые романист развивал не только в «Обыкновенной истории» (о характере романтика) и в «Обломове» (возможное опошление романтика), но и в «Обрыве». Великий критик с огромной проницательностью обрисовал в своем обзоре психологический тип художника – романтика и дилетанта, который был позже изображен Гончаровым в Борисе Райском.
Им присуща «нервическая чувствительность», они «богато одарены от природы душевными способностями», «много понимают, но ни один не способен что‑нибудь делать» – так характеризует Белинский худож– ников – романтиков. Продолжая эту характеристику художника – романтика, критик пишет: «Он немножко музыкант, немножко живописец, немножко поэт, даже при нужде немножко критик и литератор, но все эти таланты у него таковы, что он не может ими приобрести не только славы или известности, но даже вырабатывать посредственное содержание». Художники – романтики, говорит Белинский, «обнаруживают тонкое понимание неопределенных ощущений и чувств, любят следить за ними, наблюдать их»; из «всех умственных способностей в них сильно развиваются воображение и фантазия, но не та фантазия, посредством которой поэт творит, а та фантазия, которая заставляет человека наслаждение мечтами о благах жизни предпочитать наслаждению действительными благами жизни»; «от природы они очень добры, симпатичны, способны к великодушным движениям»; «фантазия в них преобладает над рассудком и сердцем»; «сердце их… скоро скудеет любовью, и они делаются ужасными эгоистами и деспотами»; «они были захвалены с ранних лет и сами о себе возымели высокое понятие»; «легкие и мало заслуженные блестящие успехи усиливают у них самолюбие до невероятной степени»; но это самолюбие «в них бывает всегда так замаскировано, что они добросовестно не подозревают его в себе»; «они долго бывают помешаны на трех заветных идеях: это – слава, дружба и любовь». [254]254
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, Изд. АН СССР, М., 1956. стр. 332, 333.
[Закрыть]
В этих проницательных характеристиках предвосхищена целая программа возможного поэтического воплощения образа художника – ро– мантика и дилетанта. Белинский воспроизвел определенный психологический тип. Он дал не отдельные, разрозненные черты романтика– дилетанта, а целую их систему, законченно рисующую психологический тип в его индивидуальном выражении. Критик поставил этот тип в характерные для него ситуации, как бы предвосхищая или подсказывая сюжет возможного романа о художнике – романтике.
Первоначально Гончаров думал посвятить свой роман исключительно раскрытию своеобразия артистической натуры и предполагал назвать его «Художник» (или: «Райский», «Художник Раский»).
Однако было бы ошибочным полагать, что образ Бориса Райского возник лишь под влиянием статьи В. Г. Белинского. Факты говорят о том, что замысел романа о художнике – дилетанте сложился на основе широких жизненных наблюдений. Романист указывал на его конкретные прототипы. В одном из писем к Е. П. Майковой писатель так комментирует образ Райского: «В Райском угнездились многие мои сверстники (вроде, например, В. П. Боткина, самого Т.)». Некоторые исследователи считают, что Гончаров, указывая на «Т.», имел в виду Ф. Тютчева. Но следует предположить, что речь здесь должна пдтп об И. С. Тургеневе. [255]255
См.: Н. И. Прудков. В. П. Боткин и литературно – общественное движение 40–60–х годов XIX столетия. «Ученые записки Грозненского гос. педагогического института», № 3, 1947, стр. 115
[Закрыть]Очевидно это так и было, если принять во внимание характер отношений Гончарова и Тургенева. Но автор «Обрыва» говорит в статье «Лучше поздно, чем никогда» о жизненной основе образа Райского и в более широком плане. «Б Райского входили, – пишет он, – сначала бессознательно для меня самого, и многие типические черты моих знакомых и товарищей». Образом Райского автор указал на судьбу искусства, попавшего в руки дилетанта и барина. В качестве примеров дилетантского отношения к искусству Гончаров называет графа Виельгорского, от которого в музыке ждали чего‑то серьезного, а он сочинил «один хорошенький романс». Вспоминает романист и Тютчева, обладающего необыкновенной силой лирического пафоса, но написавшего «всего десятка два прекрасных стихотворений». Говорит Гончаров и о князе Одоевском, человеке с многосторонним образованием, но создавшим несколько «легких рассказов». [256]256
И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М., 1955, стр. 84 (см. также в статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“» на стр. 215). Все последующие ссылки на это издание (тт. I‑VIII, 1952–1955) даются в тексте (том и страница).
[Закрыть]
Итак, несомненна широкая жизненная основа образа Бориса Райского. Гончаров признавался также и в том, что в образе художника он запечатлел свои собственные черты. Следует иметь в виду, что приведенная выше характеристика Белинским художника – романтика и дилетанта основывалась не только на личных наблюдениях критика, но прежде всего на анализе психологии литературного героя Але ксандра Адуева. Следовательно, романист независимо от Белинского и раньше его (в романе «Обыкновенная история») проник в тайну натуры художника – романтика. И очень важно отметить объективное совпадение взглядов писателя и критика. Можно с уверенностью сказать, что, обратившись к созданию романа о художнике в 1849 году, Гончаров вновь вернулся к образу Александра Адуева и к статье Белинского о нем. Но указанное совпадение взглядов Белинского и Гончарова не было абсолютным уже в эпоху «Обыкновенной истории». Тем более оно было относительным в эпоху создания «Обрыва», замысел которого хотя и возник в 40–е годы (образ Райского, в частности, явился в сознании романиста в 1849 году), но осуществлялся значительно позже, в разгар общественной и идеологической борьбы 60–х годов.
К концу 1861 года И. А. Гончаров закончил вчерне первые три части «Обрыва». Затем наступил период выработки новой программы романа, осмысление заново драмы Веры. К сентябрю 1867 года весь роман был закончен в черновой редакции, а в апреле 1869 года он был завершен окончательно и появился в том же году на страницах «Вестника Европы» (№№ 1–5). В 1870 году «Обрыв» вышел отдельным изданием с предисловием Стасюлевича.
Творческая история «Обрыва», воссозданная Н. К. Пиксановым и
А. Г. Цейтлиным, а в последнее время О. Чеменой, убеждает, что идейнохудожественная концепция романа менялась в ходе длительной и крайне мучительной для автора работы над ним именно под влиянием принципиальных сдвигов в общественной и идеологической жизни России начала 60–х годов. К этому моменту вполне определилась общественная позиция Гончарова, [257]257
Она получила наиболее отчетливое выражение в известном письме Гончаровп к Некрасову от 22 мая 1868 года.
[Закрыть]сформировался его нравственно – эстетический идеал. То и другое не было лишено глубоких и острых противоречий. Демократизм, гуманистический пафос видны и в романе «Обрыв». Иначе невозможно было бы создать замечательный образ Веры, критически изобразить всероссийский застой, развенчать провинциальный консерватизм, показать барскую природу дилетантски – артистической натуры Райского, бесплодность его метаний, легковесность его либеральной фразы, выразить глубокую симпатию к рядовым разночинцам – труженикам, подметить много верных черт крепостного быта, сформулировать, наконец, реалистическую программу романического искусства. Но если роман брать как нечто единое, видеть в нем целостную картину всего процесса жизни, то становится очевидным, что идеалы автора, оценка изображенной им в пятой части романа драмы Веры оказались ограниченными и противоречивыми.
Известно, что общественная позиция Гончарова 60–х годов отличалась политической умеренностью, ограниченным буржуазным либерализмом, в ней обнаружилась консервативная тенденция. Опубликованный им ро ман «Обрыв» вызвал бурю гнева и протеста в кругах демократической России. Она отвернулась от Гончарова. Вся его творческая деятельность и его личность стали рассматриваться и оцениваться под углом зрения этого романа и даже уже – с точки зрения того, как в романе дан образ нигилиста Марка Волохова. Революционно – демократическая Россия увидела в этом образе злую клевету на русского революционера, жалкую карикатуру на философию и мораль «новых людей», а в его создателе – человека, похоронившего себя навсегда для дела прогресса. Критика демократического лагеря не заметила сильных сторон романа «Обрыв». Все это явилось источником большой драмы в отношениях художника с современной ему действительностью. Но последующий ход русской жизни внес в эти драматические отношения серьезнейшие поправки, отбросив и заставив забыть то, что диктовалось временем, обстоятельствами идейно – общественной борьбы 60–х годов.
Да, автор «Обрыва» находился в значительной зависимости от «философии» уличной толпы, во власти ее примитивных, вульгарных суждений о русском нигилисте. И он, действительно, внес в образ Марка Волохова нечто от представлений этой толпы. Но Гончаров был великим реалистом, правдивым художником, страстным искателем истины. И поэтому в образе Волохова заключалась и известная историческая правда.
Из романа становится ясно, почему страстную в исканиях, пытливую и проницательную, самобытную и героическую Веру мог серьезно увлечь Марк Волохов. Это увлечение вполне понятно, оно естественно оправдано. Вера видит односторонность Марка, она не принимает его пренебрежения к человеческому началу в отношениях между людьми, его безусловного отрицания старой правды. Но в идеях Волохова она чувствует и какую‑то привлекательную правду, а в личности молодого проповедника– силу. Рисуя Волохова, Гончаров все же невольно передал обаяние сильной, честной, прямой, цельной и смелой личности, личности принципиальной в решении вопросов жизни. Марк в своих отношениях с Верой добивается победы не только над ее сердцем, но и над ее идеями, над ее разумом и совестью. И она со своей стороны не считает себя вправе отдаться любимому человеку без обращения его в свою веру. В этом вопросе оба героя поставлены мудрым романистом очень высоко, и они вполне достойны друг друга. И попробуйте после всего этого поставить рядом с бездомным нигилистом Марком художника – барина Бориса Райского, посмотрите на его отношения с женщиной. Он тоже просветитель женщин, но для себя, а не во имя идей. И соблазнителем в романе оказывается не «ужасный реалист» Волохов, а именно романтик Райский. Последний высказывает очень смелые мысли о крепостном праве и паразитизме аристократов, о деспотизме помещиков и необходимое свободы личности, человеческих отношений. Герой Гончарова независим от дворянских традиций и предрассудков, ему известны идеи социализма и коммунизма. С негодованием он говорит о спящей, косной России, мечтает о ее пробуждении, мечтает посвятить свои силы борьбе за обновление родины. Но в своем высоком полете идей и мечтаний Борис Райский остается тем же дилетантом, каким он был и в искусстве. Его смелое и насмешливое слово никогда не ведет хотя бы к попытке какого‑нибудь дела, практического общественного дела. Он весь ушел в «поэзию страстей», над которой смеется Марк Волохов. Гончаров показал, в какое индифферентное, эгоистическое и беспочвенное существо превратился «лишний человек», герой 40–х годов. Автор «Обрыва» более суров, чем Тургенев (в романе «Рудин») и Герцен (в романе «Кто виноват?»), в своем ироническом отношении к дворянскому герою. И здесь он при близился к той концепции «лишнего человека», которую развивал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Неудивительно, что Райский не может увлечь Веру, не может указать ей на конкретное дело. Симптоматично, что героиня Гончарова (как и Тургенева), одухотворенная поисками новых путей жизни и идеала счастья, тянется к революционеру, у него пытается найти ответы на запросы жизни.