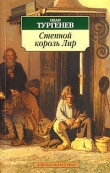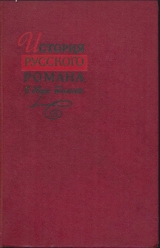
Текст книги "История русского романа. Том 2"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
А. К. Шеллера – Михайлова, от кающихся и изломанных героев Д. Мордовцева, Н. Успенского. Омулевский сумел показать революционера во весь рост, в становлении его характера, как натуру глубокую и цельную, внутренне гармоническую, несгибаемую и целенаправленную в любых обстоятельствах. Светлов прекрасно знает жизнь и людей, у него практический, трезвый взгляд на русскую действительность, он противник чисто книжных идей, он ратует за идеи, добытые в тяжелой внутренней борьбе. Герой Омулевского закаляет свой характер, считая, что в характере человека многое зависит от усилий самого человека. Светлов умеет пробуждать и убеждать других силой своей логики, слова, личного примера, фактами жизни. Здесь он очень похож на пропагандиста Лопухова. Своей пропагандой он склоняет на свою сторону родную семью, заставляет ее признать свою правоту. Александр Светлов собирает людей, делает их своими единомышленниками. Автор показывает революционера, говоря словами Чернышевского, в «простых человеческих чертах». [135]135
Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М„1949, стр. 480.
[Закрыть]Александр Светлов проведен Омулевским «через всю его домашнюю обстановку, через все ее мелочи». [136]136
И. В. Омулевский. Шаг за шагом, стр. 366.
[Закрыть]
Омулевский смягчил ригоризм своего героя, во всех подробностях обрисовал его гибкую тактику убеждения и примера в отношениях с отцом и матерью. Железная несгибаемость характера, выдержка сочетаются в нем с ласковой мягкостью, эластичностью натуры. Автор романа «Шаг за шагом» преодолел и изображение традиционного аскетизма в образе революционера. Омулевский показал интимные отношения Светлова, нарисовал и индивидуальные особенности его характера. Он любит женское общество, у него блестящая внешность, «аристократизм демократа», обаятельность. Светлов знает, что он принадлежит не себе, а обществу, делу, а поэтому не считает возможным связывать свою судьбу с судьбой другого человека. Однако эта логика революционера не приобретает у него того смешного или уродливого, аскетически – мрачного смысла, который был так присущ многим «новым людям». Жизнь научила Светлова понимать, что «никакая логика не устоит перед… гордой, страстно любящей женщиной». [137]137
Там же, стр. 234.
[Закрыть]
Н. Щедрин, положительно оценив роман Омулевского «Шаг за шагом», отметил, однако, в нем «недостаток объективности», который «восполняется… лиризмом». [138]138
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 443.
[Закрыть]Лиризм в изображении «новых людей» действительно составляет существеннейшую особенность романа Омулевского. С точки зрения Н. Щедрина, появление лиризма «вполне объяснимо», если учесть, что действительность еще не давала всех возможностей для образного воспроизведения людей, подобных Светлову. Характер той же самой действительности привел Омулевского и к идеализации революционеров. Лиризм и служил формой выражения этой идеализации. В романе допролетарского периода всегда была возможна подобная идеализация образа революционера. Но эта идеализация особого рода, она относительна и является средством пропаганды «новых людей» в широких кругах читающей публики. Она, однако, могла привести и к тому, что автор невольно начинал ставить своего героя на пьедестал, на «недосягаемую высоту нравственной чистоты». [139]139
И. В. Омулевский, Шаг за шагом, стр. 318.
[Закрыть]Так и случилось с Омулевским. Его Светлов оказался «выдающейся из среды личностью». [140]140
Там же, стр. 174.
[Закрыть]Не исключено, что здесь сказалось известное влияние «Исторических писем» Лаврова на автора романа «Шаг за шагом». Но и независимо от этих писем, следуя логике своего романа и испытывая зависимость от характера современной ему действительности, Омулевский мог прийти к подобному пониманию образа революционера.
Революционная борьба допролетарского периода знала не только трагедию борьбы без народа, но и ее следствие – трагедию мученичества, жертвенности. Этот элемент и привносит Омулевский в образ Александра Светлова, где он служит той же самой идеализации героя. Тем самым Омулевский открывает путь для изображения революционеров народовольческого толка («Андрей Кожухов» С. М. Степняка – Кравчинского). Светлов говорит Прозоровой, что каждый мужчина «может сделать то же, что сделал Христос: может страдать и умереть, как он, отстаивая на практике великие христианские истины». [141]141
Там же, стр. 194.
[Закрыть]Характерно, что Прозорова после разговора со Светловым о цели борьбы обращается к евангелию и в нем находит подкрепление воодушевляющим словом о принесении себя в жертву ради других. Все это потрясло Прозорову. В бреду она видит Светлова распятым на кресте. [142]142
Там же, стр. 200, 207.
[Закрыть]Не следует, однако, преувеличивать значение элемента жертвенности в образе революционера Светлова. Жертвенность не является основой характера героя. Его конкретные действия, отношения с людьми, вся его философия жизни рассмотрены и оценены автором не с точки зрения теории искупительной жертвы. Ничего фанатического нет в образе Александра Светлова. Если Лавров призывал, что «нужны мученики», [143]143
П. Л. Лавров. Исторические письма, стр. 140.
[Закрыть]то Омулевский в образе Светлова создал не мученика, а революционера – просветителя, определяющие черты которого роднили его с «новыми людьми» Чернышевского.
8
В другом значительном произведении 70–х годов о «новых людях» – в «Эпизоде из жизни ни павы, ни вороны» (1877) А. Осиповича – Новод– ворского, беллетриста школы Н. Щедрина, проведено с последовательной полемичностью и исторической истинностью размежевание между двумя типами героев – «лишним человеком» и революционером. Повесть
А. Осиповича построена в форме сопоставления жизненных судеб двух противоположных героев. И очень характерно, что эта противоположность судеб ярко выразилась в разных связях героев с народом, с трудом народа. Народ и революционер – определяющий аспект изображения жизни в рассматриваемой повести. Преображенский, один из ее героев, – «ни пава, ни ворона», внук Демона и сын Печорина, брат, с одной стороны, Рудина, с другой – Базарова. Эта генеалогия героя определяет весь его духовный облик. Он оказался героем распутья, «лишним человеком», неспособным встать на здоровую почву трудовой народной жизни. Преображенский остро осознает несправедливость окружающей жизни. Потомок «лишних людей» оказался разночинцем. Разночинские черты героя сконцентрированы в его поисках прочной опоры в народе – он пошел в народ. Но эти черты у Преображенского сочетаются с чертами человека рудинского и даже обломовского типа, с чертами «лишнего человека». Мечтательность и созерцательность, крепкая связь с прошлым и крайнее самолюбие делают его бессильным перед реальной действительностью. От чувства возмущения он не может перейти к делу, к борьбе. А. Осипович, по словам М. Горького, как бы предупреждает разночинцев об опасности оказаться в трагическом положении умного человека, не имеющего опоры в жизни, в народе. [144]144
См.: М. Горький, Полное собрание сочинений, т. 24, 1953, стр. 475; История русской литературы. ГИХЛ, М., 1939, стр. 269.
[Закрыть]Противоположен Преображенскому Печорица – натура монолитная, духовно и физически сильная, свободная от рефлексии и разочарования, от трагического чувства одиночества, разрыва с делом народа. Печорица не имеет родственных связей с «духом отрицания и сомнения», с настроениями «лишнего человека» или кающегося и опрощающегося барина. Он живет трудовой жизнью народа. Этот положительный герой А. Осиповича пользуется огромным авторитетом у народа, его любовью, он защитник и советчик народа. Автор подчеркивает в нем способность плодотворно влиять словом и делом на весь ход народной жизни. Печорица – враг дворянской культуры, барской филантропии. Он полемизирует с вернувшейся в Россию Еленой Инсаровой, которая поглощена филантропической и просветительской деятельностью. Полемика эта (как и самобичевание Теребенева в романе Слепцова «Хороший человек») указывает на необходимость иных, более решительных и действенных способов служения народу и воздействия па ход его жизни.
Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» оказала огромное влияние на формирование проблематики, образа положительного героя и сюжета романа о «новых людях». Роман Благовещенского «Перед рассветом» как бы задуман по канве добролюбовской статьи. Но с еще большей отчетливостью связь со статьей Добролюбова видна в повести А. Осиповича «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны». Современники называли Печорицу русским Инсаровым. Ходом сюжета своей повести Осипович отвечает Добролюбову и полемизирует с Тургеневым. Его Елена Инсарова отказывается от филантропии и идет за Печорицей. Повесть Осиповича полемична и по отношению к народничеству, к образу Нежданова из романа Тургенева «Новь». Осипович снижает теории и героев народнического движения. В «Эпизоде» воспроизведены две сцены, раскрывающие два возможных народнических варианта отношений интеллигента и– народа. В одном случае мечтатель Преображенский представляет себя исключительной личностью, стоящей над толпой, командующей ею. В другом случае Преображенский со «сладострастным опьянением» делает попытку совершенно слиться с народом, стать чернорабочим. Осипович иронически изобразил эти две типично народнические трактовки отношений интеллигенции и народа, противопоставив «забавам» Преображенского успешную и полезную для народа деятельность революционного демократа Печорицы. Из повести видно, что эта легальная работа в народе не самоцель, а средство практического сближения с народом. Для настоящего революционера такое завоевание доверия народа является залогом успешного осуществления его конечных революционных целей.
Обобщающую картину идейного движения 60–х годов дал Н. Флеров– ский в своем оригинальном романе – трактате «На жизнь и смерть» (1877). В подзаголовке романа значится: «Изображение идеалистов». И. Флеровский представил «новых людей» как идеалистов. И в этом был заложен глубокий смысл. Жизнь не для себя, а для других, для человечества. для благородных идей, во имя поисков счастья для всех, а прежде всего для трудового народа – такова основная черта героев Н. Флеровского. Автор сумел передать страстность, самозабвение, бескомпромиссность и мужество целого поколения разночинцев, воодушевленных борьбой с действительностью, поисками путей служения народу, совершенствования человеческой природы. В романе «На жизнь и смерть» существенно именно то, что идейно – нравственные искания пред-
етавителей передовой интеллигенции даны в связях с жизнью народа (крестьянства, рабочих). Писатель – публицист показал пробуждение и рост масс, работу интеллигенции в массах. Некоторые его герои (учитель Испоти) становятся душой народного движения.
Роман Н. Флеровского с точки зрения художественного мастерства имеет существенные недостатки. «На жизнь и смерть» даже нельзя назвать романом в строгом смысле слова. Это именно публицистический трактат о народной жизни и об идейно – нравственных исканиях 60–х годов. Художественная часть его является лишь иллюстрацией движения идей и развития жизни. Но самые эти недостатки, отступления от обычной романической системы свидетельствуют о стремлении автора найти такую новую форму беллетристического повествования, которая позволила бы раскрыть духовный мир разночинной интеллигенции и начавшееся пробуждение масс, процесс сближения интеллигенции и народа.
Заслуга писателей – демократов, изображавших «новых людей», состоит в том, что они создали роман и повесть о разночинце, о новой социальной силе, выступившей на арене идейных исканий и общественной борьбы, сменившей дворянского героя предшествующей эпохи. Передовые разночинцы искали опоры в народе. В то время народ в массе своей не понял и не поддержал социалистов, революционеров, «новых людей». Но весь социальный опыт героической эпохи «бури и натиска» имел исключительное значение для последующих поколений борцов, для революционной социал – демократии.
Н. Г. Чернышевский, властитель дум передовых сил русского общества второй половины XIX века, повлиял, как рассказывает Н. К. Крупская, на В. И. Ленина «своей непримиримостью, своей выдержанностью, тем, с каким достоинством, с какой гордостью переносил он свою неслыханно тяжелую судьбу». [145]145
Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1932, стр. 230.
[Закрыть]Заслуга Чернышевского, по мнению В. И. Ленина, заключалась в том, что он в своем романе «Что делать?» и своим личным поведением показал, «каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления». [146]146
Рассказ В. И. Ленина в записи В. В. Воровского. Журнал «Москва», 1958, № 4, стр. 42.
[Закрыть]Об этом же рассказывают и лучшие последователи Чернышевского в своих романах и повестях о «новых людях».
Славные революционные традиции 60–70–х годов и революционно– демократическая литература этой эпохи имели выдающееся значение в подготовке предпосылок к созданию образа революционера писателями пролетарской демократии. Горький, впервые создавший образ пролетарского революционера, чувствовал свою кровную связь с эпохой 60–70–х годов и постоянно обращался к опыту писателей этого периода, рекомендовал молодым советским писателям учиться у них искусству исчерпывающего и глубокого знания народной жизни.
ГЛАВА III. АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН (Ю. С. Сорокин)1
Появление «Что делать?» и других романов о «новых людях» вызвало бешеную злобу в реакционных кругах. Ответом дворянско – монархической реакции на демократический роман 60–х годов явился так называемый антинигилистический роман. Под этим названием обычно понимают произведения, принадлежащие различным писателям реакционного и отчасти либерального направлений и враждебные революционно– демократическому движению 60–70–х годов.
У антинигилистической беллетристики есть своя «история», она пережила характерную эволюцию, обусловленную сложной обстановкой борьбы между демократическими и реакционными силами в течение двух десятилетий, от 19 февраля 1861 года до 1 марта 1881 года.
В этом движении антинигилистической беллетристики можно наблюдать три волны. Первая из них возникла в непосредственной связи с начавшимся наступлением реакции после окончания первой революционной ситуации 1859–1861 годов. Майские пожары 1862 года, а затем польское восстание 1863 года послужили сигналом для систематической травли демократических сил. По меткому ироническому замечанию Щедрина, в литературе появляется «соглядатайский элемент»; [147]147
Н. Салтыков (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т VI Гослитиздат, М., 1941, стр. 293.
[Закрыть]«образовалась целая литература, поставившая себе целью исследовать свойства ядов, истекающих из молодого поколения, или, лучше сказать, не исследовать, а представить в живых (более или менее) образах, что молодое поколение никуда не годно, что оно не имеет будущего и что оно сплошь одарено способностью испускать из себя гангрену разрушения. Бессмысленное слово „нигилисты“ переходит из уст в уста, из одного литературного органа в другой, из одного литературного произведения в другое. Беллетристы положительно упитываются им… Все спешат напитаться от убогой трапезы нигилистской!». [148]148
Там же, стр. 318.
[Закрыть]
Важнейшими произведениями этой антинигилистической литературы «первого призыва» являются «Взбаламученное море» Писемского (1863), а после подавления польского восстания– «Некуда» Лескова и «Марево» Клюшникова (1864). Замыкает эту первую «очередь» антинигилистических произведений дилогия В. Авенариуса «Бродящие силы» (повести «Современная идиллия», 1865, и «Поветрие», 1867).
Вторая волна антинигилистической беллетристики подымается с конца 60–х – начала 70–х годов. Это были годы, очень трудные для революционно – демократических сил. После покушения Каракозова 4 апреля 1866 года на революционную молодежь обрушились новые репрессии.
Демократическая печать лишилась своих основных органов – «Современник» и «Русское слово» были закрыты. Крестьянское движение со второй половины 60–х годов явно пошло на убыль. В этих условиях сохранившиеся силы революционной молодежи искали новых форм борьбы. В студенческой среде организуются нелегальные группы. Распространение получают идеи индивидуального террора, анархистско– бунтарские замыслы. Большой шум вызвало дело нечаевской организации, разгромленной властями в 1869 году. Нечаевщина, допускавшая для достижения революционных целей методы индивидуального террора, шантажа, запугивания и шпионажа, была использована реакцией для дискредитации демократического движения. В антинигилистических романах 1869–1875 годов предпринимается новая попытка опорочения поколения 60–х годов, попытка приписать отрицательные черты нечаев– щины всему демократическому лагерю. Именно в эти годы и складывается окончательно тип антинигилистического романа с присущими ему политическими концепциями, сюжетными схемами и стилистическими шаблонами. В эти годы появляются роман «На ножах» Лескова (1870–1871), дилогия Вс. Крестовского «Кровавый пуф» (романы «Панургово стадо», 1869 и «Две силы», 1874), роман Маркевича «Марина из Алого Рога» (1873), роман – памфлет В. Мещерского «Тайны современного Петербурга» (1876–1877) и др. Материалы нечаевского процесса широко использованы в романе Достоевского «Бесы» (1871).
Наконец, третья волна антинигилистической беллетристики возникает в связи со сложившейся в конце 70–х годов второй революционной ситуацией и захватывает время с 1880 по 1885 год, т. е. период наибольшего подъема народовольческого движения, растерянности самодержавия во время так называемой диктатуры сердца Лорис – Меликова и после убийства Александра II, а также последовавшего затем нового наступления реакции, кризиса и разложения революционного народничества.
Антинигилистичес’кая беллетристика этих лет занята уже не только изображением революционно – демократического движения 60–х годов – она переносит сложившиеся приемы памфлетно – карикатурного воспроизведения нигилпстов на народников, на членов организации «Народная воля». Авторы этих романов выступают с крайне реакционных аристократических позиций. Именно здесь особое значение получает критика петербургской администрации справа. Романистами этого «призыва» предпринимается отчаянная попытка создать «положительного героя» в духе программы Каткова и Победоносцева. Вместе с тем это и последняя попытка оснастить антинигилистический памфлет психологическим антуражем, подделаться под большой реалистический роман с его широкими рамками охвата современной действительности.
Таковы два последних романа Б. Маркевича– «Перелом» (1880–1881) и особенно «Бездна» (1883–1884), роман В. Авсеенко «Злой дух» (1881–1883), роман К. Орловского «Вне колеи» (1882) и др.
Серией этих произведений антинигилистическая беллетристика 60–80–х годов исчерпала себя. В них особенно наглядно обнаруживаются за благообразным фасадом психологического романа – хроники типичное эпигонство, беспомощное повторение избитых приемов, характеров и ситуаций.
Итак, антинигилистические романы и повести – это произведения, ставящие своей первой и основной целью осуждение и компрометацию демократического движения – вначале революционных демократов 60–х годов, а затем народников 70–х годов. Это романы с ярко выраженной реакционной, охранительной, как тогда говорили, тенденцией. Их отрицательные герои – нигилисты и народники, их положительный герой – охранитель, реакционер, рьяно защищающий старые устои – православие и самодержавие. Их идеология проникнута реакционным шовинизмом, и потому обычно удар против революционных сил России объединяется в них с ударом по национально – освободительному, в особенности по польскому, движению. Пытаясь скомпрометировать революционное движение, они охотно подхватывают официальную версию о его преступности, не брезгают различными ходячими в реакционной среде инсинуациями, например версией о якобы организованных революционерами майских поджогах 1862 года в Петербурге, версией о полной зависимости русских демократов от польских националистов и т. п.
Почти все эти произведения были впервые опубликованы в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник» («Взбаламученное море» Писемского, «Марево» Клюшникова, «На ножах» Лескова, «Кровавый пуф» Крестовского). Б. М. Маркевич, В. Авсеенко, К. Орловский были присяжными беллетристами этого журнала. Критика тех лет с основанием могла говорить об особой «катковской школе» реакционных романистов. Действительно, идеи, развиваемые в этих романах, не только совпадали со взглядами и с позицией Каткова, но зачастую и были им прямо инспирированы.
Катков, как известно, развернул в своих изданиях («Русский вестник» и «Московские ведомости») не только борьбу с демократическим движением, не только проповедь реакционно – охранительных и шовинистических взглядов, в частности реакционной идеи насильственной русификации западных и северо – западных окраин Российской империи, но и критику пореформенных порядков, правящей бюрократии, обвиняя последнюю в либерализме, в неустойчивости, в потворстве демократическим силам. Это была критика правительства справа, с позиций феодально– крепостнических. Постоянными были здесь фарисейские жалобы на ослабление «истинно патриотических сил» – крупных латифуидистов – крепостников, подлинных «столпов» общества. Критика касалась всех буржуазных реформ, проведенных в 60–х годах, – реформы суда, цензуры и т. д. Даже признаваемая только на словах крестьянская реформа также вызывала упреки в том, что она лишила крестьян их «руководителей» из среды крупных землевладельцев, что она подорвала независимость этих «руководителей», и т. д. Эта критика правительства справа сопровождала антинигилистические мотивы и в беллетристических произведениях «катковской школы».
Но, говоря об антинигилистической беллетристике 60–80–х годов, следует иметь в виду не только круг ее идей, тематику и проблематику, ее преимущественную зависимость от мировоззрения «катковской школы». Определенная общественная и политическая ориентация связывалась в ней с определенной системой приемов воспроизведения действительных лиц и событий. Потому‑то антинигилистический роман и представляет собой жанр в литературе 60–80–х годов; потому‑то эти романы и сдвигаются в определенный ряд, что их связывает общность приемов изображения различных сторон тогдашней жизни, проявляющаяся в сходстве и однообразии господствующей в них сюжетной схемы, в постоянстве «типов» и в определенной расстановке действующих лиц, в общей композиции этих романов, наконец в их стилистике.
Сюжетная схема многих антинигилистических романов действительно очень однотипна. В основу ее кладется борьба двух сил – «злой» в «доброй». Первую силу представляют убежденные демократы и революционеры, вторую – охранители и сторонники устоев (не случайно один из романов В. Крестовского так и назван – «Две силы»). Эта борьба осложняется двумя обстоятельствами. Во – первых, тем, кто является непосредственным (если говорить о сюжетной линии) объектом этой борьбы. Чаще всего героем произведения, вокруг которого сосредоточивается непосредственный романический интерес повествования, является лицо
(мужского или, еще чаще, женского пола), которое соблазняет «злая сила» и вовлекает в орбиту демократического движения. За него‑то и идет обычно борьба, его «спасением» и извлечением из «омута» заняты представители охранительного начала. Это личность иногда безвольная и слабая, иногда сильная и экзальтированная, но всегда страдающая и неустойчивая, мятущаяся и чего‑то ищущая. В «Взбаламученном море» этот тип является в лице Валериана Сабанеева, очерченного очень слабо, но тем не менее представляющего одного из немногих симпатичных героев этого романа; в «Некуда» – это Лиза Бахарева; в «Мареве» – Инна Горобец; в романах Маркевича – это Марина («Марина из Алого Рога»), Владимир Буйносов (в «Бездне»); в «Бесах» Достоевского – Шатов (здесь наделенный даже явно символической фамилией); в «Злом духе» Авсеенко – помещик – народник Извоев; в дилогии Вс. Крестовского этот тип представлен сразу двумя персонажами, особами мужского и женского пола, – Хвалынцевым и Лубенской.
Таким образом, антинпгилистический роман – это прежде всего роман о «жертве». По исходу борьбы романы отличаются друг от друга в зависимости от того, чем они кончаются – гибелью или спасением жертвы. И это одно из существенных расхождений в антинигилистической беллетристике, обусловившее различные течения внутри нее.
Второе обстоятельство, осложняющее излюбленную схему антинигилистического романа, связано с источником основной интриги, составляющей главный интерес повествования. Обычным источником этой интриги являются не демократы – революционеры сами по себе, во всяком случае не лучшие, наиболее честные и идейные представители этого лагеря. Это обычно и чаще всего представители «польской партии», и при этом аристократического крыла этой партии, тесно связанного с иезуитами. Именно они заправляют действием, они прежде всего сеют и подогревают смуту, а русские демократы являются лишь их слепым орудием, простыми пешками в их руках. Так, конечные источники нигилизма представляются уже в первом антинигилистическом романе Лескова, у Клюшникова, Крестовского, отчасти у Маркевича (в «Бездне») и др. С другой стороны, интригу плетут разного рода авантюристы, карьеристы и проходимцы, лишь прикидывающиеся нигилистами и народниками. Таковы Пархоменко и Белоярцев в «Некуда», Горданов в романе «На ножах», Полояров у Крестовского, Левиафанов, Овцын – младший и «Волк» в романах Маркевича и т. д. Именно личности этого типа оказываются заводилами и вожаками в нигилистических и народнических кружках. На первый взгляд подобное освещение придает видимость благообразия антинигилистической теме в этих романах. В сущности, убежденные сто рониики нигилизма (Райнер у Лескова, Свитка у Крестовского, Инна у Клюшникова) оказываются внутренне честными, идейными, они действительно хотят блага народу, они действительно выступают за обновление общества. И речь идет не столько об их вине, сколько об их беде, о том, что они становятся орудием чуждых и преступных сил. Но мотив «жертвы» оказывается лишь ловким ходом реакционных беллетристов, приемом компрометации всего движения в целом. Если худшее руководит, а лучшее лишь заблуждается и покорно идет на жертвы, значит, у этого движения нет истинной силы, нет своих целей, нет перспектив. Остается лишь ставить вопрос о спасении жертв.
Есть, как уже можно было заметить, и третий осложняющий интригу мотив у антинигилистических авторов. Они подхватывают традиции либеральной обличительной литературы 50–х годов и охотно выводят в сатирическом свете представителей власти. Они тоже «обличают» исправников, жандармов, прокуроров, даже подымаются до «критики» губернаторов, сенаторов и министров. Они тоже «воюют» с продажностью и тупоумием бюрократических верхов, с откупом, с барской спесью, с «грибоедовской Москвой» и со «сливками» петербургского высшего света. Они распространяют свою «критику» и на темные стороны пореформенной жизни – на факты произвола верхов и бесправия низов, на наглость и цинизм новоявленных хищников капитала, спекулянтов, на продажность буржуазной адвокатуры, на разложение буржуазно – дворянской семьи и т. д. Но эта критика ведется справа, она призывает к возвращению назад, к «очищению» устоев монархической России. Она прикрывает архиреакционные выводы этих романов либеральной или демагогической фразеологией. У дворянских реакционных романистов 1870–1880–х годов это в конце концов выливается в повальное обвинение интеллигенции, либо прямо разрушающей старые устои, либо потворствующей такому разрушению.
Идейное направление и сюжетная схема антинигилистических романов определили их стилистику. Для стилистики их характерен прежде всего эклектизм, попытка, с одной стороны, сохранить старые приемы чисто романического повествования, уже подорванные бурным развитием реалистического романа, а с другой стороны – приспособиться к этому новому развитию, примкнуть к новым образцам психологического и социального романа.
Занимая привилегированное положение, защищая и проповедуя взгляды, получающие полное признание в верхах, находя надежное убежище в «Русском вестнике», – органе, никогда не подвергавшемся никаким гонениям, антинигилистическая беллетристика оказывалась вместе с тем перед читателем в очень затруднительном положении. Ей нужно было осудить и дискредитировать все передовое и гонимое, поднять на щит и опоэтизировать реакционное и отсталое; ей ничего не оставалось другого, как вместо изображения того, что действительно есть, подставлять официальную версию в истолковании известных событий. Это и вынуждало ее к объединению романической истории с уголовной хроникой. Вместе с тем в антинигилистической беллетристике обнаруживаются попытки, во – первых, дать отдельные реалистические зарисовки и психологически оснастить это развитие интриги, добиться достоверности изображения прозрачными портретными совпадениями, перечислением известных исторических фактов, выведением на сцену действительных исторических лиц, броским копированием быта и, с другой стороны, ввести в роман явный домысел, очевидный памфлет, прямую карикатуру и клевету.
Характерно, что с течением времени в антинигилистических романах этот поверхностно – романический, авантюрный элемент все более усиливается. Все назойливее становятся и черты злостного памфлета, прямых инсинуаций в отношении действительных исторических лиц. Эта беллетристика все откровеннее пользуется средствами реакционно – тенденциозной публицистики. Обычными становятся ссылки на высказывания охранительной печати, цитаты из изданий Каткова и других реакционных журналистов, попытки «документировать» повествование выдержками из «Колокола», из статей «Современника» и «Русского слова», из материалов по крестьянскому делу и т. д. Вместе с тем все определеннее выступают устарелые приемы, характерные еще для рядового исторического романа или светской повести 1830–х годов. Ярким примером этой эволюции могут служить антинигилистические романы Вс. Крестовского, Маркевича, Авсеенко, Орловского, появившиеся в 70–80–х годах. К этому времени окончательно складывается и традиционная сюжетно – композиционная схема антинигилистического романа, постоянно повторяющаяся. Антинигилистический роман становится своего рода замкнутой Жаровой структурой, все характерные компоненты которой даны заранее.
Таким образом, антинигилистический роман 60–80–х годов по основному своему содержанию – роман политический по преимуществу. По своему идеологическому направлению это роман реакционно – охранительный. Центральной темой его является борьба двух сил – демократической и реакционной. По приемам характеристики представителей демократического движения это роман – памфлет. Его основная задача состоит не в объективно – исторической и всесторонней характеристике героев, не в истолковании «нового типа», а в его осуждении, в клеветнически– пасквильном его изображении. По манере своего письма, по своему стилю антинигилистический роман – явление типично эклектическое; для него характерно механическое соединение совершенно разнородных стилевых приемов – традиционного романического повествования, авантюрного романа, исторического романа, светской повести 30–х годов, обличительного жанра 50–60–х годов, прямого памфлета и пасквиля.