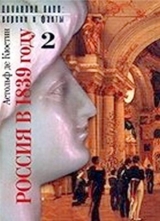
Текст книги "Россия в 1839 году. Том второй"
Автор книги: Асгольф Кюстин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)
Царствование Екатерины оставило в памяти иных из русских дам глубокий след; эти дамы, притязающие на то, чтобы вершить судьбами государства, обладают политическим талантом, и поскольку многие из них сочетают с этим даром нравы, свойственные XVIII веку, то по Европе разъезжает целый рой императриц – они производят много шума своим распутством, но скрывают под циничным поведением глубокий государственный ум и наблюдательность. Благодаря умению этих северных Аспазий плести интриги, в Европе почти не осталось столиц, где не было бы двух, а то и трех русских посланников: один гласный, аккредитованный, чрезвычайный и полномочный, другие тайные, неведомые, не несущие никакой ответственности и в юбке и чепце играющие двойную роль – независимого посланника и шпиона посланника официального.
Во все эпохи женщины с успехом принимали участие в политических интригах; многие из современных революционеров прибегали к услугам женщин, чтобы искуснее, надежнее и в большей тайне плести нити заговора; в Испании некоторые из этих несчастных проявляли чудеса храбрости, сохраняя преданность своему избраннику, ибо храбрость испанки зависит прежде всего от любви, и были жестоко покараны за свой героизм. У русских женщин, наоборот, любовь на втором месте. В России существует целая сеть женской дипломатии, и Европа, быть может, недооценивает этот особый способ влиять на политику. Благодаря своей армии двойных агентов, политических амазонок{54}, чье оружие – тонкий мужской ум и коварные женские речи, русский двор собирает сведения, получает донесения и предупреждения, которые в случае огласки пролили бы свет на множество тайн, разъяснили бы многие противоречия, обнаружили бы много низостей.
Занятия политикой лишают беседу большинства русских женщин занимательности, делают ее скучной. Эта незадача чаще всего постигает самых утонченных дам, ибо их, естественно, одолевает крайняя рассеянность, когда беседа не касается предметов серьезных; между их мыслями и их речами пролегает пропасть: слова, которые они произносят, обманчивы, ибо ум их далеко; они всегда говорят одно, а думают другое – отсюда проистекает несообразность, принужденность, одним словом – утомительная двойственность, мешающая в повседневной жизни. Политика по природе своей занятие не из веселых; с ее тяготами мирятся из чувства долга, поэтому блестящие мысли все-таки оживляют иногда беседу государственных мужей; но жульническая, расчетливая политика – бич беседы. Ум, который сознательно предается этому корыстному занятию, опускается, уничижается и безвозвратно утрачивает свой блеск.
Меня уверяют, что русские крестьяне почти полностью лишены нравственного чувства и плохо разбираются в семейных обязанностях; мой каждодневный опыт подтверждает рассказы, которые я слышу из уст самых сведущих особ.
Некий вельможа рассказал мне, что один из его людей, искусный в каком-то ремесле, я запамятовал, в каком, был отпущен на заработки и приехал попытать счастья в Петербург: проработав два года, он получил отпуск на несколько недель и отправился в родную деревню к жене. В назначенный срок он вернулся в Петербург.
– Ты доволен, что повидал семью? – спрашивает его хозяин.
– Очень доволен, – простодушно отвечает работник. – Пока меня не было, жена родила мне еще двоих детей, и я был очень рад на них взглянуть.
У этих несчастных нет ничего своего: ни лачуги, ни жены, ни детей, ни даже сердца; они не завистливы: чему завидовать? чужому несчастью?.. То же и с любовью… Таково существование самых счастливых людей в России – рабов!.. Я часто слышал, как сановные особы. завидуют их участи, и, быть может, недаром.
«У них нет никаких забот, – говорят они, – мы печемся о них и об их семьях (один Бог знает, как они это делают, когда крестьяне становятся старыми и немощными!); они уверены, что у них и их потомков будет все, что им нужно, и в сто раз меньше достойны жалости, чем ваши свободные крестьяне».
Я молча слушал этот панегирик рабству, думая про себя; если у них нет никаких забот, то нет и никакой собственности, а следовательно, ни привязанностей, ни счастья, ни нравственного чувства – никакого противовеса материальным тяготам жизни; ибо общественного человека формирует частная собственность, на ней одной зиждется семья.
Факты, которые я привожу, как мне кажется, не совсем согласуются с поэтическими чувствами, выраженными автором «Теленева». В мою задачу не входит примирять противоречия, я должен только изображать контрасты: пусть тот, кто может, объяснит их.
Впрочем, русские поэты, как вообще все поэты, имеют исключительное право на вымысел: давая волю воображению, эти избранники мысли более правдивы, нежели историки.
Единственная истина, заслуживающая нашего поклонения, есть истина нравственная, и все усилия ума человеческого, какова бы ни была область его разысканий, направлены на то, чтобы ее обрести.
Если в моих путевых записках я стремлюсь изобразить мир таким, каков он есть, то единственно ради того, чтобы оживить во всех сердцах, и прежде всего в своем, сожаление о том, что мир не таков, каким должен быть. Я делаю это ради того, чтобы пробудить в душах чувство бессмертия, ради того, чтобы при каждой несправедливости, при каждом превышении власти, неизбежном на земле, мы вспоминали слова Иисуса Христа: «Царство мое не от мира сего».
Никогда мне не случалось так часто повторять эти слова Христа, как теперь, когда я путешествую по России; они, можно сказать, не выходят у меня из головы; при деспотизме все законы призваны способствовать притеснению, то есть чем больше у угнетенных причин жаловаться, тем меньше у них на это прав и тем труднее им на это решиться. Надо признать, что перед Богом дурной поступок гражданина более тяжкий грех, нежели дурной поступок раба и даже несправедливость рабовладельца, ведь в такой стране, как Россия, варварство носится в воздухе. Всевышний принимает в рассуждение, что человек, очерствевший от вечного торжества несправедливости, теряет совесть.
Зло всегда зло, – возразят мне, – и человек, который крадет в Москве, такой же вор, как парижский жулик. Но я с этим не согласен. Ведь именно от общего воспитания, которое получает народ, в большой степени зависит нравственность каждого отдельного человека; Провидение установило страшную, таинственную круговую поруку провинностей и заслуг между правительствами и подданными, и рано или поздно в истории общества наступает время, когда государство судят, выносят ему приговор и предают смерти, как и отдельного человека-
Я не устаю повторять: добродетели, пороки, преступления рабов отнюдь не то же самое, что добродетели, пороки, преступления свободных людей: поэтому, глядя на русский народ, я могу с достоверностью утверждать – я не порицаю за это русских, как порицал бы французов, – что ему, как правило, не хватает гордости, тонкости и благородства и что взамен этих достоинств он обладает терпением и хитростью: таково мое право повествователя, право всякого правдивого наблюдателя; но, признаюсь, прав я или не прав, я на этом не останавливаюсь; я хулю либо хвалю все, что вижу; мне мало рисовать, я хочу судить; если вы считаете, что я пристрастен, никто не мешает вам самим проявлять в суждениях больше сдержанности.
Беспристрастие – добродетель, легко доступная читателю, меж тем как она всегда с трудом давалась, если вообще давалась, писателю.
Одни говорят: «русский народ кроток»; на это я отвечу: «В том нет никакой его заслуги, это всего лишь привычка повиноваться…» Другие говорят: «русский народ кроток только оттого, что не смеет открыть свое сердце: в основе его чувств и мыслей лежат суеверие и жестокость». Я отвечу на это: «Бедный народ! Он получил такое дурное воспитание».
Вот почему мне так жаль русских крестьян, хотя они самые счастливые, то есть наименее достойные жалости люди в России. Русские не согласятся со мной и станут искренне возражать против моих преувеличении, ибо нет зла, которое не смягчалось бы привычкой и незнанием того, что есть благо; но я тоже чистосердечен, и мое положение стороннего наблюдателя позволяет мне, хотя и мельком, замечать вещи, которые ускользают от притупившегося взора местных жителей.
Из всего, что я вижу в этом мире и в особенности в этой стране, следует, что человек живет здесь, на земле, вовсе не для счастья. Смысл его существования совершенно иной, религиозный: нравственное совершенствование, борьба и победа.
Но со времени, когда главенствующую роль стала играть мирская власть, христианская вера в России изменила своему предназначению: она превратилась в один из винтиков деспотизма, только и всего. В этой стране, где – и это нимало не удивительно – ничто не имеет четких определений, трудно понять современные отношения Церкви с главой государства, который стал также негласным владыкой в вопросах веры; он присвоил духовную власть и пользуется ею, но не смеет узаконить свое право на эту власть; он сохранил синод: это последняя честь, отданная тиранией Царю Царей и его разоренной Церкви. Вот как описывает этот религиозный переворот Левек{55}, которого я давеча листал.
Я вышел из коляски и ждал на почтовой станции, покуда найдут кузнеца, чтобы починить одну из задних скоб; желая скоротать время, я проглядывал «Историю России»; переписываю для вас слово в слово отрывок из нее:
* * *
«1721 г. После смерти Адриана[10]10
Последний патриарх московский.
[Закрыть] Петр[11]11
Император.
[Закрыть], казалось, медлил с согласием на избрание нового патриарха. За те двадцать лет, что он раздумывал, благоговение народа к главе Церкви незаметно угасло.
Император решил, что может наконец объявить об упразднении этого сана. Он разделил церковную власть, которую прежде осуществлял один патриарх, и сделал высшим органом духовной власти новый совет – святейший синод.
Он не назвал себя главой Церкви; но он стал им на деле благодаря присяге, которую приносили ему члены новой духовной коллегии{56}. Вот она: «Клянусь быть верным и покорным слугой и подданным моего исконного и истинного владыки… Я признаю его верховным судией духовной коллегии».
Синод состоит из председателя, двух вице-председателей, четырех советников и четырех асессоров. Эти сменяемые судьи, вершащие церковные дела, вместе взятые обладают гораздо меньшей властью, чем обладал один патриарх, а прежде пользовался митрополит. Их никогда не приглашают на заседания сената; им никогда не дают на подпись указы, изданные верховной властью; даже в областях, которые находятся в их ведении, они подчиняются государю. Поскольку внешне они ничем не отличаются от других духовных лиц, власть их кончается, как только они перестают занимать место в синоде; наконец, поскольку сам синод не имеет большой власти, народ относится к ним без особого почтения».
(Пьер-Шарль Левек. «История России и основных народов, населяющих Российскую империю». Издание четвертое, опубликованное Мальт-Бреном и Деппингом, том 5, с. 89–90. Париж, 1812 г. Продается у Фурнье, улица Пупе, д. 7; и у Ферра, улица Гранз-Огюстен, Д. 11.)
Мне то и дело приходится останавливаться и чинить коляску, но я утешаюсь, говоря себе, что эти задержки благотворны для моих трудов.
В наши дни русский народ самый набожный из всех христианских народов: я только что показал вам главную причину, по которой его вера приносит мало плодов. Когда Церковь отказывается от свободы, она утрачивает моральную силу; будучи сама рабой, она порождает только рабство. Я не устаю повторять: единственная подлинно независимая Церковь – Церковь католическая, она одна сохранила запас истинного милосердия; все остальные Церкви являются составной частью государств, которые используют их в политических целях, дабы поддержать свое могущество. Эти Церкви – превосходные пособницы правительств; снисходительные к власть имущим, князьям или сановникам, строгие к подданным, они призывают Всевышнего на помощь полиции; это сразу приносит свои плоды: в обществе торжествует порядок; но католическая Церковь, обладая не меньшей политической властью, поднимается выше и идет дальше. Национальные Церкви пестуют граждан, мировая Церковь пестует людей.
В России еще и поныне почтение к власти – единственная движущая сила общества; конечно, без почтения к власти не обойтись, но дабы глубоко просвещать сердца людей, мало учить их слепому повиновению.
В день, когда сын Николая I (я говорю «сын», потому что это благородное дело осуществит не отец, все силы которого уходят на укрепление старой воинской дисциплины, на которой держится вся власть в Москве), – итак, в день, когда сын императора внушит всем сословиям этого народа правило, что всякий начальник должен относиться с уважением к своим подчиненным, в России произойдет нравственный переворот, и орудием этого переворота станет Евангелие.
Чем дольше я нахожусь в этой стране, тем яснее вижу, что презрение к слабому заразительно; это чувство становится здесь таким естественным, что самые рьяные защитники угнетенных в конце концов начинают разделять его. Я сужу по себе.
Быстрая езда в России из необходимости превращается в страсть, которая служит поводом для всякого рода жестокостей. Мой фельдъегерь разделяет эту страсть, и от него она передается мне; это приводит к тому, что часто я невольно становлюсь соучастником его несправедливостей. Он сердится, если кучер соскакивает с козел, чтобы поправить упряжь, или останавливается в пути по какой-нибудь другой причине.
Вчера вечером нас вез мальчик, которого мой фельдъегерь не раз грозился побить за медлительность, и я разделял нетерпение и ярость этого человека; вдруг из-за ограды выскочил жеребенок, которому было всего несколько дней от роду и который хорошо знал мальчика: он принял одну из кобыл в нашей упряжке за свою мать и с ржаньем побежал за моей коляской. Маленький ямщик, которого и без того ругали за нерасторопность, хочет тем не менее остановиться вновь и помочь жеребенку, ибо видит, что коляска может задавить его. Мой курьер властно запрещает ему спрыгивать на землю; мальчик как истинно русский человек подчиняется и застывает на козлах, словно окаменев, не произнося ни единого слова жалобы, а кони по-прежнему мчат нас галопом. Я одобряю суровость моего курьера. «Надо поддерживать власть, даже когда она неправа, – убеждаю я себя, – таков дух русского правления; мой фельдъегерь и так не больно-то ретив, а если я его одерну, когда он ревностно исполняет свой долг, он пустит все на самотек и от него не будет никакого проку; впрочем, таков обычай: почему я должен меньше торопиться, чем другие? Надо ехать быстро, чтобы не ронять своего достоинства; не торопиться – значит лишиться уважения; в этой стране для пущей важности надо делать вид, будто спешишь». Пока я размышлял об этом, а также о многом другом, настала ночь.
Я больше виноват, что проявил черствость, чем русский фельдъегерь, ибо меня не оправдывают усвоенные с детства привычки; я заставил страдать бедного жеребенка и несчастного мальчика; один громко ржал, другой тихо плакал, – таким образом, у животного было явное преимущество перед человеком. Мне следовало вмешаться и прекратить эту двойную пытку; но нет, я смотрел и безразличием своим потакал издевательству. Это продолжалось долго, перегон был длиною шесть лье; мальчик, который хотел спасти жеребенка, но вместо этого был принужден мучить его, переносил страдание со смирением, которое тронуло бы меня, если бы сердце мое уже не ожесточилось за время моего пребывания в этой стране; всякий раз, завидев издали крестьянина, шедшего нам навстречу, мальчик надеялся освободить своего любимца; он делал знаки, пытался заговорить, он кричал за сто шагов до того, как мы поравняемся с пешим путником, но не смел замедлить нещадный бег наших лошадей и поэтому его не успевали вовремя понять. Если же какой-нибудь крестьянин, более сообразительный, чем другие, сам догадывался, что надо помочь жеребенку, он не мог подойти, потому что коляска мчалась очень быстро, и жеребенок, прижавшийся к одной из наших кобыл, пробегал мимо растерянного человека так, что тот не мог до него дотянуться: то же случалось и в деревнях; под конец наш ямщик настолько пал духом, что уже перестал звать прохожих на помощь своему любимцу. У этого мужественного животного, которому, по словам ямщика, была неделя от роду, хватило сил пробежать шесть лье галопом.
На станции наш раб – я говорю о ямщике, – освободившись наконец от тяжкого ярма дисциплины, созвал всю деревню на помощь жеребенку; сила благородного животного была такова, что, несмотря на усталость после быстрого бега, несмотря на неокрепшие разбитые копыта, он не давался в руки людям. Его поймали, только загнав в конюшню вслед за кобылой, которую он принял за мать. На него накинули недоуздок и подвели к другой кобыле, чтобы покормить; но у него уже не было сил сосать. Одни говорили, что жеребенок поест позже, другие – что он надорвался и умрет. Я начинаю чуть-чуть понимать по-русски; услышав суровый приговор из уст старейшины деревни, наш маленький ямщик подумал, что такая же участь ждет и его, вдобавок он представил себе, какое наказание ждет его товарища, недоглядевшего за жеребенком, и огорчился, словно побои грозят ему самому. Я никогда не видел более глубокого отчаяния на лице ребенка; но он ни единым взглядом, ни единым движением не выразил возмущения жестокостью фельдъегеря. Такое владение собой, такая сдержанность в столь юном возрасте пробудили во мне страх и жалость.
Меж тем курьер, ни секунды не думая о жеребенке и ни разу не взглянув на безутешного мальчика, со всей серьезностью приступил к своим обязанностям и с подобающим случаю важным видом отправился за новой упряжкой.
На этой дороге, главной и самой людной в России, в деревнях при почтовых станциях живут крестьяне, обслуживающие почту: когда приезжает коляска, начальник станции посылает из дома в дом искать свободных лошадей и ямщика: иногда дома отстоят друг от друга довольно далеко, и путникам приходится терять четверть часа и даже больше; я предпочел бы, чтобы лошадей меняли побыстрее, а ездили помедленнее. Покидая загнанного жеребенка и несчастного мальчика, я не чувствовал угрызений совести. Они пришли позже, когда я стал обдумывать свое поведение и особенно когда сел писать это письмо: стыд пробудил раскаяние. Как видите, человек прямо на глазах становится хуже, дыша отравленным воздухом деспотизма… Да что я говорю! В России деспотизм на троне, но тирания – везде.
Если принять в рассуждение воспитание и обстоятельства, нельзя не признать, что даже русский барин, привыкший к беззаконию и произволу, не может проявить в своем поместье более предосудительной бесчеловечности, чем я, молчаливо попустительствовавший злу.
Я, француз, считающий себя человеком добрым, гордящийся своей принадлежностью к древней культуре, оказавшись среди народа, чьи нравы я внимательно и скрупулезно изучаю, при первой же возможности проявить ненужную свирепость поддаюсь искушению; парижанин ведет себя как варвар! поистине здесь сам воздух тлетворен…
Во Франции, где с уважением относятся к жизни, даже к жизни животных, если бы мой ямщик не позаботился о том, чтобы спасти жеребенка, я велел бы остановить коляску и сам позвал бы крестьян, там я не тронулся бы в путь, пока не убедился бы, что опасность миновала; здесь я безжалостно молчал, и молчание мое было роковым. Можно ли гордиться добродетелями, когда приходится признать, что они зависят не столько от нас, сколько от обстоятельств! Русский барин, который в приступе ярости не забил насмерть своего крепостного, заслуживает похвал, он поступил гуманно, меж тем как француз, который не вступился за жеребенка, проявил жестокость.
Я всю ночь не спал, размышляя о серьезной проблеме относительности добродетелей и пороков, и пришел к выводу, что в наши дни один весьма важный вопрос политической морали остался без должного внимания. Это вопрос о том, какова доля ответственности самого человека за свои поступки и какова доля ответственности взрастившего его общества. Если общество гордится великими свершениями своих питомцев, оно должно считать себя в ответе за преступления, совершаемые другими его сынами. В этом отношении древние пошли дальше нас: козел отпущения, существующий у евреев, показывает нам, насколько народ боялся ответственности за преступления. С этой точки зрения смертная казнь была не только более справедливой или менее справедливой карой, постигающей виновного, она была публичным искуплением, протестом общества против всякого участия в злодеянии и злоумышлении. Это помогает нам понять, как человек, живущий в обществе, мог присвоить себе право распоряжаться жизнью себе подобного; око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь; одним словом, закон возмездия имел политическую силу; общество, которое хочет жить, должно извергнуть преступника из своего лона: когда пришел Христос и заменил суровую справедливость Моисея милосердием, он хорошо понимал, что сокращает срок земных царств; но он открыл людям царство Божие… Без идеи вечности и бессмертия души от христианства было бы больше вреда, чем пользы. Вот о чем я размышлял, лежа ночью без сна.
Вереница неясных, призрачных мыслей медленно тянулась в моем полусонном мозгу; бег уносивших меня лошадей казался мне более быстрым, чем работа моего неповоротливого ума; у тела выросли крылья, мысль налилась свинцом; я, так сказать, опережал ее, мчась в облаке пыли стремительнее, чем воображение преодолевает расстояния: степи, болота с чахлыми соснами и корявыми березками, села, города мелькали у меня перед глазами, словно фантастические видения, и я не мог понять, что привело меня на этот стремительный спектакль, где ощущения сменяются так быстро, что душа не поспевает за телом!.. Эти перевернутые представления о природе, эти заблуждения ума, имеющие материальную природу, этот оптический обман, переместившийся в область идей, этот сдвиг жизни, эти грезы наяву плавно переходили в заунывные песни ямщиков; их грустные мелодии напоминают мне пение псалмов в наших церквах, вернее даже, гнусавые голоса старых евреев в немецких синагогах. Вот к чему сводятся покамест для меня хваленые русские напевы. Говорят, народ этот весьма музыкален: посмотрим; пока я не слышал ничего достойного внимания: ночная беседа кучера с лошадьми была мрачной; это прерывистое бормотание, как бы греза, которую человек декламирует нараспев, поверяя свои горести единственному верному другу – коню, наполняла мне душу глубокой печалью.
В одном месте дорога вдруг круто обрывается вниз, к понтонному мосту, опустившемуся едва ли не на самое дно, потому что от засухи река обмелела. Эта река, все равно широкая, хотя и ставшая уже из-за летнего зноя, носит великое имя: Волга; на берегу этой знаменитой реки передо мной в лунном свете встает город: его белые стены мерцают в ночи, больше похожей на сумерки, а сумерки – благодатное время для миражей; свежевымощенная дорога вьется вокруг свежепобеленного города, где я на каждом шагу встречаю римские фронтоны и оштукатуренные колоннады, столь любимые русскими, которые надеются с их помощью показать, что они разбираются в искусстве; по этой запруженной дороге можно ехать только шагом.
Город, мимо которого я проезжаю, кажется мне огромным: это Тверь, чье имя вызывает в моей памяти бесконечные семейные распри, наполнявшие русскую историю до татарского нашествия: я слышу, как брат проклинает брата; раздается боевой клич; я вижу резню, вижу, как воды реки окрашиваются кровью; из недр Азии приходят калмыки, пьют эту воду и обагряют Волгу другой кровью. Но я-то зачем полез в эту кровожадную толпу? Чтобы совершить новое путешествие и рассказать вам о нем: словно картина страны, Где природа не создала ничего, а искусство произвело только наброски да копии, может заинтересовать вас после описания Испании, этой земли, где самый своеобразный, самый веселый, самый независимый по духу и даже самый свободный если не по закону, то на деле[12]12
Во времена абсолютной монархии в двадцати милях от Мадрида кастильский пастух даже не подозревал о том, что в Испании существует правительство.
[Закрыть] народ ведет глухую борьбу против самого мрачного правительства; где все вместе танцуют, где все вместе молятся, ожидая, когда начнется всеобщая резня и разграбление церквей: вот картина, которую надо затмить живописанием равнины, тянущейся на несколько тысяч лье, и рассказом об обществе, где своеобразно только то, что тщательно укрыто от взора стороннего наблюдателя… Задача не из легких.
Даже Москва не стоит того, чтобы терпеть ради нее столько тягот. Махнем рукой на Москву, прикажем ямщику поворотить оглобли и помчимся во весь опор в Париж! На этой мысли меня застало утро. Коляска моя оставалась открытой всю ночь, а я в полудреме не замечал коварного действия северной росы: платье мое намокло, волосы стали влажными, как от пота, все кожаные ремни коляски пропитались вредоносной сыростью. У меня болели глаза, я видел все как в тумане; я вспоминал князя ***, который, проведя ночь в открытом поле, через сутки ослеп. Это было в Польше, а она находится в той же полосе[13]13
Эта участь, которой я надеялся избежать, едва не постигла и меня. Болезнь глаз, только начинавшаяся, когда я писал это письмо, во время моего пребывания в Москве усугубилась и еще долго не проходила; наконец после Нижегородской ярмарки она превратилась в хроническое воспаление глаза, от которого я страдаю и поныне.
[Закрыть].
Слуга докладывает мне, что коляску починили, я трогаюсь в путь, и если меня не околдовали, если какая-нибудь новая поломка не задержит меня, если мне не суждено въехать в Москву на телеге или войти пешком, мое следующее письмо будет из священного для русских людей города, куда я надеюсь прибыть через несколько часов.
Посмотрели бы вы, как старательно прячу я свои писания, ибо любого моего письма, даже того, которое показалось бы вам самым невинным, довольно, чтобы меня сослали в Сибирь. Садясь писать, я запираю дверь, и когда мой фельдъегерь или кто-нибудь из почтовых служащих стучится ко мне, то прежде, чем открыть, я убираю бумаги и делаю вид, что читаю. Это письмо я спрячу за подкладкой моей шляпы: надеюсь, эти предосторожности излишни, но все же я их неукоснительно соблюдаю: одного этого довольно, чтобы дать вам представление о российских порядках.








