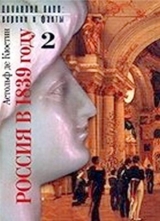
Текст книги "Россия в 1839 году. Том второй"
Автор книги: Асгольф Кюстин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Но именно на этом поприще с ужасающей легкостью расцвел его деспотический гений! – Все государство, – говорил он, – заключено в государе, все в государстве должно совершаться на благо ему, абсолютному и деспотическому монарху, который не обязан давать отчет в своих деяниях никому, кроме Бога! – Поэтому всякое оскорбление его особы, всякое непристойное суждение о его поступках и намерениях должны караться смертью{136}.
Ставя себя таким образом вне и выше всяких законов в 1716 году, царь словно готовился к ужасному государственному перевороту, каким запятнал свою славу в году 1718». (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра. Второе издание. Бодуэн, Париж, Книга XI, глава VI, с. 489, 490.)
Далее господин де Сегюр пишет{137}: «В сентябре 1716 года царевич Алексей, желая спастись от нарождающейся русской цивилизации, ищет убежища в лоне цивилизации европейской. Он отдает себя под покровительство Австрии и тайно поселяется с любовницей в Неаполе.
Петр раскрывает тайну его местопребывания. Он пишет царевичу письмо, начинающееся обоснованными упреками и кончающееся исчислением ужасных бедствий, которые грозят Алексею, если тот ослушается приказаний отца.
Вот главная мысль этого письма: «Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься»{138}.
Поверив этой торжественной клятве отца и государя, Алексей 3 февраля 1718 года возвращается в Москву и на следующий же день его лишают оружия и свободы, допрашивают, с позором отнимают у него и его потомков право наследовать российский престол; если же он когда-либо посмеет притязать на корону, его ждет проклятие.
Хуже того: его бросают в крепость. Там ежедневно и еженощно венценосный отец, поправ свою клятву, законы природы, а равно и законы государственные, собственноручно им писанные[30]30
См. в его Своде законов, гл. IV, параграфы 1 и 2.
[Закрыть], допрашивает чрезмерно доверчивого сына; устроенное Петром политическое судилище не уступает в коварстве и жестокости религиозным судилищам времен инквизиции. Он мучает пугливый ум несчастного царевича рассказами о всевозможных небесных и земных карах; он вынуждает его доносить на друзей, родственников и даже на собственную мать, наконец, заставляет его сознаться, что он виновен, недостоин жить и заслуживает смерти.
Это злодеяние вершится в течение пяти долгих месяцев. Высылка и лишение имущества многих вельмож, отрешение от наследства престола сына, заключение в темницу сестры{139}, заточение в монастырь и бичевание кнутом первой жены{140}, казнь шурина{141} – всего этого царю мало.
Генерал Глебов, уличенный в любовной связи с бывшей царицей, посажен на кол посреди эшафота, в четырех углах которого выставлены на всеобщее обозрение головы одного епископа, одного боярина и двух сановников{142}, колесованных и обезглавленных в тот же самый день[31]31
См. у Брюса (Брюс Питер Генри (1692–1757), шотландец, в 1710–1723 гг. находившийся в русской службе, племянник сподвижника Петра I Я. В. Брюса, автор выпущенных в Лондоне в 1782 г. «Записок» о России. Во второй половине XIX века достоверность их была подвергнута сомнению (см.: Устрялов. С. 293), однако Сегюр был убежден в их подлинности (см.: Segur. Р. 548).).
[Закрыть]. Этот ужасный эшафот в свой черед окружен кольями, на которые насажены головы более чем пяти десятков священников и других граждан.
Такова была чудовищная месть царя тем, чьи интриги и предрассудки вынудили непреклонного монарха принести сына в жертву империи! Однако тот, кто обрушил на людей все эти кары, был стократ более виновен: ибо что может служить оправданием стольким жестокостям? Хуже того: по всему судя, под действием той подозрительности, что присуща правителям, попирающим природный порядок, Петр упорно искал и находил заговоры там, где их не было; люди, которых он подозревал в мятеже, просто-напросто втайне противились его реформам, ничего не предпринимая и возлагая все надежды на его смерть.
Меж тем даже за столь ужасное кровопролитие царь удостоился льстивых похвал! Герой Полтавы сам гордился этим злодеянием, как победой в битве. «Когда огонь найдет солому, – говорил он, – то ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает». С этими словами он хладнокровно прохаживался среди казнимых. Говорят даже, что, гонимый кровожадностью и тревогой, он продолжал допрашивать Глебова на эшафоте, и тот, знаком попросив своего мучителя приблизиться, плюнул ему в лицо.
Вся Москва оказалась узницей; выехать из ее пределов без ведома монарха значило совершить непростительное преступление. Жителям города предписывалось под страхом смерти шпионить за соседями и доносить на них.
Однако главная жертва Петра – его сын, обездоленный, сломленный гибелью близких, – был еще жив. Царь решил перевезти его из московской темницы в петербургскую.
Тут он принимается терзать душу сына, вырывая у него признания во всех, даже самых ничтожных, проступках; всякий день он с ужасающей дотошностью записывает воспоминания царевича о выказываемых им раздражении, непокорстве или строптивости; радуясь всякому новому открытию, собирая воедино все стоны и слезы, он подводит им итог, в бесчестности своей стараясь представить все эти печали и робкие попытки неповиновения тяжким грехом, который и ляжет на чашу весов царского правосудия[32]32
Разве в этом эпизоде Петр Великий не более отвратителен, чем Иван IV Грозный – если, конечно, возможно быть более отвратительным?
[Закрыть].
Когда же, истолковав слова царевича в нужном ему духе, он утверждается в мысли, что создал из ничего нечто, он спешит созвать преданнейших своих рабов. Он посвящает их в свой дьявольский план, раскрывает перед ними свой свирепый и деспотический замысел с варварским простодушием, с наивностью тирана, ослепляемого всевластием и мнящего, что его воля выше правосудия, а его цель – к счастью, великая и полезная – оправдывает любые средства.
Жертву, приносимую интересам политическим, он хочет объяснить интересами правосудия. Он желает оправдать себя за счет погубленного им сына и заставить замолчать докучающие ему голоса совести и природы.
Уверясь, что составленный им обвинительный акт неопровержим, абсолютный монарх созывает своих приближенных. Они, восклицает он, «ныне уже довольно слышали{143} о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего». Один лишь царь вправе судить преступника, однако он просит помощи, ибо «боится Бога, дабы не погрешить», вдобавок же «с клятвою суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил…». Следственно, им, приближенным царя, предстоит произнести царевичу приговор, невзирая на его звание и помышляя лишь о спасении отечества. Впрочем, к этому приказу, недвусмысленному и страшному, он прибавляет с грубым лукавством, что судьям надобно постановить без лести и страха, не достоин ли его сын лишь легкого наказания.
Рабы поняли хозяина: они угадали, о какой ужасной услуге он их просит. Священники, сославшись на Писание, привели равное число выписок в пользу прощения и в пользу осуждения и не посмели отдать предпочтение первому, а о царской клятве побоялись даже упомянуть.
Сановники же, число которых в Верховном суде достигало ста двадцати четырех человек, повиновались царю. Они единогласно и беспрекословно высказались за смерть царевича; впрочем, приговор этот осуждает их самих куда более сурово, чем их жертву. Отвратительно видеть старания этой толпы рабов оправдать хозяина-клятвопреступника; их подлая ложь, прибавляясь к лжи Петра, лишь усугубила его вину!
Царь непреклонен: ничто не может остановить его: ни время, усмиряющее гнев, ни угрызения совести, ни раскаяние несчастного царевича, ни его слабость, покорство, мольбы! Одним словом, все, что обычно смягчает и обезоруживает даже судей, имеющих дело с посторонними, с врагами, не трогает сердце отца, решающего участь собственного сына.
Больше того: не довольствуясь ролью судьи и обвинителя, Петр становится царевичу палачом. 7 июля 1718 года, на следующий день после объявления приговора, он вместе со свитой приходит в темницу: проститься с сыном и оплакать его; можно подумать, что сердце царя наконец дрогнуло, но в эту самую минуту он посылает за крепким питьем, которое приготовил собственноручно! Не в силах сдержать нетерпения, он торопит гонца и удаляется – впрочем, в большой печали[33]33
Оплакивать собственную жертву – истинно русская черта.
[Закрыть], – лишь напоив несчастного, который все еще молит его о прощении, отравой{144}. А затем приписывает гибель царевича, спустя несколько часов испустившего дух в страшных мучениях, ужасу, который внушил ему смертный приговор! Царь довольствуется этим топорным оправданием, полагая, что оно отвечает грубым нравам его приближенных; впрочем, он велит им молчать, и они исполняют приказание так старательно, что если бы не записки чужестранца (Брюса), свидетеля и даже участника этой отвратительной драмы, ее страшные подробности остались бы навсегда скрыты от потомков»{145}. (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра, книга X, глава III, с. 438–444.)
Письмо двадцать седьмое
Английский клуб. – Новое посещение кремлевской кладовой. – Особенности московской архитектуры. – Восклицание госпожи де Сталь. – Преимущество безвестного путешественника. – Китай-город – купеческий квартал. – Иверская Богоматерь. – Русские чудеса, засвидетельствованные итальянцем. – Памятник Минину и Пожарскому. – Храм Василия Блаженного. – Как царь Иван отблагодарил зодчего. – Святые ворота. – Почему, входя в них, нужно непременно обнажать голову. – Преимущества веры перед сомнением. – Контрасты в облике Кремля. – Успенский собор. – Чужеземные мастера. – Отчего пришлось выписать их в Москву. – Фрески. – Колокольня Ивана Великого. – Церковь Спаса на Бору. – Огромный колокол. – Чудов и Вознесенский монастыри. – Могила царицы Елены, матери Ивана IV. – Шапка Мономаха. – Сибирская корона. – Польская корона. – Размышления. – Чеканные чаши. – Стеклянная посуда редкостной красоты. – Носилки Карла XII. – Цитата из Монтеня. – Удивительная историческая подробность. – Сравнение русских великих князей с современными им монархами. – Парадные кареты царей и патриарха московского. – Дворец нынешнего императора в Кремле. – Прочие дворцы. – Угловой дворец. – Особенности его архитектуры. – Новые постройки, начатые в Кремле по приказу императора. – Осквернение святыни. – Ошибка императора Петра и императора Николая. – Где подобает находиться столице Российской империи. – Чем могла бы стать Москва. – Пожар петербургского дворца – небесное знамение. – Замысел Екатерины II, частично осуществленный Николаем. – Вид с кремлевского холма на вечернюю Москву. – Закат солнца. – Ход в подземелье. – Московская пыль ночью. – Воробьевы горы. – Воспоминания о французской армии. – Слова императора Наполеона. – В России опасно быть заподозренным в героизме. – Борьба посредственностей. – Долг абсолютных монархов. – Ростопчин. – Он боится прослыть великим человеком. – Его брошюра. – Какие выводы можно из нее извлечь. – Падение Наполеона: к чему оно привело в конечном счете. – Людовик XIV. – Исторический феномен.
Москва, 11 августа 1839 года, вечер{146}.
Глаз мой болит меньше, и вчера, покинув свою темницу, я отправился пообедать в Английский клуб{147}. Это особый ресторан, куда гости допускаются лишь по рекомендации одного из завсегдатаев, принадлежащих к избранному московскому обществу. Заведение это, устроенное, как и наши парижские кружки, по английскому образцу, открылось сравнительно недавно. Я расскажу вам о нем в другой раз.
В нынешней Европе способы сообщения между странами облегчились настолько, что отыскать самобытные нравы или обычаи, служащие выражением характеров, сделалось решительно невозможно. Привычки всех современных народов суть следствие множества заимствований: смешение всех национальных характеров в ступе всемирной цивилизации сообщает нравам однообразие, малоприятное для глаза путешественника; между тем никогда еще путешествия не были в такой моде. Все дело в том, что большинство людей трогаются с места не столько из любви к просвещению, сколько из скуки. Я не принадлежу к числу странников такого рода; любознательность моя беспредельна, и каждый день я на собственном опыте убеждаюсь, что разнообразие – самая редкостная вещь на этом свете, однообразие же впечатлений – бич путешественника, ибо ставит его в положение глупца – положение самое неприятное именно оттого, что самое распространенное.
Люди отправляются путешествовать, дабы на время покинуть тот мир, где прожили всю свою жизнь, – и не достигают цели: нынче цивилизация достигла отдаленнейших уголков земного шара. Род человеческий переплавляется в единое целое, различия между языками стираются, наречие, на котором мы пишем, исчезает, нации отрекаются от самих себя, философия низводит религию до внутреннего дела каждого верующего, и этот вялый католицизм будет служить людям вплоть до того дня, когда его новый расцвет ознаменует рождение нового общества. Кто может сказать, когда завершится это преображение рода человеческого? Нельзя не узреть во всем происходящем ныне волю Провидения. Вавилонское смешение языков скоро уйдет в прошлое; нации начнут понимать одна другую, несмотря на все, что их разобщает.
Сегодня я начал день с подробного и основательного осмотра Кремля в обществе г-на ***, к которому имел рекомендательное письмо{148}; да, я снова отправился в Кремль! Для меня Кремль – это вся Москва, вся Россия! Кремль – целый мир! Местный слуга с утра пошел в Оружейную палату предупредить хранителя, и тот уже ждал нас. Я думал, что увижу заурядного привратника, но нас принял офицер, человек просвещенный и учтивый.
Кремлевская кладовая – предмет законной гордости русских; она могла бы заменить России летописи, ибо это ее история, написанная драгоценными камнями, подобно тому, как римский форум – история, писанная камнями тесаными.
Золотые чаши, доспехи, старинная мебель – все эти вещи выставлены здесь не только за их красоту; всякая из них служит напоминанием о каком-нибудь славном, удивительном, достопамятном событии. Но прежде, чем изобразить или, вернее, коротко перечислить вам сокровища, хранящиеся в арсенале, которому, я полагаю, нет равных в Европе, я хочу, чтобы вы мысленно проделали вместе со мною тот путь, каким я шел к этому святилищу, достойному поклонения русских и восхищения чужестранцев.
Выехав с Большой Дмитровской, я пересек, как давеча, несколько площадей, на которые выходят крутые, но прямые улицы; в крепость я въехал через ворота, пользующиеся здесь такой славой, что местный слуга не счел нужным спросить моего мнения, велел кучеру остановить карету, дабы я мог насладиться их видом!.. Ворота эти проделаны в башне, столь же диковинной, что и все постройки в старом центре Москвы.
Я не бывал в Константинополе{149}, но полагаю, что после него Москва – поразительнейшая из всех европейских столиц. Это – сухопутный Византий. Благодарение Богу, площади древней столицы не так огромны, как петербургские, среди которых потерялся бы даже римский собор Святого Петра. В Москве памятники стоят не так далеко один от другого и потому производят куда большее впечатление. Здесь история и природа не позволяют разгуляться деспотизму прямых линий и симметричных планов; Москва прежде всего живописна. Небо над Москвой хотя и не безоблачно, но радует глаз серебристым блеском; образцы архитектуры всех сортов громоздятся на улицах без всякого порядка и плана; ни одна постройка не может быть названа совершенной, но все они вместе вызывают если не восхищение, то изумление. Неровности почвы умножают прекрасные виды. Церкви, увенчанные куполами, которых нередко больше, чем предписывает православное учение, сверкают волшебным блеском. Бесчисленные золоченые пирамиды и колокольни в форме минаретов устремляют свои вершины в лазурное небо; восточная беседка, индийский купол переносят вас в Дели, донжоны и башенки возвращают в Европу времен крестовых походов, часовой на верху сторожевой башни напоминает муэдзина, сзывающего мусульман на молитву; наконец, окончательно спутывают ваши мысли блистающие повсюду кресты, повелевающие народу пасть ниц перед Словом, кажется, будто кресты эти спустились в азиатскую столицу с неба, дабы указать здешним жителям узкий путь к спасению: должно быть, именно эта поэтическая картина внушила госпоже де Сталь восклицание: «Москва – это северный Рим!»{150}
Восклицание не слишком справедливое, ибо между этими двумя городами нет решительно ничего общего. Москва приводит на память скорее Ниневию, Пальмиру, Вавилон, нежели шедевры европейского искусства, будь то творения языческие или христианские; история и религия этой страны также не располагают к тому, чтобы уподоблять ее столицу Риму. Между Москвой и Римом сходства куда меньше, чем между Москвой и Пекином, однако госпожа де Сталь, попав в Россию, менее всего интересовалась этой страной; она стремилась в Швецию и Англию, дабы обратить свой гений и свои идеи на борьбу с врагом всяческой свободы мысли – Бонапартом{151}. Долг великого мыслителя, явившегося в незнакомую страну, – нарисовать ее изображение, и госпожа де Сталь произнесла по поводу России те несколько слов, какие от нее требовались. Несчастье знаменитостей состоит в том, что они обязаны изъясняться афоризмами, если же они уклоняются от исполнения этой обязанности, им приписывают афоризмы, сочиненные другими.
Я доверяю лишь отчетам безвестных путешественников; вы скажете, что я говорю так из корысти; не стану отрицать, вы правы – во всяком случае, мне моя безвестность на руку: она позволяет мне искать и находить истину. С меня довольно, если я буду иметь счастье избавить от предубеждений и предрассудков такого читателя, как вы, а также избранный круг людей, вам подобных. Как видите, притязания мои весьма умеренны: ведь нет ничего легче, чем исправлять заблуждения умов выдающихся. Мне кажется, что даже тот, кто ненавидит деспотизм не так сильно, как я, возненавидит деспотов за их деяния и вопреки их чарам, когда прочтет правдивое описание, предлагаемое мною вниманию публики.
Массивная башня с двумя живописными арками, у подножия которой местный слуга предложил мне выйти из кареты, отделяет Кремль от его продолжения, называемого Китай-городом, – купеческого квартала старой Москвы, основанного матерью царя Ивана Васильевича в 1534 году{152}. Нам эта дата кажется не слишком отдаленной, но для русского народа, самого молодого из всех европейских народов, это – глубокая древность.
Китай-город, своего рода приложение к Кремлю, – это огромный базар, целый город, изобилующий темными сводчатыми улочками, напоминающими подземелья; впрочем, эти купеческие катакомбы менее всего походят на кладбище; в лабиринте галерей, которые уступают парижским в изяществе и блеске, но зато выигрывают в основательности, шумит вечная ярмарка. Архитектура Китай-города приспособлена к здешнему климату: на Севере крытые улицы помогают бороться с непогодой; странно, что они здесь так редки. Продавцы и покупатели спасаются здесь от ветра, снега, холода и весеннего разлива рек; напротив, легкие ажурные колоннады и воздушные портики выглядят в России смехотворной бессмыслицей: русским зодчим следовало бы брать пример не с греков и римлян, но с кротов и муравьев. Арабы лучше поняли необходимость соотносить законы искусства с природными условиями. Ульи Альгамбры{153} – архитектура, подобающая почве и климату Испании, равно как и нравам ее обитателей.
В Москве вы на каждом шагу видите какую-нибудь часовню – предмет поклонения для простонародья и почитания для всех жителей города. Часовни эти, как правило, представляют собою ниши, с застекленным изображением Божьей матери, возле которого всегда горит лампада. Рядом несет караул старый солдат. Ветераны в России служат привратниками не только у вельмож, но и у самого Господа Бога. Их неизменно встречаешь у входа в богатые дома, куда они не впускают посторонних, и в церкви, откуда они выметают мусор. Не будь на свете богачей и священников, старым русским солдатам пришлось бы прозябать в нищете.
Над двухпроездными воротами, через которые я вошел в Кремль, помещается икона Божьей матери{154}, написанная в греческом стиле и почитаемая всеми жителями Москвы.
Я заметил, что все, кто проходят мимо этой иконы господа и крестьяне, светские дамы, мещане и военные, – кланяются ей и многократно осеняют себя крестом; многие, не довольствуясь этой данью почтения, останавливаются; хорошо одетые женщины склоняются перед чудотворной Божьей матерью до земли и даже в знак смирения касаются лбом мостовой; мужчины, также не принадлежащие к низшим сословиям, опускаются на колени и крестятся без устали; все эти действия совершаются посреди улицы с проворством и беззаботностью, обличающими не столько благочестие, сколько привычку{155}.
Мой слуга, нанятый в Москве, – итальянец; нет ничего смешнее той смеси самых различных предрассудков, которая образовалась в голове этого несчастного иностранца, уже много лет живущего в Москве, на своей названой родине; воспитание, полученное в детские годы в Риме, заставляет его верить в то, что святые и Богоматерь вмешиваются в земную жизнь, поэтому, не вдаваясь в обсуждение богословских тонкостей, он, за неимением лучшего, принимает на веру все истории о чудесах, творимых мощами и образами греческой Церкви{156}. Этот бедный католик, ставший ревностным поклонником московской Божьей матери, доказал мне, что религиозные верования повсюду зиждутся на одном и том же основании; единство их, всемогущее, хотя и мнимое, производит неотразимое действие. Слуга все время твердил мне с итальянской словоохотливостью: «Signor, creda a me: questa madonna fa dei miracoli, ma dei miracoli veri, veri verissimi; non и come da noi altri; in questo paese tutti gli miracoli sono veri»[34]34
Поверьте мне, синьор: эта мадонна творит чудеса, причем настоящие, самые настоящие чудеса, не то что у нас: в этой стране все чудеса настоящие (ит.).
[Закрыть].
Этот итальянец, привезший в империю осмотрительности и безмолвия простодушную живость своего отечества, чрезвычайно забавлял, но одновременно и пугал меня: его вера в иноземную религию выдавала безграничный политический террор, царящий в России!
В этой стране болтун – редкость, драгоценное исключение из правила; путешественник, окруженный сдержанными и осторожными уроженцами здешних мест, испытывает нужду в нем на каждом шагу. Дабы разговорить моего итальянца, что, впрочем, не составляло большого труда, я рискнул выразить некоторые сомнения в подлинности чудес, сотворенных московской Божьей матерью: я. меньше оскорбил бы набожного римлянина, усомнись я в духовном авторитете папы.
Слушая, как бедный католик старается уверить меня в сверхъестественном могуществе греческой иконы, я лишний раз убедился: если что и разделяет нынче две Церкви, то это отнюдь не богословие. Из истории христианских наций мы знаем, как использовали государи упорство, хитроумие и диалектические таланты священников для разжигания религиозных споров.
Выйдя из ворот, увенчанных знаменитой мадонной, на небольшую площадь, видишь бронзовый памятник, изваянный в очень скверном, так называемом псевдоклассическом вкусе{157}. Мне показалось, будто я попал в Лувр, в мастерскую посредственного скульптора времен Империи. Памятник изображает в виде двух римлян Минина и Пожарского, спасителей России, которую они освободили от господства поляков в начале XVII века: нетрудно догадаться, что римская тога – не самый подходящий костюм для подобных героев!.. Нынче эта пара в большой моде. Что предстает взору затем? Чудесный собор Василия Блаженного, вид которого так поразил меня сразу по приезде в Москву, что напрочь лишил покоя. Стиль этого причудливого памятника на удивление несхож с классическими изваяниями освободителей Москвы. Гуляя по этому городу в одиночестве, я еще не имел возможности рассмотреть как следует этот храм в змеиной коже, именуемый Покровским собором. Теперь он был прямо передо мной, но какое разочарование!!. Множество луковиц-куполов, среди которых не найти двух одинаковых, блюдо с фруктами, дельфтская фаянсовая ваза, полная ананасов, в каждый из которых воткнут золотой крест, колоссальная гора кристаллов – все это еще не составляет памятника архитектуры; увиденная с близкого расстояния, церковь эта сильно проигрывает. Как почти все русские храмы, она невелика; бесформенная ее колокольня хороша только издали, а неизъяснимая пестрота скоро наскучивает внимательному наблюдателю; довольно красивая лестница ведет на крыльцо, откуда богомольцы попадают внутрь храма – тесного, жалкого, ничтожного. Этот несносный памятник стоил жизни его создателю. Его начали строить в 1554 году, в память о взятии Казани, по приказу Ивана IV, любезно прозванного Грозным[35]35
Так утверждает Лаво(См.: Laveau. Т. 1. Р. 269; ту же версию Кюстин мог прочесть в кн.: Schnitzler. Р. 63. Покровский собор в самом деле был построен зодчими Бармой и Постником в 1555–1561 гг. в честь победы над Казанским ханством; давший название всему храму придел Василия Блаженного, где был погребен святой, возведен в 1588 г. Вторая версия, упоминаемая Кюстином, разумеется, неправдоподобна.). У другого автора я прочел, что храм этот выстроен при Василии Блаженном, и он-то и отдал тот бесчеловечный приказ, в котором Лаво обвиняет Ивана IV.
[Закрыть]. Государь этот, оставаясь, как вы сейчас поймете, верным себе, отблагодарил архитектора, украсившего Москву, по-своему: он приказал выколоть бедняге глаза, дабы тот никогда уже не смог создать второго такого храма.
Не преуспей несчастный в строительстве, его бы наверняка посадили на кол, однако результат его трудов превзошел все ожидания великого монарха, поэтому несчастный всего-навсего лишился глаз: обнадеживающая перспектива для художников!
От Покровского собора мы направились к священным вратам Кремля; дабы не нарушить обычая, истово соблюдаемого русскими, я прошел под этими сводами, впрочем, не весьма широкими, с обнаженной головой{158}. Обычай этот восходит, как мне объяснили, ко временам последнего нашествия калмыков, которым лишь чудесное заступничество сил небесных помешало проникнуть в крепость. Святым тоже случается зазеваться, но в тот день они были начеку, Кремль остался цел и невредим, русские до сих пор снимают шапки в знак благодарности к своим славным покровителям.
В подобных публичных проявлениях религиозного чувства заметно больше практической философии, чем в безверии народов, которые мнят себя просвещеннейшими племенами земли оттого, что, исчерпав силы ума, наскучив простыми истинами, во всем сомневаются и в гордыне своей призывают соседей брать с них пример, словно их колебания достойны подражания!.. Видите, говорят они, как мы жалки; поступайте же, как мы!..
Вольнодумцы – мертвецы, обволакивающие могильным холодом всех, кто их окружает; эти опасные умники отнимают у наций способность действовать; они разрушают, не умея созидать, ибо любовь к роскоши и удовольствиям рождает в душе не более чем лихорадочное волнение, мимолетное, как сама человеческая жизнь. В своем шатком бытии материалисты слушаются скорее биения крови, нежели просвещенной мысли, и вечно пребывают во власти сомнений, ибо ум самого честного человека, будь то первый мудрец страны, будь то сам Гёте, ни на что, кроме сомнений, не способен, сомнения же располагают сердце к терпимости, но отвращают от жертвенности. Между тем в искусствах, науках и политике всякое значительное творение, всякое возвышенное стремление зиждутся именно на жертвенности. Нынче же идти на жертвы никто не желает: христианство упрекают в том, что оно проповедует самоотречение – добродетельным людям это не по нраву. Христианские священники указывают дорогу, которую прежде избирали только избранные, толпе!! Кто отгадает, куда приведут народ столь коварные наставники?
Я не устаю любоваться общим видом Кремля: его причудливыми постройками, мощными крепостными стенами, множеством стрельчатых арок, сводов, башенок, колоколен, тайников, бойниц и проемов; все эти колоссальные диковины, громоздящиеся одна подле другой, рождают в душе путешественника массу впечатлений и никогда не наскучивают. Внешняя крепостная стена, которая опоясывает Кремль и, следуя за неровностями холмистой местности, то поднимается вверх, то опускается вниз; обилие зданий удивительной архитектуры, возведенных едва ли не впритык одно к другому, – все здесь создает одну из самых оригинальных и поэтических картин, какие существуют на свете; изобразить подобные чудеса под силу только живописцу; слова не в силах передать производимое ими впечатление: есть вещи, внятные только взору.
Но как выразить изумление, охватившее меня, когда, оказавшись внутри этого волшебного города, я подошел к современному зданию, именуемому Оружейной палатой, и увидел маленький прямоугольный дворец с греческими фронтонами и коринфскими колоннами{159}?
Это холодное и пошлое подражание античности, к которому мне следовало бы уже привыкнуть, показалось мне настолько смешным, что я отступил на несколько шагов назад и попросил у своего спутника позволения отложить осмотр кладовой и вначале посетить несколько церквей. С тех пор, как я в России, я видел уже немало самых бессмысленных и безвкусных творений имперских архитекторов, но на сей раз несообразность была столь разительна, что потрясла меня заново.
Итак, мы начали знакомство с Кремлем, отправившись в Успенский собор{160}. В храме этом находится одно из тех изображений Девы Марии, которые правоверные христиане всего мира приписывают кисти апостола Луки{161}. Сам храм больше похож на саксонские или нормандские постройки, нежели на наши готические соборы. Создан он в XV веке итальянским архитектором, которого правивший тогда великий князь пригласил в Москву, ибо русские в ту пору не могли обойтись в строительстве без помощи иноземцев. Здание, которое они возводили собственными силами, несколько раз рушилось, погребая под своими останками невежественных рабочих, исполнявших приказы еще более невежественных зодчих; наконец, после двухлетних неудачных попыток пришлось прибегнуть к услугам итальянцев: архитектор, явившийся в Москву, подчинился господствовавшему здесь вкусу и употребил свое мастерство лишь на то, чтобы сделать храм прочным. Своды его высоки, стены толсты, но здание не назовешь ни величественным, ни светлым, ни красивым.
Мне неизвестны предписания греко-русской Церкви касательно поклонения образам{162}, но при виде этой церкви, чьи стены сплошь покрыты безвкусными фресками, выполненными в той однообразной и грубоватой манере, что именуется современным греческим стилем, потому что в основе ее лежит подражание византийским образцам, я то и дело спрашивал себя: какими же изображениями запрещено украшать русские церкви? Вероятно, решил я, в сии святилища благочестия закрыт доступ лишь творениям превосходным.
Когда мы приблизились к Богоматери святого Луки, мой чичероне-итальянец заверил меня, что она в самом Деле принадлежит кисти апостола; с истинно мужицким благочестием он твердил мне: «Signore, signore, и il paese dei miracoli! Это страна чудес!» Охотно верю: страх – первый чудотворец! Что за удивительное путешествие я совершил: в две недели отдалился от Европы на четыре столетия! Впрочем, у нас в средние века чувство собственного достоинства было развито куда больше, чем в России сегодня. У нас хитрые и двуличные государи, правившие Россией из Кремля, никогда не заслужили бы имени великих{163}.
Иконостас Успенского собора, идущий от пола до высокого сводчатого потолка, роскошен и блистает позолотой. Иконостас – это живописная перегородка, отделяющая алтарь, располагающийся за закрытыми дверями, от нефа церкви, где находятся верующие; в Успенском соборе перегородка эта грандиозна и пышна. Собор почти квадратной формы, очень высок, но не слишком просторен, так что, обходя его, чувствуешь себя так, будто меряешь шагами темницу.








