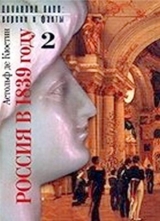
Текст книги "Россия в 1839 году. Том второй"
Автор книги: Асгольф Кюстин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
(С. 335 и 336 первого тома «Описания Москвы» Ж. Лекуэнта де Лаво, 2-е издание. Москва, в типографии Августа Семена, 1836.)

Заключенные, поступившие в 1834 году в московскую государственную тюрьму, в просторечии именуемую «острогом»


Генеалогия принцев и принцесс Брауншвейгских{415}

Дополнения
1. Заметка автора о третьем издании (1846)
Автор сделал все от него зависящее, чтобы это, третье издание «России в 1839 году» стало самым полным и правильным; завершая предпринятые с этой целью труды, он считает своим долгом выразить признательность тем особам, чья благожелательная критика помогла ему усовершенствовать книгу.
Даже русские заслужили благодарность, ибо из их опровержений, или, говоря точнее, из их отрицаний, автор узнал правильное написание многих русских слов и исправил drowska на drochki, mugik на mougik, и проч., и проч. Улучшениями этими, к которым, впрочем, французские читатели останутся в большинстве своем равнодушны, автор обязан лишь дотошности, с какой русские сочли необходимым исследовать книгу, смутившую их политическое идолопоклонничество, умерившую их амбиции и уязвившую их тщеславие; меж тем все последовавшие затем события не только подтвердили все сказанное в книге, но, надо признать, и затмили ее. В самом деле, происшествия, случившиеся в России и сделавшиеся известными на Западе{416} со времени первого издания этих писем, до такой степени превзошли все ожидания пишущего эти строки, что он опасается, как бы чрезвычайная умеренность его рассказа не навлекла на него обвинения в низкопоклонстве перед деспотической властью и он не утратил репутацию повествователя, чтящего правду. Автор надеется, что читатели внимательные и беспристрастные оправдают его от подобных наветов, но это не вполне успокаивает его, ибо, если таковые читатели и отыщутся, они по причине своей малочисленности не смогут задавать тон в обществе.
Что же делать другу истины, навлекшему на себя по причине своей правдивости упреки самых противоположных партий? Молчать и смиряться; по правде говоря, самоотречение это не столь мучительно, как кажется на первый взгляд, ибо надежду человек не теряет никогда: она просто делается чище и бескорыстнее.
Автор не станет утверждать, что не знал о бедствиях более тяжких, злоупотреблениях более отвратительных, чем те, какие он описал; однако он счел своим долгом умолчать о них; позже вести о неслыханных злодеяниях, немыслимых, но подлинных зверствах поселили в его душе раскаяние и заставили пожалеть о дани, заплаченной им, с позволения сказать, почтению к человечеству. Быть может, в выборе предметов для описания он был чересчур осторожен, но тем не менее рассчитывает на снисхождение, ибо настроение умов во Франции в ту пору, когда он сочинял свою книгу, было таково, что, преодолей он свою робость, дерзни он сказать больше, чем он сказал, французы не поверили бы его разоблачениям, и написанная им книга, оставшись неизвестной широкой публике, была бы прочтена лишь несколькими особами, знающими изображенные в ней материи куда глубже автора; публика произнесла бы приговор сочинителю, даже не выслушав его. Итак, дабы завоевать расположение публики, приходилось хранить сдержанность.
Вот и все, что автор позволяет себе сказать в свою защиту, ибо единственное, чего он не смог бы снести, это упрека в том, что он из слабости поступился правдивостью рассказа и независимостью взгляда, какие пристали настоящему путешественнику.
Предуведомление и предисловие, следующие ниже, выдают заботы иного свойства; именно поэтому автор счел уместным воспроизвести их и в этом, третьем издании; они показывают, каким испытаниям подвергается добросовестный человек, уверившийся, что его долг – сообщить окружающим о своих убеждениях.
2. К третьему изданию 1846 г.
(Финал главы «Изложение дальнейшего пути»)
Эти отрывки, касающиеся мер, взятых Екатериной II и ее наследниками против униатов, подтверждают даже с излишней яркостью факты, которые я уже привел, и выводы, на которые эти факты меня натолкнули.
Отрывки из книги «Злоключения католической церкви обоих обрядов в Польше и в России», переведенной с немецкого графом де Монталамбером {417}
«Нет такой жестокости, которой не подвергали бы этих несчастных (униатов), дабы принудить их перейти в ряды схизматиков; если они отказывались покидать свои храмы, их выгоняли оттуда кнутом и истязали до тех пор, пока боль не заставляла их согласиться на требования мучителей{418}. Но это еще не все: у несчастных отнимали имущество, лишали их скотины, составлявшей все их богатство, а иногда, словно и этого было недостаточно, отрезали им носы и уши, вырывали волосы и выбивали зубы ударами ружейных прикладов» (т. I, с. 196).
«Если императрица, принимая свои законы{419}, добивалась, чтобы никто не чинил препятствий тем, кто по доброй воле захочет принять православие, отчего же запрещать священникам-униатам пользовать души тех, кто хочет сохранить верность религии своих отцов? Нет, не этого желала императрица, которая столько раз во всеуслышание заявляла о своей терпимости по отношению к любой вере, которая так торжественно пообещала униатам, что никогда не будет посягать ни на их религию, ни на связанные с нею права, и которая, наконец, обещала сохранить за ними их церкви» (т. I, с. 198).
«Смерть настигла Екатерину как будто нарочно для того, чтобы спасти униатскую церковь. Императрица умерла в ноябре 1796 года; если бы не это, очень скоро хилые остатки этой церкви были бы полностью уничтожены, и Екатерина избавила бы своих наследников (императора Николая I) от печальной необходимости брать на себя перед Богом и людьми вину за преступление, которое навсегда запятнает его имя» (т. I, с. 200–201)[94]94
Польский поэт Немцевич (Немцевич Юлиан Урсын (1757 или 1758–1841) – польский поэт, участвовал в восстании 1794 г. как адъютант Т. Костюшко; раненный, попал в плен, отбывал заключение в Петропавловской крепости; после подавления восстания 1830–1831 гг. эмигрировал; умер в 1841 году. «Записки о моем пленении в Санкт-Петербурге в 1794, 1795 и 1796 годах» были изданы в Париже (на фр. яз.) посмертно, в августе 1843 года.) рассказывает о том, каким удивительным образом объявил ему о смерти Екатерины тюремщик той крепости, в которой Немцевич содержался более трех лет по приказу императрицы. Человек этот сказал ему однажды утром: «Да будет вам известно, что наша бессмертная императрица изволила умереть». См.: «Заметки о моем тюремном заключении в Петербурге в 1794, 1795 и 1796 годах», сочинение Юлиана Урсына Немцевича.
[Закрыть].
«Гонений на униатов были жестокими при Екатерине II, но при нынешнем царствовании жестокость эта только возросла. Екатерина И, по крайней мере, оставляла священникам-униатам и их пастве возможность нерадостного выбора: либо перейти в католичество, либо пополнить ряды схизматиков. Благодаря деятельному усердию большого числа кюре, принявших католичество, многие приходы остались в лоне Церкви. Нынешнее правительство не только запрещает священникам переходить в католичество, но, напротив, принуждает всех тех униатов, которые при Екатерине II, Павле I и Александре приняли латинскую веру, возвратиться к вере схизматической.
Указ Екатерины II, подписанный в 1789 году, был вновь введен в действие в году 1833-м, со многими очень жестокими добавлениями; согласно этому указу, подлежит наказанию, как мятежник, всякий католик, священник или мирянин, происхождения высокого или низкого, который воспротивится на словах или на деле распространению главенствующей религии или помешает каким-либо образом вхождению в лоно русской церкви отдельных семей или целых деревень.
Опираясь на этот ужасный закон, правительство посылает священников во владения тех помещиков, которые славятся своей привязанностью к католической церкви: эти священники, посланные в качестве носителей слова Божия, употребляют все возможные средства для того, чтобы принудить крестьян принять схизматическую веру; задача, стоящая перед ними, не слишком сложна: ведь всякого, кто будет противиться их воле или призывать своих единоверцев не предавать католическую религию, можно немедленно объявить бунтовщиком и бросить в тюрьму. Но и этот закон, несмотря на всю его деспотическую жестокость, не способен совладать с ревностным стремлением верующих сохранить веру своих отцов. Выберем из множества примеров один-единственный. В 1836 году русские священники прибыли в имение г-на Маковецкого, богатого помещика Витебской губернии, и приступили к выполнению своей миссии; крестьяне, поддерживаемые своим господином, оказали им решительное сопротивление. Русские священники (попы) известили об этом правительство, и император немедленно отдал приказ лишить г-на Маковецкого всех его владений и сослать в Сибирь; при поддержке войск священники продолжают свое дело; несмотря на неслыханные жестокости, несчастные крестьяне упорствуют в течение двух лет, но затем наконец соглашаются принять схизматическую веру. Тогда император посылает министру внутренних дел, <Дмитрию> Николаевичу Блудову, указ следующего содержания, исполненный горькой насмешки: «Верните Маковецкому свободу и поместья, ведь все его крестьяне теперь – православные».
Подобные сцены происходили и в униатских приходах Радомском и Озимекском. Жители Радома с редкостным героизмом три дня и три ночи обороняли от русских солдат свой храм, но наконец, вынужденные подчиниться превосходящей силе противника, сдались и приняли религию схизматиков. Озимекский помещик г-н Мирский был лишен имения и сослан в Сибирь за то, что отказался отдать ключи от церкви даже после того, как крестьян его обычными насильственными методами вынудили переменить веру.
Русских священников часто посылают в поместья тех дворян, которые исповедуют католическую веру; там эти посланцы с величайшей жестокостью принуждают крестьян принять веру схизматиков: ведь согласно весьма своеобразной диалектике русского правительства помещики-католики не имеют никаких прав на крестьян-униатов. В деревнях, жители которых, дабы сохранить свою веру, еще при Екатерине II перешли в католичество, русские священники предъявляют указ 1833 года, гласящий: «Все семейства, которые при Екатерине II и ее святых наследниках, императорах Павле I и Александре I, приняли латинскую веру, ныне считаются принадлежащими к русской православной церкви». Во исполнение этого указа целые деревни оказываются вынуждены переходить из католичества в православие. Русские попы и агенты правительства претворяют этот указ в жизнь с величайшей жестокостью. Вот один из примеров: «Некто г-н Бурачек, униат, предки которого были православными, пожелал взять в жены девицу, исповедующую ту же веру, что и он, и получил ее согласие, однако ни один из священников-униатов не решился обвенчать жениха и невесту; все ссылались на императора, запрещающего подобные браки; переезжая из города в город, жених наконец нашел в окрестностях Смоленска священника-униата, который, тронутый такой верностью религии отцов, тайно обвенчал молодых. Правительство, узнав обстоятельства заключения этого брака, объявило его недействительным. Г-на Бурачека и священника лишили имущества и выслали в Сибирь.
Русское правительство пыталось оправдать эти жестокости{420}, утверждая, что объявлять ту или иную семью, того или иного человека православным не значит ущемлять свободу совести, что таким образом этих людей просто-напросто возвращают к религии их предков, религии, которую они якобы оставили по невежеству и не имея на то никакого права» (т. I, с. 240–242).
«Сходные и даже более жестокие акты насилия осуществлялись агентами русского правительства в военных поселениях, где большинство составляли поляки и русины, исповедующие католическую веру. Достаточно упомянуть лишь о том, что произошло в 1835 году в Старосельском военном поселении Витебской губернии. Однажды командир собрал всех солдат и объявил, что им предстоит принять ту же веру, какую исповедует император, ибо такова его воля, повиноваться которой – их священный долг. Большинство солдат сказали, что им легче умереть, чем предать свою веру, но не успели они произнести эти слова, как русские солдаты того же полка по приказу командира бросились на своих товарищей и обрушили на них палочные и сабельные удары, от которых многие из несчастных вскоре умерли» (т. I, с. 244–245).
«Более 160 священников заплатили жизнью за героическую верность своей религии: их подвергли различным унижениям, а затем сослали в Сибирь, где большинство из них умерло» (т. I, с. 249).
«Выслушаем победную песнь, которую затянуло после того, как униаты изменили своей вере, русское правительство; вот что писала по этому поводу «Северная пчела»{421}, газета официальная:
«В сем дивном событии всяк видел подтверждения неоспоримой истины, что все стремится к своему началу и воссоединение бывшей греко-униатской церкви с православной не представило, в сущности своей, ничего нового для обеих: родное возвратилось к родному, законное достояние к законной власти. Ныне духовенство обеих, или, точнее говоря, одной и той же церкви, приносит совокупную бескровную жертву Всемогущему, по всему пространству воссоединенных епархий, там, где некогда падали несчастные жертвы лютого изуверства. Богопротивным средствам злополучного прежнего времени противопоставлены были меры убеждения, и сколь ужасно было отторжение детей от лона матери, столь ныне везде легко и радостно их возвращение к ней. Древние язвы исцелены, догматы Веры утверждены, дух и совесть успокоены, целая отрасль церкви российской от так называемой Унии возвращена к истинному единству Вселенскому, и Россия, преуспевающая в делах Веры мудрыми попечениями и благочестивым примером августейшего монарха, стремится, подобно ему, излить благодарные чувства перед Небесным виновником сего мирного торжества своего, которого благие последствия неисчислимы. Отныне можно смело сказать, что, кроме лишь собственно так называемой Литвы и Жмуди{422}, все основное население западных областей Империи есть не только русское, но и православное; и напрасно было бы усилие врагов ее утверждать противное вопреки исторической истине и действительной сущности вещей. Их мнение не найдет себе отголоска в коренных тамошних жителях, вспомнивших свое начало, свой язык и свою древнюю Веру» (т.1, с. 267–268).
«Еще один указ, от 2 января 1839 года, сулит всякому католику, приговоренному за убийство или другое преступление к наказанию кнутом, к каторжным работам или тюремному заключению, прощение, если он перейдет в православие. Вероотступники получают разрешение носить на анненской ленте медаль в память о своем отречении от веры отцов. Так католическая церковь теряет паству, имущество и права» (т. I, с. 333).
3. Предисловие автора к пятому изданию (1854)
15 июня 1854
Эту книгу постигла судьба, какая всегда постигает истину: первое ее издание поразило многих читателей; затем люди предубежденные обрушились на нее с решительным осуждением; наконец, еще позже, некоторые беспристрастные судьи встали на ее защиту и сказали о ней немало лестных слов. Они разглядели в ней новые картины (новым был в пору появления книги сам ее предмет), откровенные замечания, рассказы смелые в силу их искренности: этого довольно для того, чтобы заслужить снисхождение людей выдающихся. Я счастлив, что могу выразить здесь признательность всем, кто мне покровительствовал. Благодаря поддержке этих властителей дум мои письма о России сделались известны всей Европе. По правде говоря, успеху книги немало способствовал гнев императора Николая и протесты русских, почитавших своим долгом вторить своему повелителю. «Эта книга – сущее бедствие», – сказал император Николай и, разорвав ее, швырнул себе под ноги{423}. Все дело в том, что она полна лестных замечаний, которые делают еще более суровыми замечания осуждающие; благодаря им критика превращается из расчетливой сатиры в признания, вырванные у автора против его воли, а они стоят куда дороже. Истина никогда не бывает так могущественна, как когда ее провозглашают, можно сказать, невзначай. Дабы все могли ее усвоить, говорящий не должен навлекать на себя ни малейшего подозрения в пристрастности, да и вообще в том, что им движут страсти. В наши дни все так хорошо знают цену духу партий, что доверия к нему никто не питает: даже если бы охваченным им людям случилось сказать нечто справедливое, им бы, пожалуй, все равно никто не поверил. Дух партий несовместен с истиной: он непременно преувеличивает ее и тем ослабляет.
Один из тех литераторов, чьи суждения имеют особенно большой вес, г-н Сен-Марк Жирарден, начал свою весьма благожелательную статью в «Журналь де Деба»{424} со слов: «Эти путевые заметки больше, чем книга; это – событие».
Благодаря столь счастливому стечению обстоятельств книга расходилась гораздо лучше, чем можно было ожидать. Особы, утверждающие, что хорошо осведомлены о результатах работы комиссии, призванной определить величину убытков, которые причинили французским издателям брюссельские «пиратские» перепечатки, уверяли меня, что в Бельгии разошлось больше 160 тысяч экземпляров моего «Путешествия»; таким образом, получается, что, вкупе с переводами на английский, немецкий и шведский, за границей было продано около 200 тысяч экземпляров моей книги. Подобная конкуренция не могла не повредить печатанию книги в Париже, и тем не менее здешние издания следовали одно из другим с большой быстротой.
Казалось бы, теперь, когда книга эта уже произвела свое действие, она больше не должна никого интересовать, так что останется она в литературе или канет в Лету, зависит только от времени. Однако в течение десяти лет, прошедших со дня ее выхода в свет, мир не стоял на месте и развивался так быстро, что те наблюдения, которые в пору выхода книги вызывали споры, ныне признаны фактами неопровержимыми. Я, разумеется, ни в малейшей мере не притязаю на звание пророка, но почитаю своим долгом сказать вслух и как можно громче: Россия в самом деле такова, какой увидел ее я и какой по самым разным причинам не желали ее видеть многие другие люди. Имей любознательные путешественники доступ в эту страну, сегодня всякий разглядел бы там то же, что и я.
Доблесть моя заключалась лишь в том, что в эпоху, когда принято было изображать вещи такими, какими они должны быть, я дерзнул показать их такими, каковы они в действительности. В ту пору Россия представала перед Европой в ореоле лжи; лишь нынешней войне оказалось под силу разрушить эти чары: вот, на мой взгляд, вывод, который позволительно и полезно сделать. Не имея оснований пренебрегать собственными достоинствами, осмелюсь поставить себе в заслугу еще одно: мне удалось разглядеть истинное лицо государя, который носит самую непроницаемую маску в мире, ибо правит народом, для которого лицемерие – вторая натура.
Император Николай прежде всего – уроженец своей страны, страна же эта не может вести честную политику, ибо судьба постоянно увлекает ее на путь завоеваний, свершаемых на благо деспотизма, подобных которому нет в мире, ибо он весьма искусно притворяется цивилизованным. Только люди бесконечно доверчивые или бесконечно недобросовестные могли искать в этой стране лекарство от опасностей, грозящих Европе.
Теперь, когда завеса частично сорвана, настала, я полагаю, пора сорвать ее целиком; теперь я обращаюсь уже не к людям, у которых много свободного времени, не к профессиональным читателям: я хочу быть услышанным всем миром, и потому решился выпустить дешевое издание моей книги, издание для народа{425}. Нынче во Франции народ не просто читает, но и понимает прочитанное; он, пожалуй, скорее, чем многие литераторы, способен встать на точку зрения автора. Какие бы притязания ни питали индивиды, массы всегда будут сохранять известную простоту; именно от них ожидаю я нового суждения о своей книге; суждение это будет беспристрастным, ибо они меня не знают! Люди, которые нас знают, никогда не относятся к нам безразлично; между тем безразличные читатели едва ли не нужнее писателю, чем остроумные друзья; в конечном счете они-то и составляют его истинную публику, ту, с которой он мечтает говорить. Именно на них я и рассчитываю. Я не принадлежу к тем, кто думают или, по крайней мере, говорят, что успех ничего не доказывает. Когда его добиваешься, выясняется, что он доказывает очень многое, а предчувствие, что он обойдет тебя стороной, не вызывает ничего, кроме ужаса.
Мне, однако, придает силы религиозная мысль, пронизывающая мою книгу: когда в дело вмешивается вера, писательское самолюбие успокаивается довольно скоро. Смириться с поражением автору помогает сознание выполненного долга. Полтора десятка лет назад я предсказывал неминуемый поединок католической церкви с русской православной церковью; борьба – борьба вооруженная, борьба страшная – уже началась{426}; чем-то она закончится? Господь вершит свой суд, не объявляя людям, для какой цели пускает он в ход их силы; он скрывает свою тайну от земли и держит зерцало истины повернутым к небу. Человек предполагает, а Бог располагает, гласит великая мудрость. Никогда еще не получали эти слова такого ослепительного подтверждения, как в нынешнюю эпоху. Творит ее историю Господь, напишет же тот, у кош достанет сил. Когда еще вмешательство Провидения в борьбу сил человеческих было столь явным? Доказать толпе сверхъестественную природу свершающихся ныне событий – вот миссия, которую должен стараться исполнить, по мере своих способностей, всякий добросовестный автор. Скромные повествования путешественников суть материалы, на основании которых грядущие историки произнесут свой приговор. Дела человеческие – не что иное, как череда судебных процессов, на которых судьей всегда выступает потомство. Я же сочту, что трудился не напрасно, если смогу льстить себя надеждой, что на грядущем суде приготовленные мною документы помогут докладчику изложить существо сегодняшних прений. Возможно, намерение мое не свободно от честолюбия, но, не владей мною это чувство, мне не достало бы сил продолжать мой труд, каков бы он ни был.








