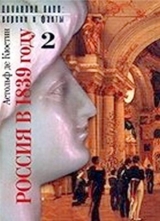
Текст книги "Россия в 1839 году. Том второй"
Автор книги: Асгольф Кюстин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
Средний класс, до сих пор малочисленный в сравнении с прочими, состоит почти исключительно из иностранцев; его начинают понемногу пополнять богатые крестьяне, выкупившиеся на волю, и мелкие чиновники, выслужившиеся в чине; будущее России зависит от этих новых буржуа, по происхождению столь различных, что им почти невозможно сойтись в своих воззрениях; для соединения их трудятся тайные общества.
Император пытается ныне создать русскую нацию, но одному человеку это нелегко. Зло быстро творится, зато медленно исправляется; сам испытывая к деспотизму отвращение, деспот, должно быть, часто отдает себе отчет в пороках неограниченной власти. Готов поверить – однако совестливость угнетателя не извиняет угнетения, и хотя мне жаль творящих эти преступления (зло всегда достойно сожаления), но еще большую жалость внушают мне страдания угнетенного. Какова бы ни была в России видимость, под нею всегда таятся насилие и произвол. Устрашая подданных, тирания обрела покой – только тем власть и сумела по сей день облагодетельствовать свой народ.
И вот, когда случай сделал меня свидетелем неслыханных бедствий, переживаемых людьми в государстве, одно из начал которого непомерно преувеличено, – что же, опасение задеть чью-то щекотливость заставит меня молчать об увиденном? Да я был бы недостоин иметь зрение, если б уступил этой малодушной предвзятости, которую мне пытаются теперь представить как уважение к общественным приличиям; как будто совесть моя не требует к себе уважения в первую очередь. А если б меня пустили в тюрьму и я бы понял, что скрывается за молчанием запутанных узников, – что же, я не посмел бы поведать об их мучениях из страха быть обвиненным в неблагодарности, потому как тюремщики весьма любезно водили меня по своим застенкам? Подобная сдержанность была бы вовсе не добродетельною; итак, заявляю: я внимательно всматривался, чтоб разглядеть утаиваемое, внимательно вслушивался, чтоб расслышать умалчиваемое, внимательно старался распознать все лживое в том, что мне говорили, и ныне без преувеличения уверяю вас, что в Российской империи люди бедствуют больше всего на свете, страдая от тягот варварства и цивилизации одновременно. Сам я почитал бы себя вероломным подлецом, если бы, уже нарисовав со всею вольностью духа картину большой части Европы, отказался дополнять ее из боязни переменить некоторые прежние свои мнения и оскорбить некоторых особ правдивым изображением страны, которую никогда еще не показывали в подлинном виде. Скажите на милость, отчего должен я проявлять уважение к дурному? Разве скован я какою-либо иною цепью, кроме любви к истине?
На мой взгляд, в русских очень много житейского такта и хитрости, но мало чувствительности; об этом я уже говорил. Чрезвычайная обидчивость в соединении с изрядною долей черствости составляет, полагаю, основу их характера; об этом я тоже говорил. Тщеславная прозорливость, холопская проницательность, язвительное лукавство – таковы главные свойства их ума; все это я также говорил и повторяю вновь, ибо недостойною уловкой было бы щадить самолюбие тех, кто сам столь немилосерден к другим (обидчивость не есть деликатность). Пора бы этим людям, столь зорким к порокам и нелепостям нашего общества, привыкнуть к тому, что и о них самих говорят не обинуясь; окружая их дипломатическим молчанием, мы лишь вводим их в заблуждение, расслабляем их ум; если русские хотят быть признаны народами Европы и иметь с нами дела на равных, пускай сперва научатся слушать суждения о себе. Такому суду подвергаются все народы и не придают тому особенного значения. С каких это пор немцы принимают у себя англичан под тем лишь условием, что те станут хорошо отзываться о Германии? У всякого народа есть веские причины быть таким, каков он есть; и самая веская из них та, что иным он быть и не может.
Правда, к русским такое оправдание не подходит, во всяком случае к тем из них, кто умеет читать. Коль скоро они все на свете перенимают, то могли бы и сделаться иными; именно потому, что это возможно, правительство их и отличается такою подозрительностью, доходящею до свирепства!.. Ему хорошо известно, что людям-отражениям ни в чем доверять нельзя.
Меня могло бы остановить более сильное побуждение – боязнь обвинений в отступничестве. «Он так долго ополчался против либерального витийства, – станут говорить, – а ныне уступает течению и ищет ложной популярности, которую прежде презирал».
Возможно, я и не прав, но чем более размышляю, тем менее допускаю, чтобы такой упрек мог меня уязвить или даже чтобы кому-то пришло в голову мне его бросить.
Уже с давних пор умами русских владеет страх, что иноземцы станут их бранить. В странном этом народе крайняя хвастливость сочетается с чрезвычайною неуверенностью в себе; наружное самодовольство и беспокойное самоуничижение внутри – такое замечал я в большинстве русских. Их тщеславие не знает ни устали, ни удовлетворения, так же как надменность англичан; оттого в русских не бывает простоты. «Наивность» – французское слово, точный смысл которого непередаваем ни на одном языке, кроме нашего, ибо само это качество присуще лишь нам; наивность – это простодушие, способное сделаться и лукавым; это дар остроумия, которое рождает смех, не нанося обид; это пренебрежение ораторскими уловками, больше того, готовность дать собеседникам оружие против себя; это непредубежденность в суждениях, нечаянная меткость в выражениях, отказ от самолюбия во имя истины; одним словом, это галльская прямота – русским же она неведома. Народ-подражатель никогда не будет наивен, искренность у него всегда будет убита расчетом.
В завещании Мономаха мне попались любопытные мудрые поучения, обращенные к сыновьям; особенно поразило меня одно место – это признание весьма полезно запомнить: «Всего же более чтите гостя, и знаменитого и простого, и купца и посла; если не можете одарить его, то хотя брашном и питием удовольствуйте: ибо гости распускают в чужих землях и добрую и худую об нас славу» (из поучения Владимира Мономаха своим сыновьям в 1126 году){359}. Князь этот назван был в крещении Василием (Карамзин. История государства Российского, перевод гг. Сен-Тома и Жоффре. Париж, 1820. Т. II, с. 205).
Согласитесь, что такими самолюбивыми ухищрениями гостеприимство изрядно обесценивается. Оттого не раз во время путешествия приходило мне на память то, что называется расчетливою любовью к ближнему. Речь не о том, чтоб отнять у людей воздаяние за добрые дела, но безнравственно, гнусно выставлять эту награду как первейшее побуждение к добродетели.
Вот еще несколько отрывков из того же автора, подкрепляющих собственные мои наблюдения.
Сам Карамзин рассказывает о пагубном влиянии монгольского нашествия на характер русского народа; кто найдет мои суждения слишком суровыми, тот может убедиться, что они удостоверены мнением серьезного историка, склонного притом скорее к снисходительности.
«Забыв гордость народную, – пишет он, – мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая татар, более обманывали и друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов» (Из того же сочинения. T. V, гл. 4, с. 447 и след.){360}.
Несколько далее:
«Может быть, самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством монголов…
Но заметим, что вместе с иными благородными чувствами ослабела в нас тогда и храбрость, питаемая народным честолюбием…
Власть народная также благоприятствовала силе бояр, которые, действуя чрез князя на граждан, могли и чрез последних действовать на первого: сия опора исчезла. Надлежало или повиноваться государю, или быть изменником, бунтовщиком; не оставалось средины и никакого законного способа противиться князю. – Одним словом, рождалось самодержавие».
Закончу эти выписки двумя отрывками о царствовании Ивана III; они также взяты у Карамзина (т. VI, с. 351).
Рассказав о том, как царь Иван III колебался в выборе престолонаследника между сыном своим и внуком, историк продолжает: «К сожалению, летописцы не объясняют всех обстоятельств сего любопытного происшествия (здесь говорится о раскаянии государя, возвратившего свою нежность супруге и сыну и отдалившего от себя внука, которого сам же венчал на царство), сказывая только, что Иоанн возвратил наконец свою нежность супруге и сыну, велел снова исследовать бывшие на них доносы, узнал козни друзей Елениных и, считая себя обманутым, явил ужасный пример строгости над знатнейшими вельможами, князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым, двумя его сыновьями и зятем, князем Симеоном Ряполовским, обличенными в крамоле: осудил их на смертную казнь…»{361}
Этот Иван III, казнивший смертью за крамолу, почитается у русских как один из величайших людей.
Такие же или почти такие же вещи происходят в России и поныне. Из-за всевластия самодержцев здесь нет уважения к судебному приговору; император, став лучше осведомлен о деле, всегда может отменить то, что решил он, будучи осведомлен плохо[76]76
Смотри выше историю Павлова и множество других подобных случаев.
[Закрыть].
Признания Карамзина показались мне вдвойне значительны в устах столь льстивого и робкого историка, как он. Я мог бы умножить подобные выдержки, но, думается, привел их довольно, чтобы отстоять свое право высказывать не обинуясь мои соображения, ведь они подтверждаются мнением даже такого автора, которого упрекают в пристрастном взгляде.
В стране, где умы с детских лет приучаются к скрытности и ухищрениям восточной политики, естественность поневоле встречается реже, чем где-либо; когда же она есть, то обладает особым очарованием. Я видел в России нескольких человек, которые стыдятся безжалостно давящего их гнета власти, будучи принуждены под ним жить и не осмеливаясь даже жаловаться; такие люди бывают свободны только пред лицом неприятеля, и они едут сражаться в теснинах Кавказа, ища там отдыха от ярма, которое приходится им влачить дома; от такой печальной жизни на челе их остается печать уныния, которая плохо вяжется с их воинскими манерами и беспечностью их возраста; юные морщины изобличают глубокую скорбь и внушают искреннюю жалость; эти молодые люди взяли у Востока глубокомыслие, а из мечтаний Севера – смутность духа и наклонность к грезам; в несчастье своем они очень привлекательны; ни в одной стране нет на них похожих{362}.
В русских есть изящество, а значит, должен быть и какой-то особый род естественности, которого я, впрочем, не сумел разглядеть; возможно, он вообще неуловим для чужеземца, проехавшегося по России столь быстро, как я. Ни один народ не имеет столь трудноопределимого характера, как этот.
У русских не было средневековья, у них нет памяти о древности, нет католицизма, рыцарского прошлого, уважения к своему слову[77]77
Несмотря на все сказанное выше, нелишне, быть может, пояснить, что это относится лишь к народным массам, которым в России ведома только власть страха и силы.
[Закрыть]; они доныне остаются византийскими греками – по-китайски церемонно вежливыми, по-калмыцки грубыми или, по крайней мере, нечуткими, по-лапонски грязными, ангельски красивыми и дико невежественными (исключая женщин и кое-кого из дипломатов), по-жидовски хитрыми, по-холопски пронырливыми, по-восточному покойными и важными в манерах своих, по-варварски жестокими в своих чувствах; они презрительно насмешливы от безысходности, побуждаемые к язвительности вместе и природою, и ощущением собственной приниженности; они легкомысленны, но лишь на внешний вид – по сути своей русские расположены к серьезным делам; все они довольно умны, чтоб развить в себе необыкновенно тонкий житейский такт, но ни у кого недостает великодушия, чтобы подняться выше хитрости; они внушили мне отвращение к этой способности, без которой у них не проживешь. Следящие за каждым своим шагом, они кажутся мне самыми жалкими людьми на свете. Прискорбное это достоинство – такт житейских условностей, узда, накинутая на вольное воображение, принуждающая беспрестанно жертвовать своим чувством ради чужого; с отрицательным этим достоинством несовместны иные, положительные и высшие, достоинства; это ремесло честолюбивого льстеца, всегда готового исполнять чужую волю, постоянно следящего и отгадывающего, к чему ведет дело хозяин, – вздумай он сам дать делу толчок, его тут же прогонят вон. Чтобы дать делу толчок, нужна гениальность; для сильного гениальность и есть его такт, для слабого же такт составляет всю его гениальность. В русских нет ничего, кроме такта. Гений зовет к действию, а такт – лишь к наблюдению; чрезмерная же наблюдательность приводит к неуверенности, а значит, к бездействию; гений может сочетаться с большою искусностью, но не с крайнею тонкостью такта, ибо в коварной этой льстивости – высшей доблести холопа, который чтит врага-господина, не решаясь его сразить, – всегда есть доля притворства. Благодаря такой изощренности, достойной сераля, русские непроницаемы для чужого взгляда; всегда, правда, заметно, что они нечто скрывают, но что именно – неизвестно, а им того и довольно. Еще хитрее и опаснее станут они тогда, когда научатся скрывать самое свою хитрость.
Некоторые из них этого уже достигли – то высшие представители нации, как по занимаемому положению, так и по могуществу ума, с каким вершат они свою власть. Здраво судить об них я могу только задним числом, при встречах же бывал заворожен их обаянием.
Но, Бог мой, к чему же столько уловок?
Какою целью объясняется все это притворство?
Что за обязанность или корысть понуждает людей к столь долгому и утомительному ношению личин?
Быть может, все эти приемы предназначены лишь защищать действительную и законную власть?.. Но такая власть в них не нуждается – истина сама обороняет себя. Или же так удовлетворяются ничтожные тщеславные притязания? Возможно. Однако ж доставлять себе столько хлопот, чтоб получить столь скудные плоды, – труд недостойный тех серьезных людей, что им заняты; замысел их представляется мне глубже; иная, важнейшая цель видится мне, – в ней и усматриваю я причину их удивительной скрытности и терпеливости.
В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям – одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.
В лице императора Николая подданные обожают не человека, но честолюбивого вождя еще более честолюбивой нации. В страстных своих устремлениях русские скроены по образу древних; все напоминает у них о Ветхом завете; их чаяния и терзания столь же велики, сколь и их империя.
Ни в чем не знают они пределов – ни в муках, ни в наградах, ни в жертвах, ни в упованиях; они могут достичь огромной власти, но лишь тою ценой, какою азиатские народы покупают незыблемость своего правления, – ценою счастья.
Россия видит в Европе свою добычу, которая рано или поздно ей достанется вследствие наших раздоров; она разжигает у нас анархию, надеясь воспользоваться разложением, которому сама же способствовала, так как оно отвечает ее замыслам; сделанное с Польшей затевают вновь, в большем размере{363}. Париж уже не первый год читает возмутительные газеты – возмутительные во всех смыслах, – оплачиваемые Россией{364}. «Европа идет тою же дорогой, что и Польша, – говорят в Петербурге, – напрасным либерализмом она сама себя ослабляет, тогда как мы остаемся могущественны потому именно, что не свободны; потерпим же под ярмом, за свой позор мы отыграемся на других».
Невнимательному взгляду раскрытый мною здесь план может показаться химерическим; всякий же, кто посвящен в ход европейских дел и в тайны министерских кабинетов за последние двадцать лет, признает его верным. Здесь ключ ко многим загадкам, здесь простое объяснение тому, что лица, весьма серьезные по характеру своему и положению, полагают чрезвычайно важным, чтоб иностранцы видели их только с благоприятной стороны. Если бы русские были, как они утверждают, опорою порядка и законной монархии, разве стали бы они использовать людей и, хуже того, средства, ведущие к революции?
Одною из жертв наваждения, против которого хотел бы я предостеречь всех нас, является Рим, с его противоестественным доверием к России{365}[78]78
Писано в 1839 году.
[Закрыть]. Рим и весь католический мир не имеют большего и опаснейшего врага, нежели император российский. Рано или поздно в Константинополе, под покровительством православных самодержцев, единовластно воцарится схизма; тогда-то христианскому миру, расколотому на два лагеря, станет ясно, сколько вреда принесла римской церкви политическая слепота ее главы{366}.
Сей владыка, устрашившись расстройства, в котором очутились наши страны в пору его восшествия на папский престол, ужасаясь нравственному ущербу, который причинили Европе наши революции, не имея поддержки, растерявшись в окружении равнодушного или насмешливого света, – всего более боялся народных восстаний, от которых уже пострадали и он сам, и его современники; тогда-то, поддавшись пагубному влиянию ограниченных умов, последовал он советам житейской осмотрительности и стал действовать с мирскою мудростью, с земною ловкостью – в глазах же Бога был слеп и слаб; так дело католицизма в Польше осталось без естественного своего защитника, возглавляющего на земле истинную церковь{367}. Много ли сегодня наций, готовых отдать Риму своих солдат? И вот папа, будучи всеми оставлен и отыскав народ, еще готовый ради него на смерть… отлучил его!! Единственный из земных владык, обязанный оставаться с народом этим до конца, он отлучил его в угоду повелителю схизматиков! Правоверные католики в ужасе вопрошали себя, куда девалась неустанная прозорливость святейшего престола; отлученные мученики видели, что Рим жертвует католическою верой ради православной политики, и Польша, павши духом в священной борьбе, приняла свой удел, не в силах его понять[79]79
Упреки эти, не выходящие, на мой взгляд, за рамки почтительности, нашли себе подтверждение в последних эдиктах римской курии.
[Закрыть].
Ужели наместник Бога на земле еще не признал, что со времен Вестфальского мира{368} все войны в Европе – войны религиозные? Какие опасения плоти помутили его взор настолько, что в делах небесных обратился он к средствам, годным для земных царей, но недостойным владыки всех владык? Их престолы воздвигаются и рушатся, его же престол пребудет вечно – да, вечно, ибо даже в катакомбах первосвященник был бы выше и прозорливей духом, чем восседая ныне в Ватикане. Обманутый хитроумными мирянами, он не разглядел сути вещей и, сбитый с верного пути своею политикой страха, забыл, что ему есть где черпать силу – в политике веры[80]80
Невежество в делах религии настолько велико в наши дни, что один католик, весьма умный человек, которому я читал эти строки, перебил меня: «Какой же вы после этого католик – вы браните самого папу!» Как будто папа так же безупречен в делах мирских, как непогрешим он в вопросах веры! Да и эту непогрешимость сторонники галликанства ограничивают известными оговорками, при всем том считая себя католиками. Разве Данте когда-нибудь обвиняли в ереси? А между тем как обходится он с папами, которых поместил в свой ад! Лучшие умы нашего времени впадают в путаницу, которая в прежние века рассмешила бы любого школяра. Отвечая своему критику, я отослал его к Боссюэ (Имеется в виду сочиненная Боссюэ (см. примеч. к т. I, с. 377) «Декларация французского духовенства» (1682), которая, не подвергая сомнению авторитет папы римского, утверждала независимость от него королей в вопросах светских, а галликанской церкви – в вопросах церковного управления, равно как и подчинение папы в вопросах веры вселенским соборам.), который в своем изложении католического учения, всегда встречавшем поддержку, одобрение и похвалу от римской курии, дает достаточное оправдание моим принципам.
[Закрыть].
Но терпение – развязка назревает, скоро все вопросы будут поставлены ясно, и истина при поддержке законных своих защитников вновь обретет свою власть над умами народов. Быть может протестантам близящаяся схватка даст понять одну важнейшую истину, которую я уже не раз высказывал, но не перестаю повторять, ибо она представляется мне единственно необходимою для скорейшего воссоединения всех исповеданий христианской веры, – а именно то, что во всем мире подлинно свободен только католический священник. Всюду, кроме католической церкви, священнослужитель подчинен иным законам, иным понятиям, чем законы и понятия его совести и вероучения. Потрясает непоследовательность англиканской церкви, и содрогание вызывает униженность православной церкви в Петербурге; как только в Англии прекратится власть ханжества, большая часть королевства вновь сделается католической. Римская церковь в одинокой своей борьбе спасла чистоту веры, отстаивая по всей земле, с возвышенным благородством, с героическим терпением и несгибаемою убежденностью, независимость духовенства против посягательства всех и всяческих мирских властей. Где найти церковь, которая не дала бы тем или иным земным правителям принизить себя до положения духовной полиции? Такая церковь только одна – католическая; ценою крови мучеников она сберегла себе свободу, вечный источник жизни и могущества. Будущее всего мира принадлежит ей, ибо она сумела остаться беспримесно чиста. Пусть суетится протестантизм – такова его природа; пусть волнуются и спорят друг с другом разные секты – такова их обычная забава; католическая церковь ждет своего часа!!!
Русское православное духовенство всегда являло и будет являть собою своего рода ополченцев, лишь мундиром своим несколько отличных от светских войск империи. Подчиненные императору попы и их епископы составляют особый полк клириков – только и всего.
Удивительно, как сильно отдаленность России от Западной Европы до сих пор помогала русским скрывать все это от нас. Лукавая греческая политика боится правды, обладая несравненным умением извлекать выгоду из лжи; но меня поражает, как удается ей так долго поддерживать господство этой лжи.
Вам понятно теперь, какую важность имеет чье-то суждение, насмешливая фраза или письмо, шутка или улыбка, не говоря о целой книге, в глазах этого правительства, пользующегося доверчивостью своего народа и угодливостью всех иностранцев.
Одно лишь слово правды, брошенное в Россию, – все равно что искра, упавшая в бочонок с порохом.
Что за дело тем, кто правит Россией, до нищеты императорских солдат, до их бескровных лиц? На этих живых призраках – красивейший в Европе мундир; что за важность, если на зимних квартирах эти раззолоченные тени кутаются в грубошерстные балахоны?.. Пусть в тайне сохраняются их убожество и грязь, а на виду будет один только блеск – ничего более от них не требуется и ничего иного им не дается. Богатство русских – покров, наброшенный на нищету; все заключается для них в видимости, и видимость у них обманывает чаще, чем где-либо еще. Оттого любой приподнявший край покрова навсегда погиб во мнении Петербурга.
Общественная жизнь в этой стране – сплошные козни против истины.
Всякий, кто не дает себя провести, считается здесь изменником; посмеяться над бахвальством, опровергнуть ложь, возразить против политической похвальбы, мотивировать свое повиновение – является здесь покушением на безопасность державы и государя; такого преступника ждет участь революционера, заговорщика, врага государственного порядка, преступника, виновного в оскорблении величества… участь поляка; а вам известно, сколь жестока эта участь! Щекотливость, проявляющаяся таким образом, более пугает, чем смешит; столь придирчивый надзор правительства, согласный со столь же ревнивым тщеславием народа, – это уже не забавно, а страшно.
Волей-неволей приходится быть осторожным, имея государем своим человека, который не милует ни одного врага, не оставляет без кары ни малейшего ослушания и, таким образом, долгом своим почитает возмездие. Для такого человека, воплощающего в себе государство, простить значило бы отречься от веры своей, быть милосердным – уронить себя, выказать человечность – пренебречь своим величием… да что там, своею божественностью! Отказаться от поклонения, которым он окружен, не в его власти.
Русская цивилизация еще так близка к своему истоку, что походит на варварство. Россия – не более чем сообщество завоевателей, сила ее не в мышлении, а в умении сражаться, то есть в хитрости и жестокости.
Своим последним восстанием Польша отсрочила взрыв уже заложенной мины, готовые к бою батареи остались в укрытии; ей никогда не простят этой необходимости таиться – таиться не от нее самой (ибо ее– то безнаказанно умерщвляют), но от ее друзей, которых приходится и далее дурачить, чтоб не спугнуть их человеколюбивых чувств. Соучастником такой мести, великодушной и яростной (заметьте оба этих обстоятельства), пытаются сделать и того, кто несет передовую стражу против новоявленной Римской империи, которая будет именоваться греческою, – и вот самый осмотрительный, но и самый слепой из европейских государей[81]81
Писано при жизни покойного короля Пруссии, в 1839 году.
[Закрыть] начинает в угоду соседу своему и повелителю религиозную войну{369}… Подвигнутый на сей путь, он уже не скоро остановится; а коли сбили с толку его, то совратят и многих других…
Прошу принять в рассуждение, что, если русские когда-либо добьются господства над Западом, они не станут править им, сами оставаясь дома, как монголы в старину; напротив, они поспешат покинуть свои заледенелые равнины; они не последуют примеру бывших своих повелителей – татар, вымогавших дань у славян издалека (ибо климат Московии страшил даже монголов); едва лишь перед московитами откроются дороги в чужие края, как они толпами устремятся вон из своей страны.
Сейчас они толкуют о своей умеренности, открещиваются от замыслов завоевания Константинополя{370}; они-де боятся любого расширения империи, где и так уж большие расстояния стали сущим бедствием; подумать только, до чего они осмотрительны – даже опасаются жаркого климата!.. Погодите, скоро вы увидите, чем обернутся все эти опасения.
Повстречав столько лжи и столько бед, нам грозящих, как же мне не оповестить о них?.. Нет-нет, лучше уж обознаться, но рассказать, чем верно все разглядеть и смолчать. Пусть даже, излагая свои наблюдения, я буду дерзок – скрывши их, я был бы преступен{371}.
Русские не станут мне отвечать – они скажут: «За четырехмесячную поездку{372} он слишком мало повидал».
Действительно, я мало повидал, но многое угадал.
Если же меня удостоят опровержением, то отрицать будут факты – это исходный материал всякого рассказа, а в Петербурге их привыкли не ставить ни во что; прошлым, как и будущим и настоящим, распоряжается там самодержец; повторю вновь: единственное достояние русских – покорность и подражание, руководство же их умом, мнениями и свободною волей принадлежит государю. История составляет в России часть казенного имущества, это моральная собственность венценосца, подобно тому как земля и люди являются там его материальною собственностью; ее хранят в дворцовых подвалах вместе с сокровищами императорской династии, и народу из нее показывают только то, что сочтут нужным. Память о том, что делалось вчера, – достояние императора; по своему благоусмотрению исправляет он летописи страны, каждый день выдавая народу лишь ту историческую правду, которая согласна с мнимостями текущего дня. Так в пору нашествия Наполеона внезапно извлечены были на свет и сделались знамениты уже два века как забытые герои Минин и Пожарский{373}: все потому, что в ту минуту правительством дозволялся патриотический энтузиазм.
Однако ж столь непомерная власть вредит сама себе, и Россия не вечно будет ее терпеть – в армии теплится дух мятежа. Я согласен с императором – русские слишком много ездили по свету; народ сделался охоч до знаний; а против мысли бессильна таможня, ее не истребить войсками, не остановить крепостными стенами – она пройдет и под землею. Идеи носятся в воздухе, проникают всюду, а идеями изменяется мир[82]82
Ныне, уже после того как я это написал, император позволяет множеству русских жить в Париже (На самом деле получить заграничный паспорт в начале 1840-х гг. было так же трудно, как и в конце 1830-х (см. примеч. к т. 1. с. 200).). Быть может, он думает излечить от грез сторонников реформ, показав им Францию вблизи; ему представляют ее как революционный вулкан, как страну, побывав в которой русские навсегда потеряют охоту к политическим преобразованиям; он заблуждается.
[Закрыть].
Из всего сказанного явствует, что будущность, которая мечтается русским столь блестящею для их страны, от них самих не зависит; у них нет своих идей, и судьба этого народа подражателей будет решаться там, где у народов есть свои собственные идеи; если на Западе утихнут страсти, если между правительствами и подданными установится союз, то жадные завоевательные чаяния славян сделаются химерой.
Нелишне повторить, что говорю я без всякой враждебности, что я описал положение вещей, никого не обвиняя лично, и что, делая свои выводы из некоторых пугающих меня фактов, я старался брать в расчет и силу необходимости. Я не обвиняю, а просто повествую.
Уезжая из Парижа, я полагал, что лишь тесный союз Франции и России способен внести мир в европейские дела; но, увидав вблизи русский народ и узнав истинный дух его правительства, я почувствовал, что этот народ отделен от прочего цивилизованного мира мощным политическим интересом, опирающимся на религиозный фанатизм; и мне думается, что Франция должна искать себе поддержку в лице тех наций, которые согласны с нею в своих нуждах. Союзы не основывают на мнениях вопреки интересам. У кого же в Европе согласные друг с другом нужды? У французов и немцев, а также у тех народов, которым природою суждено следовать за двумя этими великими нациями{374}. Судьбы нашей цивилизации, открытой, разумной и идущей вперед, будут решаться в сердце Европы; благотворно все способствующее скорейшему согласию между немецкою и французскою политикой; пагубно все задерживающее этот союз, пусть даже под самыми благовидными предлогами.
Грядет война между философией и верой, между политикой и религией, между протестантизмом и католическою церковью – и от того, чей стяг подымет Франция в этой борьбе гигантов, будет зависеть судьба всего мира, судьба церкви и прежде всего судьба Франции.
Правильность такой системы союзов, к которой я стремлюсь, будет подтверждена – наступит день, и у нас уже не окажется иного выбора.
Как иностранец, и особенно как иностранный литератор, я был осыпан изъявлениями учтивости со стороны русских; однако любезность их ограничивалась одними обещаниями – никто так и не помог мне заглянуть в существо дел. Многие тайны остались непроницаемы для моего разумения.
Проживи я в России целый год, я узнал бы немногим больше, тогда как суровости зимы тем более меня беспокоили, чем более уверяли меня местные жители, что она не так уж страшна. Закоченелые члены и обмороженные лица для них ничто; между тем я бы мог привести вам не один пример такого рода несчастий, приключавшихся даже со светскими дамами – как иностранками, так и русскими; причем, однажды обморозившись, человек ощущает последствия этой беды всю жизнь; рискуя по меньшей мере получить неизлечимые невралгические боли, я решил не подвергаться понапрасну этим опасностям, а равно и скуке, от которой приходится страдать, чтоб избежать их. Вообще в этой империи безмолвия, с ее бескрайними пустыми просторами, с голыми равнинами, с редкими городами, с замкнутыми лицами, чья неискренность делает пустым и все общество, меня одолевала тоска, я бежал не только от мороза, но и от сплина. Что бы ни говорили, но кто решится провести зиму в Петербурге, тот должен на шесть месяцев позабыть о живой природе и сидеть взаперти среди людей, лишенных чувств живых и естественных[83]83
В недавно напечатанных письмах леди Монтегю (Леди Мери Уортли Монтегю (урожд. Пьерпон; 1690–1762) – жена Эдуарда Уортли Монтегю, английского посла в Константинополе в 1716–1718 гг., вошедшая в литературу своими «Письмами» (изд. посмертно, 1763, т. 1–3). За совершенство эпистолярного стиля леди Монтегю называли «английской госпожой де Севинье». Поскольку Кюстин упоминает письма, «напечатанные недавно», можно предположить, что он пользовался Полным собранием сочинений леди Монтегю в 3 томах, изданным в 1836–1837 гг. в Лондоне ее внучкой Луизой Стюарт.) я обнаружил максиму турецких царедворцев, применимую ко всем угодникам, но особенно к угодникам русским – то есть ко всем русским вообще; она помогает уяснить, что между Турцией и Московией немало схожего: «Будь ласков с фаворитами, избегай опальных и не доверяйся никому» (Lady Mary Wortly Montegu's Letters, p. 159, t. 11).
[Закрыть].
Сказать Откровенно, я провел в России ужасное лето, ибо лишь малую толику увиденного удалось мне по-настоящему понять. Я надеялся добраться до разгадок, привез же вам одни загадки.
Особенно жалею я, что не сумел проникнуть в одну тайну – понять, отчего в России столь малым влиянием обладает религия
Разве православная церковь, несмотря на политическую свою порабощенность, не могла сохранить хоть какую-то нравственную власть над народом? Однако она вовсе ее не имеет. Откуда столь ничтожное положение церкви, которой все, казалось бы, споспешествует в ее делах? Вот в чем вопрос. Может быть, православной церкви вообще свойственно цепенеть в неподвижности, довольствуясь одними наружными знаками почтения? Или такой исход неизбежен всюду, где духовная власть впадает в полную зависимость от власти светской? Сам я так и считаю, но хотел бы уметь доказать вам это посредством документов и фактов. Изложу все же в нескольких словах вывод из своих наблюдений над отношениями русского духовенства с верующими.








