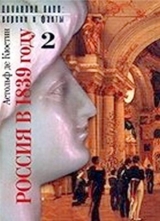
Текст книги "Россия в 1839 году. Том второй"
Автор книги: Асгольф Кюстин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
– Да, сударь, это мое место в дороге; на прогулке же я должен сидеть внутри. Я ведь ношу мундир.
Мундир его, описанный мною в другом месте, – просто-напросто одежда почтового рассыльного.
– Я, сударь, ношу мундир, у меня есть чин; я не лакей, я слуга императора.
– Мне мало дела до того, кто вы такой; да я и не говорил, что вы лакей.
– Я бы так выглядел, если б сел на это место во время прогулки по городу. Я служу уже не первый год, в награду за примерное поведение мне обещают дворянство; и я хочу получить его, у меня есть свое честолюбие.
Меня ужаснуло такое смешение наших старинных аристократических понятий с новейшим тщеславием, которое недоверчивый деспот внушает болезненно завистливым простолюдинам. Передо мною был образец погони за отличиями в самом худшем ее виде, когда выслуживающийся напускает на себя вид уже выслужившегося.
Мгновение помолчав, я заговорил вновь:
– Одобряю вашу гордость, если она обоснованна; но, будучи мало сведущ в обычаях вашей страны, я хочу, прежде чем дозволить вам сесть в коляску, сообщить о вашем притязании господину губернатору. Я намерен спрашивать с вас не более того, что вы обязаны, согласно полученным вами приказам; коль скоро появилось сомнение, то на сегодня освобождаю вас от службы; я поеду без вас.
Мне самому был смешон тот внушительный тон, каким я говорил; но я полагал, что такая напускная важность необходима, чтоб оградить себя от неожиданностей до конца поездки. Нет такого комизма, который бы не извинялся условиями и неизбежными последствиями деспотизма.
Этот человек, притязающий на дворянство и тщательно блюдущий дорожный этикет, при всей гордости своей обходится мне в триста франков жалованья ежемесячно; при последних моих словах он покраснел и, не ответив ни слова, вылез наконец из коляски, в которой до тех пор столь непочтительно восседал; молча вернулся он в дом. Не премину вкратце рассказать губернатору о вышеизложенном разговоре.
Место, где размещается ярмарка, очень обширно, а живу я весьма далеко от моста, который ведет к этому городку, заселяемому на один месяц в году. Пришлось признать, что я правильно поступил, поехав в коляске, я бы выбился из сил, еще не добравшись до ярмарки, если б был принужден проделать этот путь пешком по пыльным улицам, по открытой набережной и по мосту, где солнце палит целый день, а дни пока еще длятся примерно по пятнадцать часов, хотя с наступлением осени они скоро начнут стремительно убывать.
На ярмарке встречаются люди из всех стран мира, в особенности из дальних краев Востока; однако люди эти более необычны именами, нежели обликом. Все азиаты походят друг на друга, или, во всяком случае, их можно поделить на два разряда: у одних обезьяньи лица (калмыки, монголы, башкиры, китайцы), у других греческий профиль (черкесы, персы, грузины, индийцы и проч.).
Нижегородская ярмарка располагается, как я уже говорил, на огромном треугольнике песчаной, совершенно плоской суши, образующем мыс между Окою и широким руслом Волги, куда эта река впадает. С обеих сторон эта площадка примыкает, таким образом, к одной из рек. Земля, на которой скапливается столько богатств, почти не возвышается над уровнем воды; потому вдоль берегов Оки и Волги стоят одни лишь сараи, лачуги и товарные склады, сам же ярмарочный городок помещается заметно дальше от воды, у основания образуемого двумя реками треугольника; со стороны бесплодной равнины, простирающейся на запад и северо-запад, к Ярославлю и Москве, он ограничен лишь теми пределами, что пожелали поставить ему люди. Этот обширный торговый городок состоит из широких, длинных и совершенно прямых улиц; такое расположение вредит живописности целого; над лавками возвышается около дюжины павильонов причудливого стиля, называемых китайскими, но их недостаточно, чтоб скрасить унылое однообразие общего вида ярмарки. Этот прямоугольный базар кажется безлюдным, настолько он велик: стоит углубиться в ряды его лавок, как толпы уже больше не видать, в то время как у подходов к этим улицам теснятся целые орды. Ярмарочный городок, как и все современные города России, слишком просторен для своего населения, а между тем вам уже известно, что средняя численность этого населения составляет двести тысяч душ ежедневно; правда, в столь огромное количество приезжих следует включить и всех тех, что рассеяны по рекам, по судам, дающим кров целому народу водоплавающих существ, а также по палаточным лагерям, что окружают ярмарку как таковую. Дома купцов стоят поверх другого, подземного города – это превосходная сводчатая клоака, огромный лабиринт, где без опытного проводника можно заблудиться. Каждому ярмарочному ряду соответствует подземная галерея, которая тянется под ним на всю его длину и служит стоком для нечистот. Эти стоки, выложенные тесаным камнем, несколько раз в году промываются с помощью многочисленных насосов, качающих воду из ближних рек. В подземные галереи можно проникнуть по широким лестницам, сложенным из отличного камня. Если кто-то вздумает сорить на улицах базарного городка, то наблюдающие за порядком на ярмарке казаки вежливо приглашают его спуститься в эти катакомбы для нечистот. Это одно из самых грандиозных сооружений, виденных мною в России. Здесь есть образцы, которым могли бы следовать строители парижских стоков. По своей величине и прочности это напоминает Рим. Подземелья были построены императором Александром, который по примеру предшественников своих вознамерился победить природу, устроив ярмарку на участке, шесть месяцев в году затапливаемом водою. Он расточил многие миллионы, чтоб устранить последствия своего неосмотрительного решения перенести в Нижний Макарьевскую ярмарку.
При впадении в Волгу Ока раза в четыре шире Сены; река отделяет постоянный город от ярмарочного городка; на ней стоит столько судов, что на протяжении половины лье из-за них не видно воды. На судах, превращенных в шатры плавучего бивуака, каждую ночь кое-как ютятся сорок тысяч человек. Этот водоплавающий люд может примоститься где угодно – на мешке, на бочке, на лавке, на доске, на дне лодки, на ящике, на полене, на камне, на свернутом парусе; любая постель им впору, и спят они не раздеваясь; выбрав себе лежанку, расстилают на ней овчинный тулуп и ложатся на нем как на матраце. Скопление судов словно покрывает реку подвижным паркетом. По вечерам из этого водного городка доносятся глухие голоса, людская молвь, сливающаяся с бурлением волн; порой с необитаемого на вид островка, составленного из лодок, слышатся песни; действительно, особенно примечательно то, что на внешний взгляд суда, откуда раздаются звуки, пусты – по крайней мере днем; их обитатели лишь ночуют на них, да и то залезая в трюмы и скрываясь под водой, как муравьи под землей. Точно такие же скопления лодок образуются и на Волге близ устья Оки, встречаются они также и по течению Оки значительно выше нижегородского понтонного моста. Одним словом, куда ни бросишь взгляд, он всюду падает на ряды судов, иные из которых отличаются странною формой и расцветкой; над всеми суденышками возвышаются мачты, и все это вместе похоже на американские болота – это затопленный лес, заселенный людьми, съехавшимися со всех уголков земли и одетыми столь же причудливо, сколь странны их облик и физиономия. Более всего поразили меня на этой огромной ярмарке именно населенные людьми реки, напоминающие описания тех китайских городов, где реки становятся улицами и люди, по нехватке места на суше, живут на воде.
В этой части России крестьяне часто носят белые с красной вышивкой рубахи навыпуск; такой костюм заимствован у татар. Днем он блестит на солнце, а ночью белая ткань привидением выступает из тьмы; в целом ярмарка имеет вид чрезвычайно картинный, но слишком уж обширный и плоский; она не позволяет обозреть себя с первого взгляда и тем обманывает мое любопытство. Нижегородская ярмарка хоть и необыкновенно примечательна, но отнюдь не живописна: так чертеж отличается от рисунка; здесь больше дела для человека, занимающегося политическою экономией, промышленностью, арифметикой, нежели для поэта или художника; ведь здесь происходит торговый обмен между двумя главными частями света – не больше и не меньше. Повсюду в России я вижу, как ее по-голландски мелочное правительство ханжески заглушает природные качества своего народа – сообразительных, веселых, поэтических жителей Востока, прирожденных художников.
На просторных улицах ярмарки можно найти вместе любые товары со всего света, однако все они как-то затеряны; самый редкий товар – покупатели; что бы я ни видел в этой стране, я всякий раз восклицаю: «Слишком много места и слишком мало людей». Здесь все иначе, чем в странах с древним прошлым, где для цивилизации не хватает земли. Самые изящные и изысканные лавки на ярмарке – французские и английские; там ты словно попадаешь в Париж или Лондон; но не эта левантийская Бонд-стрит, не этот степной Пале-Руаяль{283} составляют истинное богатство нижегородского рынка; чтобы верно понять значение ярмарки, надо вспомнить о ее происхождении, о том, где устраивалась она первоначально. До Макарьева она располагалась в Казани{284}; в Казань съезжался народ с обоих концов Старого Света: Западная Европа и Китай встречались вместе в древней столице русской Татарии, чтобы обменяться своими изделиями. То же самое происходит ныне в Нижнем; но составить полное представление об этом рынке, куда посылают свои изделия два континента, нельзя, не отойдя прочь от прямолинейных торговых рядов и изящных «китайских» павильонов, что украшают базар, заложенный Александром; нужно прежде всего осмотреть стойбища, обступающие с разных сторон благоустроенную ярмарку. Линейка и шнур архитектора вслед за торговлею доходят до этих окраин, составляющих как бы задний двор замка или же ферму при нем; сколь бы пышным и блестящим ни было основное здание, в хозяйственных постройках царит вечный беспорядок – плод врожденной неряшливости и неизбывной нужды.
Осмотреть даже бегло эти окраинные склады – немалый труд, ибо величиною они не уступают целым городам. В них происходит непрерывное, поистине впечатляющее движение – хаос купли-продажи, где можно заметить такое, во что трудно поверить, пока не увидишь своими глазами либо Не услышишь рассказы серьезных и достойных веры людей, сопровождаемые расчетами.
Начнем с чайного городка: это азиатское стойбище раскинулось по берегам обеих рек, на самой стрелке у их слияния. Чай доставляется в Россию через Кятку{285}, расположенную в глубине Азии; при этой первой перевалке его обменивают на товары; отсюда его везут в тюках, похожих на ящики-кубики, величиною около двух футов в каждую сторону; тюки эти состоят из остова, обтянутого кожей, и покупатели протыкают их особыми щупами, чтобы, вытащив свой зонд, узнать качество товара. Из Кятки чай по суше перевозится до Томска; там его загружают на суда и везут по нескольким рекам, главные из которых Иртыш и Тобол; так он прибывает в Турмин{286}, откуда едет вновь по суше до сибирского города Пермь, оттуда по реке Каме вниз до Волги и затем опять вверх до Нижнего; каждый год Россия получает от семидесяти пяти до восьмидесяти тысяч ящиков чая, из которых половина остается в Сибири и перевозится в Москву зимой на санях, а вторая половина поступает на здешнюю ярмарку.
Этот маршрут записал для меня крупнейший чаеторговец России. Не ручаюсь ни за орфографию, ни за географию этого богача; но чаще всего миллионщики бывают правы, ибо они покупают чужую ученость.
Как видите, этот знаменитый караванный чай, якобы столь тонкий на вкус оттого, что перевозится по суше, на самом деле почти всю дорогу путешествует по воде; конечно, вода эта пресная, и речные туманы воздействуют на него куда слабей морских… А впрочем, если я не в силах что-либо объяснить, то ограничиваюсь тем, что просто отмечаю это.
Сорок тысяч ящиков чая – это легко сказать, но невозможно себе представить, сколько времени уходит на их осмотр, даже если просто, не считая, ходить вдоль сваленных грудою тюков. В нынешнем году их продали за три дня тридцать пять тысяч. Я посмотрел навесы, под которыми они сложены; четырнадцать тысяч из них купил один человек– мой купец-географ – за десять миллионов рублей серебром (бумажных рублей больше нет), с оплатою частью на месте, а частью через год.
Ценою на чай определяются цены на все прочие товары ярмарки; до тех пор пока она не сделается известна, остальные сделки заключаются лишь условно. Другой ярмарочный городок, столь же большой, но не такой изысканный и благоухающий, как чайный, – это ветошный городок. Сюда сносят тряпье со всей России – хорошо еще, что предварительно его отбеливают. Этот товар, необходимый для производства бумаги, вошел в такую цену, что русская таможня с чрезвычайною строгостью запрещает вывозить его за границу.
Еще один городок привлек мое внимание среди всех прилегающих к ярмарке торгов: там продают столярную древесину. Подобно предместьям Вены, эти ярмарочные пригороды крупнее самого города. В том, о котором я толкую, идет торговля сибирской древесиной для тележных колес и конских дуг. Это тот самый полукруг, что закрепляется столь самобытным и живописным манером на конце оглобель и возвышается над головой коренника; делают его из цельного куска дерева, гнутого под паром, также из цельных кусков изготовляют и колесные ободья; запасы ошкуренной древесины, потребные чтобы обеспечить всю Западную Россию дугами и ободьями, громоздятся здесь горами, которым наши парижские лесные дворы не составляют даже слабого подобия.
Еще одно ярмарочное предместье, пожалуй обширнейшее и любопытнейшее из всех, служит складом сибирского железа. На четверть лье тянутся здесь навесы, под которыми живописно разложены железные прутья всех сортов, за ними идут решетки, за ними скобяные изделия; целые пирамиды сложены из орудий земледелия и домашнего быта. Есть тут и дома, заставленные чугунными горшками, – настоящее царство металла; здесь понимаешь, как много он значит для богатства всей империи. Богатство это внушает ужас. Сколько же требуется осужденных, чтоб разрабатывать такие рудники! А если преступников недостает, приходится нарочно их множить – вернее, множить несчастных; в подземном мире, где добывают железо, гибнет политика прогресса, торжествует деспотизм – государство же процветает!! Любопытно было бы изучить – если б только это дозволялось иностранцам, – какому обращению подвергаются уральские рудокопы; только надобно осматривать все самолично, не полагаясь на писаные бумаги. Исполнить сие намерение для западного европейца было бы столь же сложно, как христианину побывать в Мекке.
Все эти торговые городки, примыкающие к главному, образуют лишь внешнюю окружность; они беспорядочно роятся вокруг самой ярмарки; если же охватить их одною общею городскою чертой, то длина ее окажется как в крупной европейской столице. Чтоб обойти все эти наскоро построенные предместья, служащие спутниками основной ярмарке, недостало бы и целого дня. Невозможно повидать все в этой бездне богатств; приходится выбирать; да к тому же духота последних жарких дней, пыль, давка и дурные запахи отнимают всякие телесные силы и притупляют работу мысли.
Тем не менее я смотрел во все глаза, как будто мне двадцать лет – так же точно все примечая, хоть и с меньшим любопытством.
Буду рассказывать вкратце – в России, привыкаешь к однообразию, такова здесь жизнь, но вы-то будете читать мои письма во Франции, и я не вправе надеяться, что вы окажетесь столь же уступчивы, как я здесь. Вы и не обязаны быть терпеливым – вы ведь не проехали тысячу лье, чтобы учиться этой добродетели побежденных.
Забыл сказать о городке кашмирской шерсти. Глядя на эту запыленную, противную на вид кудель, связанную в огромные кипы, я думал о прелестных плечах, которые она однажды укроет, о великолепных нарядах, которые она собою украсит, превратившись в шали на мануфактурах барона Терно{287} и других.
Повидал я также меховой городок и городок поташный; я намеренно пользуюсь словом «городок» – только оно передает, как широко раскинулись различные хранилища вокруг ярмарки, придавая ей грандиозность, какой не знают ярмарки в других странах.
Подобное коммерческое чудо могло возникнуть только в России; чтоб создать Нижегородскую ярмарку, нужна была сильнейшая тяга к роскоши в полудиких народах, живущих непомерно далеко друг от друга, без быстрых и легких средств сообщения; нужна была такая страна, где из-за сурового климата каждое селение часть года оказывается отрезанным от всего мира; соединение этих обстоятельств, а также, должно быть, и иных, которых я не сумел распознать, необходимо было для того, чтобы купцы сей изобильной империи не могли вести свою торговлю повседневно и понемногу и принуждены были тратить силы и деньги на ежегодный своз всех богатств земли и промышленности в одно время и в одну точку страны. Можно предсказать, что в будущем – думается, довольно скором, – с развитием материальной цивилизации в России Нижегородская ярмарка утратит былую мощь. Сегодня же, повторяю, это крупнейшая ярмарка на свете.
В одном из ярмарочных предместий, за рукавом Оки, помещается персидский поселок, все лавки в котором заполнены только товарами из Персии; среди наиболее примечательных предметов, привезенных издалека, особенно восхитили меня ковры, на вид просто великолепные; а также свертки шелка-сырца и термоламы – нечто вроде шелкового кашемира, который якобы вырабатывают только в Персии. Впрочем, меня бы не удивило, если бы сами русские изготовляли эту ткань у себя, выдавая ее за привозной товар. Но это всего лишь предположение, и никакими фактами подкрепить его я не могу.
Лица персиян производят немного впечатления в здешних краях, где местные жители – сами азиаты и хранят отпечаток своего происхождения.
Меня провели по городку, отведенному единственно для сушеной и соленой рыбы, которую привозят с Каспийского моря, чтоб есть во время русских постов. Православные во множестве поглощают эти морские мумии. За четыре месяца своего воздержания московиты обогащают магометан из Персии и Татарии. Рыбный городок располагается на самом берегу; выпотрошенные морские чудища частью разложены на суше, частью лежат навалом в трюме судов, которые их привезли; если бы рыбных туш не насчитывалось здесь миллионы, то вся картина была бы похожа на музей естественной истории. Называют их, кажется, «сордак». Даже на открытом воздухе от них исходит неприятный запах. Еще один городок – кожевенный, который в Нижнем чрезвычайно велик, ибо сюда свозят кожи для удовлетворения нужд всей Западной России. Другой городок – меховой; здесь можно найти шкуры всевозможных зверей, начиная от соболя, голубого песца и дорогих медвежьих шкур, шуба из которых обходится в двенадцать тысяч франков, и до обыкновенной лисы и волка, которые идут за бесценок; сторожа этих сокровищ на ночь сооружают себе шатры из своего товара – живописные пристанища дикарей. Люди эти, хоть и обитают в холодных краях, довольствуются малым: одеты они дурно, спят в ясную погоду под открытым небом, а в дождь забираются в норы под кипами товаров; они прямо-таки северные лаццарони – не столь веселые, острые на язык и подвижные лицом, как лаццарони неаполитанские, зато еще более неопрятные, так как нечистота тела соединяется у них с нечистотою одежды, которую им невозможно с себя снять.
Вышепрочитанного будет вам довольно, чтоб составить себе представление о внешнем окружении ярмарки; внутренность же ее, повторяю, куда менее любопытна; своим видом она резко и неприятно отличается от внешних городков. Там, снаружи, разъезжают повозки, ручные тележки, там сумятица, шум, давка, крики, пение – в общем, вольность! Здесь же, внутри, снова правильный порядок, тишина, безлюдье и полиция – одним словом, Россия!
Бесконечные ряды домов, вернее лавок, стоят здесь между длинных широких улиц, которых всего то ли двенадцать, то ли тринадцать и в конце которых располагаются русская церковь и двенадцать китайских павильонов. Если обойти всю ярмарку, пройдя по каждой улице, от лавки до лавки, то придется покрыть десять лье. Так мне сказали, но я с трудом могу в это поверить. Имейте в виду, что здесь речь идет только об основном ярмарочном городке, – мы покинули шум и гам его предместий, чтоб очутиться в тиши базара, охраняемого казаками, которые серьезностью и скованностью движений и строгой исполнительностью – по крайней мере в служебное время – не уступают немым прислужникам сераля.
Император Александр, выбрав для ярмарки новое место, распорядился о необходимых для его благоустройства работах; сам он никогда ярмарки не видал и потому не знал, сколь огромные расходы придется добавить к прочим тратам казны и уже после его смерти зарыть в землю на этой площадке, слишком низменной для назначенного ей применения. Благодаря неслыханным трудам и громадным расходам ярмарка теперь пригодна для жилья в летнее время; для торговли большего и не надобно. Тем не менее размещена она дурно: в солнечную погоду здесь пыльно, а в дождливую – грязно; к тому же при любой погоде место это нездоровое – немалое неудобство для купцов, принужденных на протяжении полутора месяцев ночевать в верхних этажах своих лабазов.
При всей любви русских к прямым линиям многие здесь считают, что лучше было бы разместить ярмарку по соседству со старым городом, на гребне горы; для подъема туда можно было бы проложить отличные дороги с нечувствительно пологим наклоном и с великолепным видом на окрестности; внизу же, на берегах Оки, складывали бы лишь самые тяжелые и громоздкие грузы, которые трудно затаскивать на холм. Таким образом, железо, лес, шерсть, тряпье, чай оставались бы близ судов, на которых привезены, а торги велись бы со всем блеском на просторной возвышенности у ворот верхнего города; место во всех отношениях более удобное, чем нынешнее! Только вообразите себе высокий берег, заселенный сразу всеми народами Азии и Европы! Такая многоязыкая гора производила бы чудное впечатление; болото же, где копошатся теперь все эти кочевые племена, впечатляет мало.
Современные инженеры, столь искусные во всех странах, нашли бы здесь применение своим дарованиям; поклонники механики удовлетворяли бы свое любопытство видом разнообразных машин, которые пришлось бы изобрести для подъема товаров на гору; а поэты, художники, любители красот и живописных видов, просто любопытные путешественники, что составляют целое племя в наш век, в изобилии рождающий не только деловых людей, но и фанатиков праздности, – все эти люди, полезные обществу благодаря деньгам, которые они тратят, наслаждались бы чудесным местом для гулянья, куда более привлекательным, нежели то, что отведено им на нынешнем базаре, где нет никакого обзора, а дышать приходится зловонием; наконец, заслуживает внимания и то, что императору это обошлось бы в куда меньшую сумму, чем потратил он на свою прибрежную ярмарку – городок, заселенный один месяц в году, плоский как скатерть, летом раскаленный как саванна, зимою же сырой как погреб.
Главными купцами на этой невиданной ярмарке выступают русские крестьяне. Между тем закон запрещает крепостному просить, а вольным людям предоставлять ему кредит более чем на пять рублей. И вот с иными из них заключают сделки под честное слово на двести – пятьсот тысяч франков, причем сроки платежа бывают весьма отдаленными. Эти рабы-миллионщики, крепостные Агуадо{288}, не умеют даже читать. Действительно, в России человек порой возмещает свое невежество необыкновенными затратами сообразительности. В странах просвещенных даже тупицы в десятилетнем возрасте знают то, что в отсталом обществе постигают только люди великого ума, да и то лишь к тридцати годам.
Народ в России не знает арифметики; все расчеты он от века выполняет с помощью деревянной рамки, внутри которой помещены ряды подвижных шариков. Каждый ряд окрашен в свой цвет, означающий единицы, десятки, сотни и так далее. Это надежный и скорый способ счета.
Не забывайте, что владелец такого крепостного миллионщика хоть завтра может отнять у него все, что тот имеет; он обязан лишь позаботиться о его пропитании; правда, случаи подобного насилия редки, но они возможны.
Никто не помнит, чтобы хоть один купец, доверившийся честному слову крестьян, в торговой сделке был обманут: поистине в любом обществе, если только оно устойчиво, развитием нравов возмещаются изъяны учреждений.
Впрочем, мне рассказали о том, как отец ныне живущего – я чуть не сказал «царствующего» – графа Шереметева однажды пообещал крестьянскому семейству вольную за чудовищно большую сумму в пятьдесят тысяч рублей. Деньги он получил, после чего оставил обобранное им семейство своими крепостными.
Такова школа честности и добросовестности, в которой учатся русские крестьяне, – их угнетает деспотизм аристократов вопреки государственному деспотизму самодержцев, причем последний зачастую бессилен против своего соперника. Надменные императоры довольствуются словами, внешними формами, цифрами, тогда как властительные аристократы метят в действительные вещи, а словеса ценят недорого. Ни один окруженный лестью правитель не встречал так мало повиновения и не бывал так часто обманут, как якобы безраздельный властелин Российской империи; конечно, прямо ослушаться его опасно, но ведь страна велика, а из глуши не доносится ни одна весть.
Нижегородский губернатор г-н Бутурлин любезно пригласил меня обедать с ним во все те дни, что я рассчитываю пробыть в Нижнем; завтра он обещал разъяснить мне, почему такие дела, как ложное обещание графа Шереметева, которые и всегда-то случались редко, сегодня повториться в России не могут. Я изложу вам эту беседу, если только сумею извлечь из нее какой-то толк; до сих пор слыхал я от русских лишь речи совершенно невнятные. Что это – непривычка к логике или намеренное стремление запутать иностранца? Думаю, и то и другое. Стараясь скрыть правду от людей, начинаешь и сам видеть ее сквозь какую-то пелену, которая с каждым днем делается плотнее. Старики в России морочат вас чистосердечно, сами того не замечая; ложь слетает с их уст так же простодушно, как откровенное признание. Хотелось бы мне знать, с какого возраста в их глазах обман перестает быть грехом. Те, кто живет в страхе, рано начинают лгать самим себе.
На Нижегородской ярмарке ничто не продается дешево – разве лишь то, что никому не нужно. Прошло время, когда цены сильно разнились в разных местах; теперь везде известно, что почем; даже татары, приезжающие в Нижний из Средней Азии, чтобы за большие деньги – иначе невозможно – купить парижские и лондонские предметы роскоши, привозят в обмен товары, прекрасно зная им цену. Купцы еще могут пользоваться безвыходным положением покупателя, но уже не могут его обмануть{289}. Они не вздувают цену, как принято говорить в лавках, но еще менее они ее сбавляют – просто невозмутимо требуют слишком дорого; и честность их заключается в том, чтоб ни в коем случае не отступаться от самых преувеличенных своих запросов.
Я не видал в Нижнем никаких шелковых тканей из Азии, разве что несколько штук скверного китайского атласа, ненатуральной окраски, неплотной выделки и к тому же мятого, как старая ветошка. В Голландии встречал я атлас куда лучший, а этот стоит здесь дороже лучших лионских тканей.
В финансовом отношении вес Нижегородской ярмарки возрастает с каждым годом, но она все менее привлекает необычностью своих товаров и причудливым обликом людей. В целом ярмарка обманывает ожидания тех, кто охоч до живописного и забавного; в России все выглядит угрюмо и натянуто, и даже умы у русских расчерчены по линейке – правда, наступает день, и они все посылают к черту. В такие мгновения долго сдерживавшийся инстинкт свободы вырывается наружу; и тогда крестьяне насаживают на вертел своего помещика и поджаривают на медленном огне или же заставляют его жениться на крепостной; это ад кромешный, но дальнего отклика такие редкие возмущения не имеют, о них никто не говорит; большие расстояния и деятельность полиции позволяют скрыть от народа подобные разрозненные факты; бунты бессильны возмутить повседневный порядок, он зиждется на всеобщей осторожности и молчаливости, которые равнозначны тоске и забитости.
Во время прогулки по лавкам основной ярмарки видал я бухарцев. Народ этот обитает в одном из уголков Тибета, по соседству с Китаем. Бухарские купцы приезжают в Нижний торговать драгоценными камнями. Я купил у них бирюзы, так же дорого, как и в Париже, и притом без уверенности, что она не поддельная; все сколько-нибудь ценные камни идут здесь очень дорого. Бухарцы весь год проводят в пути, так как, по их словам, им требуется более восьми месяцев лишь на дорогу в два конца. Ни лицом, ни одеянием они не показались мне особенно примечательны. Я не очень верю, что нижегородские китайцы – действительно из Китая; впрочем, любопытство мое удовлетворяют татары, персияне, киргизы и калмыки.
Кстати, о киргизах и калмыках: эти варвары пригоняют сюда из своих степей, чтобы продать на Нижегородской ярмарке, табуны низкорослых диких коней, которые отличаются хорошею статью и нравом, только что виду не имеют; они превосходно годятся для седла и ценятся за свой характер. Бедные животные! Сердце у них добрее, чем у многих людей; они так нежно и горячо любят друг друга, что их невозможно разлучить. Пока они остаются вместе, им нет дела до чужбины и неволи, как будто они по-прежнему в родном краю; чтобы продать коня, приходится сбивать его с ног и силой волочить на веревках из загона, где заперты его собратья, меж тем как те на протяжении этой экзекуции все время пытаются вырваться или взбунтоваться, мечутся внутри ограды с горестными стонами и ржанием. В наших краях лошади никогда, насколько мне известно, не выказывали столько чувствительности. Не часто бывал я тронут так, как вчера, при виде отчаяния этих несчастных животных, отторгнутых от степной воли и насильственно разлученных со своими любезными; если угодно, можете ответить мне изящным стишком Жильбера{290}:
И слезы горько льет над бабочкой в беде, —
можете подтрунивать надо мною, неважно; уверен, что будь вы сами свидетелем этих жестоких торгов, напоминающих другой торг, еще более богопротивный, то вы разделили бы мою растроганность. Тому, что закон признает преступлением, найдутся в нашем мире и судьи; тогда как дозволенная жестокость карается одним лишь состраданием порядочных людей к ее жертвам, да еще, надеюсь, божьим судом. Именно при виде этого варварства, терпимого обществом, сожалею я о том, что мое красноречие имеет свои пределы; такой писатель, как Руссо или даже Стерн, уж наверно заставил бы вас зарыдать над судьбою бедных киргизских лошадок, которым предназначено отправиться в Европу и возить на себе людей – таких же рабов, как они сами, но часто все же менее достойных жалости, чем лишенные свободы животные.








