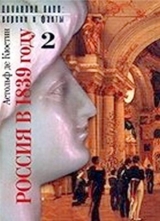
Текст книги "Россия в 1839 году. Том второй"
Автор книги: Асгольф Кюстин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
Не дожидаясь торжественного въезда императора в Москву, я через два дня уезжаю в Петербург.
Здесь заканчиваются мои дорожные письма; нижеследующее изложение заключает собою мои заметки; оно писалось в разных местах – сперва в Петербурге в 1839 году, затем в Германии и еще позднее в Париже.
Изложение дальнейшего пути
Обратная дорога из Москвы в Берлин через Санкт-Петербург. – История одного француза, г-на Луи Перне. – Его арестовывают в трактире посреди ночи. – Необыкновенная встреча. – Крайняя осторожность второго француза, спутника арестованного. – Французский консул в Москве. – Его равнодушие к судьбе узника. – Мои бесплодные ходатайства. – Действие воображения. – Разговор с влиятельным русским. – Что он мне присоветовал в отношении узника. – Отъезд в Петербург. – Медленность езды. – Новгород Великий. – Что уцелело от древнего города. – Воспоминания об Иване IV. – Последние остатки новгородской славы. – Прибытие в Петербург. – Мой рассказ г-ну Баранту. – Примечание. – Завершение истории г-на Перне. – Внутренность московских тюрем. – Обещание, данное арестанту русским генералом. – Мои последние дни в Петербурге. – Поездка в Колпино. – Великолепный арсенал. – Бесцельная ложь. – Анекдот, рассказанный мне в карете. – Происхождение российского семейства Лаваль. – Пример отзывчивости императора Павла. – Сбитый герб. – Академия живописи. – Ее ученики-рекруты. – Пейзажисты. – Исторический живописец Брюллов, его картина «Последний день Помпеи». – Великолепные снимки Брюллова с картин Рафаэля. – Влияние севера на дух художников. – Поэзия меньше живописи теряет под небом Севера. – Мадемуазель Тальони в Петербурге. – Влияние здешней жизни на художников. – Упразднение униатства. – Преследования, претерпеваемые католическою церковью. – Несомненные преимущества представительного правления. – Я выезжаю из России; переправа через Неман; Тильзит. – Откровенное письмо. – Случай с немцем и англичанином. – Почему я не стал возвращаться в Германию через Польшу.
Берлин, в первых числах октября 1839 года.
Перед самым отъездом из Москвы все мое внимание привлекло одно чрезвычайное происшествие, заставившее меня повременить с отбытием.
Я заказал себе почтовых лошадей на семь часов утра; к великому моему удивлению, камердинер разбудил меня, когда не было еще и четырех; я спросил о причине такой поспешности, и он ответил, что хотел поскорее известить меня о происшествии, о котором сам только что узнал и которое кажется ему достаточно серьезным, чтоб обязательно доложить мне без промедления. Вот вкратце его рассказ:
Некий француз, г-н Луи Перне{329}, несколько дней назад прибывший в Москву и живший в трактире Коппа, только что был арестован посреди ночи (этой самой ночи); его схватили, забрали все бумаги и отвезли в городскую тюрьму, где посадили в одиночную камеру; все это рассказал моему слуге лакей из нашего трактира, который говорит по-немецки. Порасспросив еще, камердинер узнал также, что этот г-н Перне – молодой человек лет двадцати шести, что здоровья он слабого, отчего еще более приходится за него опасаться{330}; что в прошлом году он уже бывал в Москве и даже жил здесь вместе со своим русским другом, который потом повез его к себе в деревню; сейчас этого русского здесь нет, и единственная опора злосчастного арестанта – француз по имени г-н Р***, вместе с которым он, как говорят, только что вернулся из поездки по северу России. Живет этот г-н Р***{331} в том же трактире, что и арестованный. Имя его сразу меня поразило, ибо так звали человека-статую, с которым обедал я за несколько дней до того у нижегородского губернатора. Как вы помните, меня еще сильно озадачило выражение его лица. То, что этот господин оказался теперь замешан в происшествиях нынешней ночи, было словно какою-то сценой из романа; я с трудом верил услышанному. Мне подумалось, что рассказ Антонио – вымысел, что все это сочинили нарочно, чтоб меня испытать; тем не менее я поспешил встать и расспросить сам трактирного лакея, чтоб убедиться в верности всей истории и в точности имени г-на Р***, чью личность хотел установить прежде всего. Лакей объяснил, что, имея поручение к одному иностранцу, уезжавшему из Москвы той ночью, он явился в трактир Коппа как раз тогда, когда туда нагрянула полиция, и добавил, что г-н Копп сам рассказал ему об этом деле примерно в тех же выражениях, в каких Антонио изложил его мне.
Я оделся и немедленно отправился к г-ну Р***. Оказалось, что это действительно человек-статуя из Нижнего. Правда, в Москве он был уже не так бесстрастен и казался встревоженным. Я застал его уже поднявшимся с постели; мы сразу узнали друг друга, и, когда я объяснил ему причину столь раннего своего визита, он заметно смутился.
– Я действительно путешествовал вместе с г-ном Перне, – сказал он, – но так вышло случайно; мы встретились в Архангельске и ехали оттуда вместе; сложения он хилого, и в дороге его слабое здоровье внушало мне опасения; я заботился о нем, как требует человечность, вот и все; я с ним вовсе не дружен, даже не знаком.
– Я знаком с ним еще меньше, – возразил я, – но мы все трое французы и обязаны помогать друг другу в стране, где свобода наша и жизнь в любой момент могут оказаться под угрозой, – ведь власть здесь дает о себе знать лишь карающими ударами.
– Возможно, г-н Перне навлек на себя эту неприятность каким-то неосторожным шагом, – продолжал г-н Р***. – Я здесь тоже иностранец, влияния не имею, что же я могу поделать? Если он невиновен, его арест останется без последствий; если же виновен, то его накажут. Я ничем не в силах ему помочь, ничем ему не обязан, да и вам, сударь, советую быть весьма сдержанным, коли станете за него хлопотать, а равно и говорить об этом.
– Да кто же определит, виновен он или нет? – вскричал я. – Прежде всего надо бы повидать его, узнать, чем он сам объясняет свой арест, и спросить, что можно сделать и как замолвить за него слово.
– Вы забываете, в какой мы стране, – сказал г-н р*** – Он же в одиночной камере, как до него добраться? Это невозможно.
– Невозможно другое, – отвечал я вставая, – чтобы французы, мужчины, оставили в отчаянном положении своего соотечественника, даже не выяснив, чем вызвано его несчастье.
Выйдя от этого сверхосторожного попутчика, начал я понимать, что дело сложнее, чем полагал сперва, и решил, что если хочу точно узнать о положении узника, то должен обратиться к французскому консулу. В ожидании часа, когда прилично будет отправиться к этой особе, велел я привести себе наемных лошадей – к великому неудовольствию и недоумению фельдъегеря, ибо, когда я давал это новое распоряжение, во дворе трактира уже стояли для меня почтовые лошади.
Около двух часов я поехал изложить уже известную вам историю г-ну французскому консулу. Сей официальный заступник французов оказался столь же осторожен и еще более холоден, чем доктор Р***. С тех пор как он поселился в Москве, французский консул сам стал почти русским. Я не смог распознать, были ли его ответы мне внушены обоснованною опаской, происходящею от знания местных обычаев, или же чувством задетого самолюбия, дурно понятого собственного достоинства.
– Г-н Перне, – сказал он, – полгода прожил в Москве и в окрестностях и за все это время так и не посчитал нужным хоть как-то заявить о себе французскому консулу. Раз так, то ныне, чтобы выпутаться из положения, в которое попал по своей беспечности, г-н Перне должен рассчитывать только сам на себя. «Беспечность» – слово, быть может, даже слишком мягкое, – добавил консул; в заключение он повторил, что не может, не должен и не хочет вмешиваться в это дело{332}.
Напрасно убеждал я его, что в качестве консула Франции он обязан оказывать покровительство всем французам, невзирая на лица, в том числе даже и тем, кто нарушает законы этикета; что речь сейчас идет не об учтивости, не об условных церемониях, но о свободе, а то и жизни одного из соотечественников наших; что перед лицом такой беды всякая обида должна умолкнуть, по крайней мере до тех пор, пока не минует опасность; я так и не добился от него ни слова, ни жеста в пользу узника; тогда я стал просить его принять во внимание неравенство двух сторон, поскольку вина г-на Перне, не нанесшего г-ну французскому консулу положенного визита, никак не идет в сравнение с наказанием, которому тот его подвергает, оставляя в темнице и не интересуясь причинами такого беззаконного ареста, не пытаясь предотвратить еще более тяжкие последствия, какие может повлечь за собой безжалостность властей; в заключение я сказал, что в подобных обстоятельствах мы должны думать не о том, в какой мере г-н Перне достоин нашего сочувствия, но о достоинстве Франции и о безопасности всех французов, которые ездят или еще будут ездить в Россию.
Уговоры мои не возымели никакого действия, и из этого второго визита я извлек так же мало проку, как и из первого.
Тем не менее казалось мне, что хотя я даже по имени не знаю г-на Перне и не имею никакой личной причины о нем заботиться, но раз уж я по воле случая узнал о его несчастье, долг мой требует оказать ему всяческую помощь, какую я в состоянии ему предложить.
В тот миг меня сильно поразила истина, которая, вероятно, всем часто приходила в голову, но мне до тех пор являлась лишь смутно и бегло, – а именно, что сострадание в нас делается отзывчивее и острее благодаря воображению. Мне даже подумалось, что человек, полностью лишенный воображения, был бы и бессердечен. Весь творческий дух, какой есть во мне, невольно силился представить мне злосчастного незнакомца, одолеваемого теми призраками, какие рождаются одиночеством и неволей; я страдал вместе с ним, испытывал те же чувства, те же страхи; я видел, как он, всеми брошенный, оплакивает свою оторванность от людей и понимает, что она непоправима, ибо кому есть дело до арестанта в столь далекой и чуждой нам стране, в обществе, где друзья сходятся вместе лишь в благополучии и расходятся в беде? Мысли эти лишь сильнее разжигали во мне сострадание! «Ты считаешь, что ты один в целом свете, но ты несправедлив к Провидению, которое посылает тебе друга и брата» – вот что твердил я про себя и еще многое другое, как бы обращаясь к несчастному.
Между тем, думал я, бедняга, не надеясь ни на чью выручку, все глубже погружается в отчаяние, по мере того как текут часы в ужасном однообразии, в неизменном безмолвии; скоро придет ночь, а с нею череда призраков; сколько страхов, сколько сожалений станут его терзать! Как хотелось мне дать ему знать, что отныне ему должно рассчитывать не на вероломных заступников, а на старания неведомого друга! Но у меня не было никаких средств с ним снестись; и от такой невозможности его утешить я чувствовал себя вдвойне обязанным ему помогать; среди бела дня меня преследовали зловещие видения темницы; воображение мое, заключенное под мрачные своды, застило мне сияние небес над головою и лишало меня свободы, вновь и вновь являя видения темных подземелий и крепостных башен; в смятении своем забывая, что русские даже тюрьмы строят в классическом стиле, я мнил себя заточенным под землею; мне чудились не римские колоннады, но готические каменные мешки; я сам чувствовал себя заговорщиком, покаранным и сосланным преступником, я сходил с ума вместе с узником… вовсе мне незнакомым! Так вот, если бы воображение не так живо рисовало мне все эти картины, я бы не так деятельно, не так настойчиво хлопотал за беднягу, который, кроме меня, не имел никакой поддержки и уже тем самым вызывал мое сочувствие. Меня словно преследовал призрак, и, чтоб избавиться от него, я готов был прошибить стены; от отчаяния и бессильной ярости я страдал, пожалуй, не меньше злосчастного арестанта; пытаясь прекратить его муки, я сам их терпел.
Добиваться пропуска в тюрьму было бы затеей сколь опасною, столь и бесполезною. После долгих и тягостных сомнений остановился я на иной мысли: в Москве я свел знакомство с кое-какими влиятельными лицами, и хотя уже два дня как со всеми распрощался, но все же решился обратиться к одному из тех, кто внушал мне более всего доверия.
Здесь я не только не должен называть его имя, но и вообще могу говорить о нем лишь самым неопределенным образом.
Когда я входил к нему в комнату, он уже знал, что за причина меня привела; и не успел я объяснить ему эту причину, как он сказал, что по странной случайности сам лично знаком с г-ном Перне, считает его ни в чем не повинным и не представляет, чем объяснить приключившееся с ним; он, однако, уверен, что подобный арест мог быть вызван только политическими соображениями, ибо русская полиция всегда, когда может, действует негласно; по всей вероятности, до сих пор предполагалось, что в Москве никто не знает о приезде этого иностранца; теперь же, когда дело уже сделано, его друзья, объявившись, способны лишь навредить – как только выяснится, что у него есть покровители, его положение сразу поспешат усугубить, переведя куда– нибудь подальше во избежание объяснений и жалоб; потому, добавил мой знакомец, для блага самого пострадавшего при защите его требуется сугубая осмотрительность. «Стоит ему попасть в Сибирь – и Бог весть когда он оттуда вернется!» – воскликнул мой советчик; после чего стал внушать мне, что его самого подозревают в наклонности к либеральным воззрениям, и достаточно только ему вступиться за подозрительного француза или даже просто сказать, что он с ним знаком, как несчастного тут же ушлют на край света. В заключение он сказал: «Вы ему не родственник и не друг; судьба его заботит вас лишь постольку, поскольку вы полагаете это долгом своим перед каждым соотечественником, перед каждым человеком, попавшим в беду; все, чего требовало от вас это похвальное чувство, вы уже выполнили – переговорили со спутником арестанта, с вашим консулом, со мною; теперь же, поверьте мне, воздержитесь от любых дальнейших хлопот; что бы вы ни стали делать, это не пойдет впрок, вы лишь скомпрометируете себя без всякой пользы для человека, которого бескорыстно взяли под защиту. Он вас не знает, ничего от вас не ждет – так уезжайте же; вам нечего опасаться, что вы обманете его надежды, – он на вас и не надеется; за делом его я прослежу– самому мне вмешиваться нельзя, но у меня есть средства стороною узнать, как оно идет, и в известной мере повлиять на его ход; обещаю вам употребить эти средства наилучшим образом; еще раз повторяю – послушайтесь меня и уезжайте».
– Если б я уехал, то не знал бы ни минуты покою, – воскликнул я, – меня бы мучила совесть при мысли о том, что, кроме меня, некому было помочь этому бедняге, а я его бросил в беде, ничего для него не сделав.
На это мне возразили:
– Оставаясь здесь, вы ведь не можете даже утешить его, потому что о присутствии вашем он не ведает, равно как и о вашем к нему сочувствии, и неведение это будет длиться до тех пор, пока его держат в заключении.
– Значит, нет никакого средства проникнуть к нему в камеру? – вновь спросил я.
– Никакого, – начиная уже терять терпение, отвечал тот, чьей помощи считал я своим долгом столь настойчиво добиваться. – Будь вы ему хоть братом, вы все равно не сумели бы здесь сделать для него больше, чем уже сделали. А вот находясь в Петербурге, вы могли бы быть полезны г-ну Перне. Сообщите все, что знаете об этом аресте, г-ну французскому послу – ибо из донесений вашего консула он вряд ли узнает о случившемся. Если столь высокопоставленное лицо, как ваш посол, да еще человек с таким характером, как у г-на Баранта, заявит обо всем министру, то это более способно помочь вызволению вашего соотечественника, чем все хлопоты, какие могли бы предпринять в Москве вы, я и еще хоть двадцать человек.
– Но ведь император со своими министрами находится в Бородине или же в Москве, – возразил я, все никак не давая себя выпроводить.
– Не все министры сопровождают его величество в этой поездке, – отвечали мне учтивым тоном, хотя и с нарастающим, не без труда скрываемым недовольством. – Ну, а в худшем случае придется дождаться их возвращения. Повторяю, другого пути у вас нет, если только вы не желаете вреда человеку, которого пытаетесь спасти, себе же самому притом – больших неприятностей, а то и чего-нибудь похуже, – было добавлено с многозначительным видом.
Если б лицо, к которому я обращался, находилось на службе, мне уже мерещилось бы, что меня забирают казаки и ведут в такую же темницу, в какую заключен г-н Перне.
Чувствовалось, что терпение моего собеседника на исходе; я и сам был смущен и не знал, что возразить на его доводы; итак, я удалился, пообещав уехать и со всею признательностью поблагодарив за данный мне совет.
Коль скоро выяснилось, что здесь я ничего не могу сделать, надо немедленно ехать, решил я. Остаток утра отняли у меня проволочки фельдъегеря, который, вероятно, должен был составить обо мне последнее донесение; получить вновь почтовых лошадей удалось лишь к четырем часам пополудни – четверть пятого я уже ехал по Петербургскому тракту.
Недобросовестность моего курьера, всевозможные неурядицы, происходившие не то случайно, не то по злой воле, повсеместная нехватка подставных лошадей, которых держали только для императорского двора и армейских офицеров, а также для курьеров, непрестанно разъезжавших между Бородином к Петербургом, – все это сделало переезд медленным и тягостным; в нетерпении я не желал останавливаться на ночлег, но торопливостью этою ничего не выиграл, ибо отсутствие лошадей – действительное или мнимое – вынудило меня на целых шесть часов задержаться в Новгороде Великом, за пятьдесят лье до Петербурга.
Я мало был расположен осматривать остатки этого города, где зародилась империя славян и нашла себе могилу их свобода. В знаменитом храме Святой Софии находятся здесь гробницы Владимира Ярославича, умершего в 1051 году, матери его Анны, одного из константинопольских императоров{333}, а также еще несколько любопытных захоронений. Храм походит на все русские церкви; возможно, и он не более подлинный, чем «старинный» собор в Нижнем Новгороде, где покоится прах Минина; я не доверяю больше возрасту ни одного из памятников старины, которые мне показывают в России. Названиям рек я пока еще верю; при виде Волхова представились мне ужасные сцены осады города-республики, который был дважды взят и опустошен Иваном Грозным. Мне виделось, как эта венценосная гиена, улегшись на развалинах, ликует при виде войны, мора и расправы, а из заваленной мертвецами реки, казалось, выступали кровавые трупы подданных царя, напоминая мне об ужасах гражданских войн к ей исступлении, до которого доходят общества, именуемые цивилизованными – потому лишь, что злодеяния расцениваются в них как дело доблести и вершатся со спокойною совестью. Среди дикарей страсти столь же разнузданны, даже еще более грубы и жестоки; однако там они не имеют такого размаха; человек там, располагая обычно лишь своею личною силою, творит зло в меньших размерах; к тому же безжалостность победителей если и не извиняется, то объясняется жестокостью побежденных; в упорядоченных же государствах разрыв между ужасом творимых деяний и расточением красных слов делает преступление особенно возмутительным и показывает нам человечество в особенно прискорбном виде. Слишком часто здесь некоторые склонные к оптимизму умы, а равно и другие, из выгоды, политического расчета либо самообмана льстящие массам, принимают всякое движение за прогресс. Мне представляется примечательным, что грозную месть, от которой тридцать тысяч жителей погибли в боях либо стали безвинными жертвами придуманных царем и приведенных в исполнение под его началом пыток и казней, навлекли на Новгород сношения архиепископа Пимена и нескольких знатных горожан с поляками. В те дни на глазах у царя казнили до шестисот человек в день; и все эти ужасы совершались в качестве возмездия за преступление, с тех самых пор каравшееся самым беспощадным образом, – за связь с поляками. Случилось все это около трехсот лет назад, в 1570 году.
После этого потрясения Новгород Великий так и не оправился; он мог бы восполнить свои потери, но не пережил упразднения демократических установлений; на городских стенах, покрашенных с тем тщанием, с каким русские всюду стремятся под покровом ложного обновления скрыть излишне правдивые следы истории, – на стенах этих нет больше пятен крови; они как будто отстроены лишь вчера; но на широких прямолинейных улицах безлюдно, а три четверти старинных развалин разбросаны за пределами тесной крепостной стены и теряются среди окрестных равнин, окончательно разрушаясь вдали от нынешнего города – не более чем тени прежнего, с которым его роднит одно название. Вот и все следы знаменитой средневековой республики. Несколько полустертых воспоминаний о славе, о могуществе – призраки, навсегда ушедшие в небытие. Каков же плод революций, непрестанно орошавших кровью эту почти пустынную ныне землю? Чей успех стоит тех слез, что проливались в этом краю из-за политических страстей? Ныне все здесь безмолвствует, словно до начала исторических времен. Как же часто Бог напоминает нам, что люди, обманываясь своею гордыней, принимают за достойную цель усилий то, что на деле позволяет просто дать выход избыточной силе, кипящей в волнении молодости. В этом – глубинный смысл многих героических поступков.
Ныне Новгород Великий – это более или менее знаменитая груда камней среди бесплодной на вид равнины, на берегу унылой, узкой и неспокойной реки, похожей на канал для осушения болот. А ведь здесь жили люди, прославленные своею любовью к буйной вольнице; здесь происходили трагические сцены; блестящие судьбы прерывались внезапными катастрофами. От всего этого грохота, крови, вражды остался ныне дремотно скучный гарнизонный город, не любопытный более ни к чему на свете – ни к миру, ни к войне. В России прошлое отделено от настоящего бездною!
Уже триста лет как вечевой колокол[61]61
Колокол народного собрания.
[Закрыть] не созывает более на совет жителей некогда славнейшего и непокорнейшего русского города; по воле царя в сердцах задушено даже сожаление, стерта даже сама память о его былой славе. Несколько лет назад в военных поселениях, размещенных вокруг новгородских руин, происходили жестокие столкновения между казаками и местными жителями. Но бунт был подавлен, и все опять вошло в обычную колею – повсюду воцарились могильная тишь и покой. Турция ничем не уступает Новгороду[62]62
Смотри письмо восемнадцатое, историю Теленева
[Закрыть].
Я вдвойне рад был – за московского узника и за себя самого – оставить эти места, некогда знаменитые своею разнузданною вольностью, ныне же опустошенные так называемым «порядком», который здесь равнозначен смерти.
Как ни торопился, в Петербург я прибыл лишь на четвертый день; и, едва выйдя из коляски, сразу поспешил к г-ну де Баранту.
Он еще не знал об аресте г-на Перне и был, казалось, удивлен, что узнает о нем от меня, тем более что я затратил на дорогу почти четыре дня. Он еще больше удивился, когда я поведал ему о своих бесплодных беседах с консулом, о попытках уговорить этого официального заступника французов похлопотать за арестанта.
Внимательность, с какою выслушал меня г-н де Барант, его обещания предпринять все необходимое для выяснения дела и ни на минуту не упускать его из виду, не распутав весь узел интриги; важность, которую он, казалось, придавал малейшим происшествиям, затрагивающим достоинство Франции и безопасность наших сограждан, – все это успокоило совесть мою и развеяло призраки, рожденные моим воображением. Судьба г-на Перне была теперь в руках его естественного покровителя, чей ум и твердость давали несчастному более надежную поддержку, нежели мои старания и бессильные ходатайства{334}.
Я почувствовал, что сделал все возможное и должное, чтобы вызволить человека из беды и, по мере сил не выходя за пределы, поставленные моим положением простого путешественника, защитить честь своей страны. «Безумное» мое воображение сыграло благую роль. Поэтому я счел разумным в те двенадцать или пятнадцать дней, что провел еще в Петербурге, не произносить более имени г-на Перне в присутствии г-на посла и уехал из России, не зная, как развивалась далее история, в начале своем столь сильно меня озаботившая и взволновавшая.
Но, скоро и вольно держа свой путь во Францию, я не раз мысленно возвращался в московскую темницу. Если б я знал, что там происходило в те дни, я бы тревожился еще сильнее[63]63
Чтоб не оставлять читателя в неведении относительно судьбы московского узника, о которой я сам ничего не знал почти полгода, расскажу здесь то, что узнал лишь по возвращении во Францию об аресте и освобождении г-на Перне.
Однажды, в конце зимы 1840 года, доложили мне о приходе какого-то незнакомца, который желает со мною переговорить; я спросил его имя; он отвечал, что скажет его только мне лично. Я отказался его принять; он настаивал, я вновь отказал. Тогда, не желая отступаться, он написал мне несколько слов без подписи, говоря, что я не могу не выслушать человека, обязанного мне жизнью и желающего лишь отблагодарить меня.
Такие слова были для меня неожиданны, и я велел впустить незнакомца. Войдя в комнату, он сказал: «Сударь, я вчера только узнал ваш адрес и сегодня же поспешил к вам: меня зовут Перне, и я хотел бы выразить вам свою признательность, ибо в Петербурге мне сказали, что именно вам обязан я свободою, а значит и жизнью».
После первых бурных чувств, которых не могли не вызвать во мне эти речи, я начал рассматривать г-на Перне; то был один из многих молодых французов, по облику и складу ума напоминающих южан; черноглазый и черноволосый, скуластый, с гладким и бледным лицом; невысокого роста, худой, хрупкого сложения и болезненного вида, но болезненного от страданий скорее нравственных, чем физических. Оказалось, я знаю кое-кого из его родственников, которые живут в Савойе и принадлежат к числу достойнейших людей в том краю, где порядочны все люди без исключения. Он рассказал мне, что по образованию он адвокат и что в Москве его три недели продержали в тюрьме, в том числе четыре дня в одиночной камере. Из повести его вы увидите, как обращаются в этом заведении с арестантами. В воображении своем я не смог даже приблизиться к действительности.
Первые два дня ему не давали есть; можете себе представить, какие муки он терпел! Никто его не допрашивал, он был совершенно один; в течение сорока восьми часов он думал, что ему суждено так и умереть от голода, забытым в своем узилище. Единственный шум, доносившийся до него, были удары розг, которыми с пяти часов утра и до самого вечера секли несчастных крепостных, отправленных туда своими господами для наказания. Прибавьте к этим ужасным звукам рыдания, плач и вой жертв, угрозы и брань палачей, и вы можете составить себе приблизительное представление о том, каким нравственным пыткам подвергался наш злосчастный соотечественник в течение четырех томительных дней, сам не зная за что.
Проникнув таким образом, отнюдь не по своей воле, в сокровенные тайны русских тюрем, он вполне оправданно счел, что обречен кончить здесь свои дни, небезосновательно рассудив: «Если, б меня собирались выпустить, то не посадили бы в такое место – ведь эти люди больше всего боятся, что их скрытые от посторонних взглядов жестокости получат огласку».
Одна лишь тонкая и легкая перегородка отделяла тесную каморку г-на Перне от внутреннего двора, где происходили экзекуции.
Розги, которые благодаря смягчению нравов заменили собою недоброй памяти монгольский кнут, представляют собою расщепленный натрое тростник; при каждом ударе орудие это рвет кожу; после пятнадцатого удара наказуемый обычно уже не в силах кричать: ослабевший голос его издает лишь глухие протяжные стоны; этот ужасный хрип казнимых разрывал сердце узнику и предвещал ему участь, о какой не осмеливался он даже помыслить.
Г-н Перне понимает по-русски; ему сразу пришлось стать свидетелем множества незримых для него и никем не знаемых мучении; в тюрьму привели двух девушек, работавших у знаменитой в Москве модистки; несчастных секли прямо на глазах у хозяйки – та обвиняла их в том, что они имеют любовников и настолько забываются, что приводят их в дом… к ней, владелице модной лавки!! экое безобразие! При этом злобная женщина еще и велела палачам сечь побольнее; одна из девушек запросила пощады; было ясно, что она при смерти, вся в крови, – неважно! она имела дерзость сказать, что сама хозяйка ведет себя похуже ее, отчего та рассвирепела вдвое пуще прежнего. Как утверждал г-н Перне (добавляя притом, что я, конечно, не поверю его словам), каждая из несчастных получила в несколько приемов по сто восемьдесят плетей. «Мне слишком больно было их считать, – сказал мне бывший арестант, – чтобы я мог сбиться!!»
Когда присутствуешь при таких ужасах и ничего не можешь сделать, чтобы помочь жертвам, то начинаешь сходить с ума.
Затем стали сечь крестьян, присланных управляющим какого-то помещика; дворового слугу из городской усадьбы, наказываемого по просьбе барина; сплошная череда жестоких и неправедных возмездий, череда людей, чье отчаяние неведомо свету (см. в конце этого тома извлеченный из книги Лаво список лиц, содержавшихся в московской тюрьме в течение 1836 года; см. также в приложении к «Американским заметкам» Диккенса выдержки из американских газет, касающиеся обращения с рабами в Соединенных Штатах; налицо примечательное сходство между бесчинствами деспотизма и злоупотреблениями демократии.) Бедный арестант ждал ночи, так как вместе с темнотою наступала и тишина; но тогда его начинали жечь каленым железом собственные мысли; и тем не менее жестокие муки воображения он предпочитал мукам от более чем действительных страданий преступников или же невинных жертв, которых приводили на тюремный двор в течение дня. Попавшего в настоящую беду не так страшит мысль, как действительность. Одни лишь сытые и спящие в мягкой постели любители помечтать уверяют, будто мнимые мучения сильнее действительно испытываемых.
Наконец, после этой четырехдневной пытки, ужас которой вряд ли подвластен усилиям нашего воображения, г-н Перне, по-прежнему без всяких объяснений, был переведен из своей камеры в другую часть тюрьмы.
Оттуда он написал г-ну де Баранту, передав письмо через генерала ***, на дружбу которого он, как полагал, мог рассчитывать.
Письмо по назначению не дошло, а когда позднее написавший его попросил у вероломного генерала объяснений, тот ответил отговорками и в конце концов поклялся г-ну Перне на Евангелии, что письмо его не было и никогда не будет передано министру полиции! Таково было высшее изъявление преданности, какого сумел добиться узник от своего друга. Вот во что превращаются лучшие людские чувства, пройдя через горнило деспотизма.
Три недели прошли во все нарастающем беспокойстве, ибо, казалось, опасаться можно чего угодно, а надеяться не на что.
По истечении этого срока, который г-ну Перне показался целою вечностью, он был освобожден без всякого суда, так и не узнав, в чем состояла причина его заточения.
Неоднократные запросы, направленные им в Москве директору департамента полиции, ничего не прояснили: ему отвечали, что его освобождения требовал посол, и приказали покинуть Россию. Он испросил и получил разрешение ехать через Петербург.
Ему хотелось поблагодарить французского посла за свободу, которою он ему обязан. Он желал также дознаться, почему с ним так обошлись. Тщетно г-н де Барант отговаривал его от затеи идти объясняться с г-ном Бенкендорфом, министром полиции. Освобожденный узник испросил себе аудиенции; ему ее предоставили. Он сказал министру, что не ведает, за что был наказан, и, прежде чем покинуть Россию, желает узнать, в чем заключалось его преступление. Министр кратко отвечал, что г-ну Перне лучше не заниматься далее расследованиями на сей счет, после чего отослал его восвояси, повторив приказание безотлагательно покинуть империю.
Вот и все сведения, что я сам смог получить от г-на Перне.
У молодого человека, как и у всех, кто хотя бы недолгое время провел в России, появился таинственно-скрытный тон, от которого иностранцы, живущие в тех краях, так же не могут избавиться, как и сами местные обитатели. В России все умы словно придавлены секретностью.
В ответ на мои расспросы г-н Перне наконец сказал мне, что при первой поездке в Россию ему поставили в паспорте звание негоцианта, при второй же поездке – адвоката; он прибавил и нечто более серьезное, еще до прибытия в Петербург, плывя на пароходе но Балтийскому морю, он откровенно высказался против русского деспотизма в присутствии нескольких незнакомых людей.
На прощание он заверил меня, что не припоминает никаких иных обстоятельств, которые могли бы объяснить то обращение, какому он подвергся в Москве.
С тех пор я его не видал(Контакты Кюстина с Перне продолжились после выхода «России в 1839 году»: летом 1843 г. Перне предложил Кюстину печататься в издаваемым им журнале, однако Кюстин предложения не принял; «Моя книга настолько проникнута католическим духом, – писал он 9 июля 1843 г. Варнгагену, – а его газета настолько полна духом революционным и антихристианским, что политическая необходимость, я полагаю, скоро возобладает в его душе над чувством» (Lettres а Vamhagen. P. 457).); лишь два года спустя, по случайности столь же странной, как и обстоятельства, заставившие меня вмешаться в эту историю, я повстречал одну особу, принадлежащую к его семейству; она сказала мне, что знает, какую услугу оказал я ее юному родственнику, и поблагодарила меня. Должен прибавить, что особа эта держится консервативных религиозных взглядов; еще раз повторю, что она сама и вся ее семья пользуются всеобщем уважением и почетом в Сардинском королевстве(Савойя, где жили родные Перне (см. наст, том, с. 390), в 1814–1860 гг. принадлежала к Сардинскому королевству. В пятом издании 1854 г. Кюстин сделал к этому месту следующее примечание: «От друзей г-на Перне я узнал, что изложение этого эпизода в моей книге его весьма шокировала Он желал бы предстать перед публикой мучеником, который горд и счастлив выпавшими на его долю страданиями; самолюбие его было оскорблено даже такой мелочью, как упоминание о его хилом телосложении. Выходит, истину признают с трудом не в одной России».).
[Закрыть].
Последние дни своего пребывания в Петербурге я употребил на посещение некоторых учреждений, которых не смог повидать при первом приезде в этот город.
Князь *** показал мне в числе прочих достопримечательностей огромный Колпинский завод – главный русский арсенал, расположенный в нескольких лье от столицы. На этом заводе изготовляется все необходимое для императорского флота. Ехать в Колпино семь лье, причем вторая половина дороги очень скверная. Заводом управляет англичанин, г-н Вильсон, удостоенный генеральского звания (в России все носят мундир)[64]64
Напомню сказанное выше о «чине» (том первый, письмо девятнадцатое)
[Закрыть]; он добросовестно, как истый русский инженер, показал нам свои машины, не давая пропустить ни единого гвоздя или гайки; в сопровождении его мы обошли около двадцати цехов огромного размера. Со стороны управляющего такая чрезвычайная любезность заслуживала, вероятно, сугубой признательности; я же восхищался весьма сдержанно, да и то выказывал больше энтузиазма, чем действительно ощущал: усталость делает неблагодарным, почти так же, как и скука.
Самое замечательное, что встретилось нам во время поневоле долгого осмотра колпинских механизмов, – это машина Брамаха{335}, посредством которой испытывают на прочность якорные цепи для наиболее тяжелых кораблей; могучие стальные звенья, устоявшие против усилий этой машины, смогут удержать и судно при самых резких порывах ветра и ударах волн. В машине Брамаха для измерения прочности железа остроумно используется давление воды; это изобретение меня восхитило. Осмотрели мы также шлюзы, предназначенные для спуска избыточной воды при особо мощных паводках. Эти необычные шлюзы действуют главным образом весной; иначе ручей, вращающий машины, не приводил бы в движение весь завод, а чинил бы неисчислимые разрушения. Дно каналов и шлюзовые опоры покрыты толстыми листами меди, так как этот металл якобы лучше гранита переносит зиму. Нас уверяли, что подобного не увидишь больше нигде.
Колпино вновь поразило меня тою неумеренною грандиозностью, что присуща всем полезным сооружениям, построенным русским правительством. Это правительство почти всегда присовокупляет к необходимому немало излишнего. У него так много действительной мощи, что низкие уловки, посредством которых оно обычно пускает пыль в глаза иностранцам, не должны вызывать в нас только презрение; такая хитрость совершенно бескорыстна, ее следует отнести к прирожденным склонностям национального характера: ведь люди лгут не только по малодушию, но часто и оттого, что от природы наделены даром искусно лгать; это особый талант, а любой талант желает выказать себя.
Когда мы сели в экипаж, чтоб ехать назад в Санкт-Петербург, уже стемнело и похолодало. Обратный путь был сокращен приятною беседой; особенно запомнилась мне следующая история. Она помогает понять, насколько всевластен над действительностью абсолютный монарх. До сих пор я видел, как русский деспотизм повелевает мертвецами, храмами, историческими событиями, каторжниками, арестантами – вообще всеми теми, кто не может заговорить и воспротивиться злоупотреблениям власти; на сей раз мы увидим, как император российский навязал одной из знатнейших семей Франции такое родство, о котором она и не думала.
В царствование Павла I жил в Петербурге француз но имени то ли Лаваль, то ли Ловель{336}; будучи молод и приятен собою, он понравился одной весьма богатой девице, в которую сам был влюблен; семейство юной особы находилось тогда в немалой силе и почете; оно воспротивилось браку с незнатным и небогатым иностранцем. В отчаянии двое влюбленных решились на средство, достойное романа. Они подкараулили императора, когда тот проезжал по улице, бросились ему в ноги и попросили его заступничества. Павел I – который бывал добр, когда не бывал безумен, – пообещал добиться согласия семьи и убедил ее такое согласие дать – убедил, надо думать, различными доводами, но особенно же следующим: «Барышня ***, – сказал он, – выходит замуж за господина графа де Лаваля, молодого французского эмигранта, отпрыска знатного рода и обладателя значительного состояния»[65]65
После выхода в свет первого издания этой книги я получил письмо от госпожи графини Коссаховской, дочери петербургского графа де Лаваля; в нем она указывает на ошибки, к распространению коих я оказался причастен, рассказавши сей анекдот так, как сам его услыхал. Она признает тем не менее, что петербургский г-н де Лаваль не принадлежит к прославленному французскому роду, благодаря брачным узам соединившему имя свое с именем Монморанси(Дворянский род Лавалей, названный по одноименному городу, существует с IX в.; с XIII в. титул сеньоров Лаваля перешел к древнейшему французскому роду Монморанси. Так возникла ветвь герцогов де Монморанси-Лавалей, которую в эпоху, описываемую Кюстином, представляли пэр Франции Анн Александр де Монморанси, герцог де Лаваль (ум. 1827) и его сын Адриан де Монморанси, герцог де Лаваль (1767–1837), пэр Франции и дипломат.), и в доказательство даже прибавляет, что титул графа де Лаваля ему пожаловал Людовик XVIII; один этот факт удостоверяет, что Лавали, обосновавшиеся в Петербурге со времен эмиграции, не имеют ничего общего ни со старинным домом Лавалей, ни вообще со старинною французскою знатью. Однако же заслугами своими они никому не уступят; имя их вошло в историю благодаря недавнему достославному событию – петербургский граф де Лаваль приходится отцом княгине Трубецкой, добровольно отправившейся в сибирскую ссылку.
Издавая свою книгу, я не знал, что героический поступок этой святой жертвы супружеского долга покрывает славой также и Францию.
[Закрыть].
Получив таким образом – хотя, конечно, лишь на словах – изрядное приданое, молодой француз женился на барышне ***, родственники которой, разумеется, не стали перечить императору.
В подтверждение слов государя новоявленный граф де Лаваль гордо велел изваять свой герб на подъезде родового особняка, где поселился с молодою супругой.
К несчастью, случилось так, что через пятнадцать лет, уже при Реставрации, в Россию приехал кто-то из рода Монморанси-Лаваль; увидав нечаянно герб на подъезде, он стал наводить справки; ему рассказали историю г-на де Лаваля.
По его требованию император Александр немедленно распорядился убрать герб Лавалей, и подъезд остался голым.
На другой день после поездки в Колпино я подробно осмотрел Академию живописи – великолепное пышное здание, где хранится пока немного хороших работ; да и чего можно ожидать от искусства в стране, где молодые художники носят мундир{337}? Лучше бы уж просто отказаться от всякого труда, для коего потребно воображение. Все воспитанники Академии, как оказалось, состоят на службе, соответственно одеты, выполняют команды, словно кадеты морского училища. Уже это одно говорит о глубоком презрении к тому, чему здесь якобы покровительствуют, или, вернее, о совершенном непонимании законов природы и таинств искусства; даже в открытом равнодушии к художеству было бы не так много варварства; в России свободно лишь то, до чего нет дела правительству; до искусства же ему слишком много дела, да только оно не ведает, что искусство нуждается в свободе и тесная связь между гениальностью творчества и независимостью творца уже сама по себе служит залогом благородства художественной профессии.
Пройдясь по многочисленным мастерским, нашел я неплохих пейзажистов; их композиции отличаются воображением и даже удачными красками. Особенно любовался я картиною г-на Воробьева, изображающею Санкт-Петербург летнею ночью: это красиво, как сама природа, поэтично, как сама правда{338}. Я стоял перед этой картиной, и мне чудилось, будто я только что прибыл в Россию; мысленно я перенесся в то время года, когда летние ночи состояли из переходящих одна в другую вечерней и утренней зари; на картине как нельзя лучше передан эффект этого неугасающего света, который пробивается сквозь тьму, словно лучи лампы, прикрытой легким флером.








