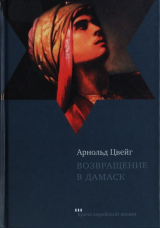
Текст книги "Возвращение в Дамаск"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Глава четвертая
Продолговатый предмет
Когда воздух над Хайфой, морской гаванью, тяжел от влажного зноя, наверху, на Кармеле, среди невысоких сосен часто дует бодрящий ветер. Город тогда изнемогает от жары, словно в котле; его безупречный, уже знаменитый залив обнимает фиалковое море раскинутыми руками белой великанши, а горный склон, поднимающийся прямо за ним, перекрывает свежие ветры и делает людей нервозными, вспыльчивыми даже по пустякам.
Трое молодых людей, поднявшиеся на Кармель, полагают, что у них есть повод для более чем мимолетного раздражения. До вчерашнего дня их держали в карантинном лагере. Полиция, желтолицые арабы, обращалась с ними так, как повсюду на свете обращаются с нежелательными иммигрантами, пассажирами третьего класса, но эти трое не намерены терпеть, чтобы их относили к этой категории. Они – репатрианты, еврейский народ, крохотная его частица.
Как смеют эти олухи в черных меховых шапках так долго держать их на пороге собственного родного дома, за колючей проволокой, будто попрошаек, вероятно в надежде, что у них обнаружится какая-нибудь сыпь и можно будет снова загнать их на твиндек триестинского парохода: назад в Польшу, господа, в Чехословакию, в Румынию, в Венгрию, да куда угодно! Трое молодых людей с упоением любуются сейчас красотой залива. Он окружен как бы ступенями античного театра, поднимающимися от побережья к вершине Кармеля; все здесь желтое, серое, выжженное, но голубизна моря и белизна песка внизу, камней наверху приветствуют их цветами бело-голубого флага, который выбрало себе возрожденное еврейство. Они станут пионерами этой страны, трудящимися строителями, опорой новой Палестины. Вообще-то они квалифицированные сельскохозяйственные рабочие. Но подобно десяткам тысяч своих предшественников тоже будут осушать малярийные болота, на палящем солнце заливать гудроном дороги, вручную дробить камень, ночевать в палатках под дождем и при этом быть счастливыми. Еще там, в старой Европе, они выучили иврит и твердо решили говорить здесь только на этом языке. Все, что было раньше, сожжено, пепел развеян по ветру, важно лишь то, что ждет впереди. Так они думают.
По приезде они буквально запоем читали газеты, газеты всех направлений, купленные на привезенные с собой гроши. Однако и раньше, в годы подготовки, увлеченно следили за каждым событием в этой стране, за малейшими изменениями в структуре ее населения, ее экономических возможностей, ее идей. Им знакомы все способы, какими здесь пытаются разрешить новые проблемы человеческого сосуществования; они любили и ненавидели всех этих лидеров строительства и сопротивления. Сейчас они лежат в тени невысоких сосен на грядущих строительных участках, где, надо полагать, в скором времени состоятельный гражданин построит виллу себе на старость, смотрят на дорогу внизу, на склон, на растения, скалы, круглые кроны рожковых деревьев и с завистью примечают, что рядом, в просторных владениях немецкого пастора, водопроводный кран орошает чудесной влагой грядки, которые без этого блага не зеленели бы так пышно.
Загорелый паренек, невысокий, широкоплечий, с густыми черными бровями и черными же волосами, бросает камень на скалу внизу; камень, размером с кулак, резко отскакивает и исчезает из виду.
– Так продолжаться не может, – говорит он, – надо что-то делать. Положить конец проискам этого предателя, быстро и решительно.
Остальные знают, о чем он говорит. Газеты сообщили им все необходимое о деле де Вриндта, и они считают себя вполне в курсе происходящего. Особенно их возмущает последний финт этого скользкого негодяя: телеграмма «Палестайн-Буллетин» из Тверии дерзко утверждает, что еврейская пресса в своих отчетах проглядела некоторые акценты текста и тем самым представила выступление ортодоксов на суд общественности не вполне правильно; через несколько дней доктор де Вриндт, вернувшись из командировки, разъяснит все ошибки. До тех пор будет разумно воздержаться от любой критики.
– По-твоему, – спрашивает его сосед, долговязый, бледный (он утаил, что на минувшей неделе опрометчиво поел немытых фруктов и желудок у него пока не вполне в порядке), – по-твоему, Бер, только нас тут и ждали? Здешние лидеры все знают и будут действовать.
– Действовать, – насмешливо отвечает первый, – действовать! Торговаться они будут, выбивать опровержение, как ты уже прочитал, а то и вступать в соглашения! Наглость этих клерикальных свиней вообще-то заслуживает только одного ответа.
– Счастье, что ты приехал в страну, – насмешливо и спокойно говорит третий, упитанный, круглолицый, чуть ли не краснощекий, один из тех белокурых евреев, которые больше похожи на евреев, чем иные темноволосые.
– Я скажу вам, что было бы лучше всего. Кто-нибудь должен поехать в Иерусалим и пристрелить этого де Вриндта на пороге его дома, средь бела дня, на улице, в предупреждение всем ему подобным, – говорит чернявый крепыш, и каждый согласный его речи словно брызжет яростным электричеством.
– Ты понимаешь, что тогда случится? – печально спрашивает долговязый. Он говорит очень жалобно, потому что чувствует слабость, его лихорадит, ужасно, если он не переживет эту знойную пору, не сможет работать на земле.
Где разместят троицу парней и чем займут, пока еще под большим вопросом. Рабочая организация, «Гистадрут»[42]42
«Гистадрут» («Всеобщая федерация еврейских трудящихся») – основанный в Хайфе в 1920 г. еврейский профсоюз; ныне израильский профсоюз.
[Закрыть], позаботится о них, даст совет.
– Раньше, в другие времена, здесь были другие мужчины! Трумпельдор! – восклицает чернявый и тычет мыском ботинка в сухую траву.
При нападении привыкших к грабежу бедуинов на еврейский поселок Тель-Хай погиб в бою однорукий сельскохозяйственный рабочий, Иосиф Трумпельдор, который, как и многие из них, служил в Еврейском легионе под командой лейтенанта Жаботинского. Легион провел тяжкие месяцы под Галлиполи, а потом из Кантары, через пустыню Эль-Ариш, вместе с англичанами отправился в Палестину. Этот Трумпельдор стал для молодежи легендарной фигурой.
– Нам надо бояться не арабов, не англичан и не либералов, а только этих ортодоксов, этих псов и врагов народа, этих страшных лицемеров. Ух как я ненавидел их дома, когда они в своих черных сюртуках, с пейсами и в сапогах шастали «в шул», закатывали глаза, тряслись, булькали горлом и завывали: ойдедой! Вечно твердили: «Так сказал раввин» да «Так сказал ребе», и играть мальчику нельзя, и ремеслу он учиться не должен, можно только сидеть в хедере, где идиот-учитель порет учеников и трем десяткам детишек одновременно вдалбливает, какую молитву надо читать, когда моешь руки, а какую, когда гремит гроза.
– Времена таких людей миновали, – печально говорит бледный, – чего ты кипятишься?
Чернявый крепыш молчит. Размышляет над безумной яростью, которая только что его захлестнула. Для него времена таких людей все же не миновали – они кажутся ему невероятно нынешними. Отчий дом в словацкой деревне, очевидно, так скоро из памяти не истребишь.
– Еще отвратительнее мне образованные среди них, более западные, которые умеют пользоваться ножом и вилкой и у которых кисти цицит выглядывают между модным жилетом и модными брюками, конечно, только дома, – вставляет упитанный, краснощекий. Он прищурил глаза до узких щелочек. Спиной прислонился к дереву, подбородком уперся в колени. – Бер прав, похоже, требуется предупреждение. Эти люди тащат свое гетто в самое сердце Иерусалима.
Чернявый крепыш достает газету, некоторое время что-то там ищет, потом, запинаясь, читает на иврите – говорить ему легче, нежели читать печатный шрифт без гласных:
– «Господин доктор де Вриндт – знакомое явление в еврейской истории. Предатели были всегда: наделенные блестящими талантами, они пресмыкались перед сильными, мнимо набожные, якобы пекущиеся лишь о Боге и о Торе, они тем временем обделывали делишки своего мелкого тщеславия, за спиной народа и непременно за его счет. Кого этим удивишь? Удивительно разве только, что эти типы процветают и здесь».
Ветер шумит в соснах, которые раскидистой кроной похожи на пинии, а после дождя заблестят красивой сероватой зеленью. Солнце, поднимаясь к полудню, безжалостно укорачивает их тени.
– Нужно оружие, – мечтательно, вполголоса говорит круглолицый парнишка, – все остальное теория.
Ввоз оружия в Палестину строго воспрещен.
– Гляди! – с сияющим видом восклицает чернявый крепыш Бер. Из внутреннего кармана пиджака он достает продолговатый предмет из черного металла.
– Дашь мне его взаймы, – вкрадчиво спрашивает круглолицый, – и не спрашивай зачем. – Ему двадцать два года. Когда он был восьмилетним мальчишкой, в городок ворвалась война и задержалась там на четыре года. Когда ему было двенадцать, происходили стычки с бандами, мародерства, убийства. Он родом из Подолии, из окрестностей городка под названием Проскуров.
Бледный верзила открывает испуганные глаза.
– Для этого… одолжу, – отвечает крепыш. – Вообще-то надо бы самому.
– Все равно, кто это сделает, – отвечает краснощекий. – Деяние анонимно. Его совершает народ.
Болезненный верзила в ужасе шепчет:
– Вы же не собираетесь убивать человека?
Остальные двое смотрят на него с жалостью. Шломо явно совсем расхворался. Сможет ли он держать язык за зубами?
– Человека… – беззаботно повторяет краснощекий. – Во время погромов у нас дома, с девятнадцатого по двадцать первый, беляки убили примерно шестьдесят тысяч евреев, не спрашивайте как. Шварцбарт расквитался за это с гадом Петлюрой, и мир его оправдал. Причем Петлюра-то был просто украинский гой – что он знал о нас? А этот – один из нас, он совершенно точно знает, что здесь наш последний шанс, и все равно продает нас арабам. Надеюсь, Шломо, в случае чего ты будешь держать язык за зубами.
Шломо молчит, только кивает. Конечно, само собой. В душе у него много возражений против затеи, он хочет переубедить друзей и смог бы, ведь мысли его совершенно ясны. Но странным образом говорить нет сил. Недомогание и жара слишком ему докучают. Только бы пережить лето, тогда он будет спасен…
– Огромная честь – совершить такое деяние, – торжественно произносит чернявый крепыш, – сам не знаю, почему уступаю эту честь тебе, Мендель.
– Всему есть свои причины, – спокойно замечает блондин. – Может, я ненавижу его еще больше, чем ты. – Его негромкая речь и сонные глаза каким-то образом превозмогают напор чернявого. Невзрачный, он не привлекает внимания, такого не поймаешь. – Я сбежал от набожного отца, – вдруг сообщает он ни с того ни с сего. – Знать его больше не желаю и надеюсь, что сумею выписать сюда мать и сестру. Давай мне эту штуковину.
Чернявый нерешительно лезет в нагрудный карман, нерешительно достает продолговатый предмет – он не больше юношеской ладони, – протягивает блондину, гордо добавив:
– Он заряжен, так что будь осторожен.
Упитанный, с виду безобидный парень опускает тяжелый предмет в карман брюк.
– Но как ты доберешься до Иерусалима? – по-прежнему испуганно спрашивает больной верзила.
Тот сочувственно пожимает плечами. Будто каждый шофер в стране, возвращающийся порожняком из Хайфы в Иерусалим, не прихватит с собой новоприбывшего халуцника!
Глава пятая
Домой в Дамаск
Взволнованный и до смерти усталый, доктор де Вриндт вернулся вечером в Иерусалим. С удовольствием вошел в свою квартиру, расположенную в квартале между улицей Пророка и улицей Святого Павла, вблизи Дамасских ворот, открыл кран и наполнил тазик и кувшин водой, еще горячей от солнца, – госпожа Бигелейзен, прислуга, придет завтра утром, когда воду, глядишь, опять перекроют, – и порадовался фруктам, разложенным на блюде в западной комнате. Он знал, чьи маленькие смуглые руки принесли эти абрикосы, персики и вишни, но все равно тщательно их помыл и лишь затем, произнеся благодарственную молитву творцу древесных плодов, отведал. Потом уснул без сновидений и спал очень долго. Ему чудилось, будто он в автомобиле, ведь стоило закрыть глаза, как навстречу катил пейзаж, который он видел в эти дни, и тот пейзаж, по которому тосковал: гора за горой, долина за долиной, чистый контур горы Тавор не исчезал с горизонта, округлый, словно женская грудь, и просторы на севере, снежные вершины Хермона и Ливана тянулись в мечтах перед его глазами, путь в богатую Сирию и любимый царский город, могучий Дамаск, видевший в своих глинобитных стенах Авраама и Элиэзера, его верного слугу…
Наутро, бодрый и веселый, он занялся аутентичной интерпретацией, которую вчерне набросал с Эрмином и телеграммой уже объявил прессе. Она уже не казалась ему столь необходимой, но он обещал, а слово, данное такому человеку, как Эрмин, нельзя не сдержать. Окончательную редакцию он подготовит не в одиночку, здесь опять-таки требуется согласие Цадока Зелигмана и, на всякий случай, еще нескольких влиятельных единомышленников. Прежде всего он подумал о добром докторе Глускиносе. Когда в полдень госпожа Бигелейзен уходила, он послал с нею записку раввину, в которой просил его около девяти прийти в больницу на совещание. После обеда и кофе он отправился на почту, не спеша прикидывая, что его там ждет. В ячейке лежало несколько писем и почтовых открыток, которые он спрятал в черный кожаный портфель.
На скамейке в кассовом зале сидел краснощекий светловолосый молодой еврей – круглое лицо, сонные глаза.
Бегло взглянув на него, де Вриндт подумал, что в двадцать лет и сам выглядел примерно так же. Потом назвал почтовому служащему свое имя и номер, чтобы получить печатные издания, которые не помещались в абонентской ячейке. Пришли газеты и две толстые книги, которые он должен для кого-то «отрецензировать».
Когда он пошел прочь, поднялся и блондин в синей рубашке, старомодных бриджах, высоких шнурованных башмаках и обмотках.
Едва очутившись на улице, де Вриндт дал волю любопытству: нагнулся над черным портфелем и бегло просмотрел газеты из Европы, письма из Европы и из страны. Полную порцию излитого на него яда он получит только завтра на службе, когда полистает газеты, которые, за отсутствием других событий, снова будут писать о нем, о его выступлении и о контрмерах сионистских властей, пророчествуя или негодуя. Одно из писем, которое он вскрыл, когда мимо как раз проходили феллахи с их чеканными лицами и розовощекие томми, рослые блондины в хаки, пришло из Хайфы, на тонкой папиросной бумаге всего шесть слов на иврите: «Если Вам дорога жизнь, уезжайте из Иерусалима. Умирающий». Это не первое письмо с угрозами за последние недели; приходили и более злобные, хамские и яростные; это, пожалуй, напоминало скорее предостережение. Де Вриндт скривил рот, еще сильнее выпятив нижнюю губу: евреи не убивают. С тех пор как опасность со стороны некоего Мансура миновала, политика одержала верх над семейной честью, он больше не верил в угрозу. Эрмин высказался в таком же духе, смеясь обронил, что это единственный положительный результат его крайне опрометчивого шага. Странно, что Эрмин до такой степени на стороне сионистов, хотя вообще-то ничего удивительного здесь нет. Что ни говори, с дружбой все хорошо, раз она выдерживает идейные разногласия, и с политической жизнью тоже все хорошо, раз люди, несмотря на противоположность взглядов, могут оставаться друзьями. Продолжая путь, он сообразил, что, будь Эрмин евреем, думал бы иначе.
Люди на тротуарах мешали ему, он искал уединенных переулков к дому, ругая себя за несдержанность, поднялся по лестнице (как всегда слишком торопливо) и порадовался беззвучному покою в стенах своей квартиры. Правда, там было душно, но де Вриндт уже напробовался уличного зноя; он разделся, насколько позволяли приличия, закурил сигару и, удобно расположившись в кресле, вытряхнул на письменный стол содержимое черного портфеля. Работа с корреспонденцией – обычная дневная рутина любого писателя. Чего только народ не пишет! К примеру, «друг» из Роттердама не согласен с некоторыми идеями его последней книги.
– Этим людям хочется, – проворчал он себе под нос, – чтобы ты жил и думал как состоятельный коммерсант, а сочинял как Шекспир или Верлен.
Де Вриндт порвал письмо, отвечать незачем. Зато письмо издателя изучал долго: поразительно, но этот человек предлагал ему написать исторический роман, словно эхом откликаясь на его планы. В самом деле, пора передать должность кому-нибудь помоложе, а самому вновь целиком посвятить себя писательству. Во Франкфурте, Кракове, Данциге достаточно молодежи. В Европе он поищет подходящего молодого человека. Тот должен иметь университетское образование, уметь излагать свои мысли на нескольких языках, прежде всего быть пылким поборником дела Торы, не мошенником, не мелким дельцом, подозрительно относиться к проискам сионистов. Должен знать, как надо разговаривать с англичанами и как – с арабами. Внезапно де Вриндт с содроганием вспомнил короткую сцену, очевидцем которой стал в бурном двадцать первом году, когда арабы рассчитывали демонстрациями произвести впечатление на англичан. Какой-то подросток, делая руками издевательские жесты, кривлялся перед взводом английской конной полиции, а феллахи и горожане на улице – случилось это в Хайфе – одобрительно смеялись. Начальник полиции, его хороший знакомый, спокойный британец-цветовод, коротко крикнул подростку, который паясничал прямо перед его конем: «Уходи!» – крикнул по-арабски, два слога: «Имши!» Однако шутник даже не думал уходить. Он свободнорожденный араб, где хочет, там и пляшет. Тогда полицейский офицер достал револьвер – короткий хлопок, человек падает возле сточной канавы, патрульный взвод скачет дальше, внезапно вокруг ни малейшего препятствия. Серьезных беспорядков в Хайфе больше не случилось. Как он тогда жалел умирающего, которого унесли прочь, на уличной мостовой остался лишь узкий кровавый след! Не поймешь, кому он принадлежит. Араб быстро исчезает в толпе соплеменников.
Де Вриндт решил принять душ. Некоторое время пришлось терпеть теплые струи, дожидаясь, пока бак под потолком подаст воду попрохладнее. Стоя под приятным дождиком, он размышлял об историческом романе (письма издателей, как правило, возбуждают фантазию). На материале Святой земли, писал этот господин. Здесь исторических романов как сорняков – полным-полно. Разве он сам не подумывал написать про своего старого врага и друга, бородатого императора Адриана? Он представил себе серую серебряную драхму, на реверсе которой были изображены сплетенные руки, и надпись – patèr patrídos. Вряд ли сложно отыскать в анналах тогдашней эпохи материал для повествования, которое наглядно и прозрачно покажет вражду меж греками, эллинизированными евреями Александрии и ортодоксальными учениками палестинских раввинов. Он уже толком не представлял себе ту эпоху, видел только фигуры императора и рабби Акивы, мог их чуть ли не пощупать, кутаясь в теплую банную простыню, заворачиваясь в нее, будто в тогу. Пожалуй, хорошая идея. Возможно, так возникнет живое зерно, которое получит многообещающее развитие.
Вернувшись к письменному столу, де Вриндт набросал несколько строк ответа: он не против, а поскольку все равно собирается в Европу, то привезет с собой конкретные предложения. С остальной корреспонденцией он разделался быстро. Прежде чем бросить в корзину, еще раз, наморщив лоб, глянул на письмо с предостережением или с угрозой: «Если Вам дорога жизнь, уезжайте из Иерусалима». Что за почерк? Нетвердый, чуть ли не дрожащий. Да, он уедет из Иерусалима, но потому только, что сам так решил. А дорога ли ему жизнь… Он пристально смотрел прямо перед собой. В общем-то, конечно, дорога. Но каков будет ответ, если копнуть глубже, в подземельях души? С самого низу опять выплескивалось храброе желание жить, которое было больше чем привычкой и бунтовало против любого намека на гибель. Благодарный за повод для небольшого самоанализа, он смял листок и бросил в мусорную корзину, а следом отправил и конверт. Почтовый штемпель Хайфы он разобрал правильно.
Последнее письмо, большое, белое, – от брата. Тот сетовал на постоянное падение цен на сырой каучук, рис и кофе. Стало быть, его рента уменьшалась – лишний повод заключить выгодный издательский договор. Его ежемесячные доходы – силы небесные! – и без того невелики. Львиная доля уходила на пожертвования, больше предписанной десятины, в самом деле! Можно питаться попроще, Глускинос его только похвалит. Затем он вдруг вспомнил, что собирался черкнуть несколько строк Эрмину – ответ на пропущенный мимо ушей вопрос, в благодарность за прекрасную поездку. Затрещала пишущая машинка, но то, что он немного погодя прочел в ее бесстрастных буквах, показалось ему настолько личным, что он посреди фразы вытащил лист из каретки, смял и выбросил. Нет, в другой раз и устно; ведь скоро он вновь будет сидеть напротив своего товарища. Он достал заметки, записи и помятые листы своей анкеты и увлеченно работал, пока не проголодался. Поел фруктов, порадовался встрече с Саудом, условленной назавтра после обеда, отломил несколько кусочков хлеба и опять работал, пока комнату не наполнил красноватый свет. Тогда он потянулся, расчесал щеткой волосы и бороду, тщательно оделся для совещания. Не забыл аккуратно сложить в черный портфель все необходимые бумаги, прихватил и пакет с сигарами. Рабби и доктор Глускинос охотно курили голландские сигары.
Из дома он вышел чуть ли не в радостном настроении, не спеша шагал по шумной, смеющейся улице, сворачивал то в один переулок, то в другой, зашел по пути в кафе, взял немного фруктового мороженого, холодное, сладкое лакомство приятно скользило в горло. Люди оглядывались на него, показывали пальцем, отчего он почувствовал неловкость. Заметил: официант не подходил за расчетом. И хозяин тоже. В конце концов он положил деньги на блюдце и ушел. На минуту-другую задержался у витрины книжного магазина. Улица была очень оживленная. Рядом остановился молодой парень, ворот синей рубашки расстегнут; он не приставал к де Вриндту, и тот не обратил на него особого внимания. Лицо, ну да, он уже где-то видел его; Иерусалим невелик. В витрине выложены европейские новинки на многих языках, романы, эссеистика, путевые заметки о России. Шеренгами выстроились переводы на иврит и сочинения местных писателей, молодая еврейская литература. Де Вриндт скривился – вот она, ставка его недругов, которые низвели священный древнееврейский до языка еретиков и словами, где каждая буква пропитана духовными и освященными традицией связями, описывали любовный роман между халуцником и халуцницей. Как если бы господин д’Аннунцио пользовался латынью «Вульгаты», подумалось ему; впрочем, и это сравнение метким отнюдь не назовешь.
Улицы Нового города погружались в полумрак, с гор задувал прохладный, спасительный ветер, скоро половина девятого. Де Вриндт мог не спешить, он вовремя войдет в подъезд больницы «Шомре Тора». Горожане, многие с непокрытой головой, многие в черном, исчезали в домах, свет электрических и керосиновых ламп падал из квартир на улицу, нереальный в быстро наступившей ночи. Он увидел впереди подъезд больницы, белый и пока что отчетливый, и внезапно услыхал за спиной чей-то голос: «Смерть предателю». И даже не успел обернуться, как что-то ударило его – раз, и еще, о боже, и еще! – что-то похожее на три резких грохочущих удара в левое плечо, он закричал и упал ничком, неодолимо брошенный на вытянутые вперед руки, с уже гаснущим сознанием.
Он очнулся, словно в зыбком тумане. Скоро? Прямо сейчас? В невообразимое прошлое?
Когда душа человека внезапно отверзается и его захлестывает подсознание, время отпадает от него, и он наполняется непреходящим, выстроенным одно подле другого, извечным. Поскольку же он человек, подчиненный последовательности одного за другим, он скользит, плывет, уносимый прочь, и проживает жизнь в порядке хода времени.
Так что же, он, Ицхак, наконец-то на пути в Дамаск, свершилось его заветное желание еще раз увидеть дивный город? Значит, он не возвратился в Цфат, где мощная стена окружала гору Хананеев; Элиэзер догнал его, верный слуга с испытующими глазами Эрмина. И на быстрых, как стрелы, верблюдах отца, великого шейха, он мчался в Дамаск. Как звенели колокольцы на шеях светло-коричневых животных! Он, Ицхак бен Авраам, возвращался с чужбины домой. Но то была дорога, ведущая через Галилею, на север, весной. Пастухи стояли возле нее, опершись на свои посохи, а черные их овечки щипали траву вокруг красных анемонов. Из черных шатров бедуинов выходили они, сыны Моава, те, что пастушничали в роще Мамре и под пальмами Иерихона. Да, вокруг него раскинулась земля, дивная Земля обетованная, которую сам Бог избрал и обетовал его отцу, Аврааму, сыну Фарры, рожденному в лунном городе Уре в Халдее и теперь ожидавшему в Дамаске своего сына. Но мимо проносились кряжи Хермона, и снега его граничили с пламенно-синим небом. И он, Ицхак, принесенный в жертву на горе Мориа и ныне излечившийся, возлежал в носилках под сенью занавесей и видел каменных истуканов, какими земледельцы отпугивали птиц небесных. Простил ли он отцу своему, что кровь его окропила гору? Разве не прошел он через множество преображений, от круглорогого овна до некоего де Вриндта, чье имя, впрочем, для него уже почти ничего не значило? Вот они вброд перешли Иордан, там, где он еще ручей, и вокруг расстилались равнины Арама, а они стрелою мчались по дороге, что вела к великим шейхам Дамаска, где стоял лагерем Авраам, сын Фарры, разрушитель идолов. Да, он хотел возвратиться домой, на север, и на север возвращался; нос корабля пустыни стремительно разрезал поток дней и недель. Мимо скользнула деревня явления: вон там шла по дороге белая фигура галилеянина, которому не посылали ни привета, ни взгляда, а у ног его скорчился рабби Савл из Тарса, отступник, тот, что нанесет вождю воинств неисцелимую рану. А вот и ворота, возле которых его в корзине опустили наземь, и сладкие воды Дамаска омывали луга, синие кроны сливовых деревьев, соразмерность мостов. Но и здесь не было Авраама, великого отца; он искал его во дворе мечети, в храме ложных богов, и открылось вокруг него огромное чудо каменного двора, внутренность каменной постройки. Сотни тысяч преклоняли там колена, опускали голову и касались земли, а она ведь была всего лишь женщиной и стерпела, что его, Ицхака, принесли в жертву на ее груди, именуемой Мориа, обрезали, каменным ножом пролили его кровь. Что есть земля как не накрытый стол, женщина, чтобы выйти из нее и бежать от нее, все равно куда? Мать – беловатый холст, из нее ты вылупляешься, но солнце – это отец, великий солнечный бог Ваал, чей дом воздвигнут в том месте, где справа и слева горы, в ложбине низинных земель, в Баальбеке, городе Бааловом. И там, в запустении храма, сидел на престоле Авраам, сын Фарры. Он вновь разбил богов, опрокинул колонны, мощные, толщиною в рост человека. Одна, покосившись, еще прислонялась к уцелевшей стене, шесть еще поднимались к небу подобно шести струнам разбитой арфы. Но позади возвышался он, отец, Авраам, сын Фарры, с бородой цвета огня, от которой исходило солнечное сияние, и с синим смехом в глазах, коим цвет подарило небо, и это он, творец вселенной, невзначай истребил землю, а легионы сущего начертил в пыли, дабы возникли. Четыре реки истекали из его ног, там, где они стояли. Евфрат, и Нил, и Иордан, и Инд или Тигр, он более не помнил. Ему хотелось схорониться от взора отца, но тот уже заметил его, и с кружением в голове он пополз к нему. Еще пахло слегка кровью овна, а он, неуклюжий в детском кафтанчике, тащился к владыке, хотел проползти под аркою ворот, стоявших с незапамятных времен. Но едва он заполз под арку, она рассыпалась, или это он, Ицхак, так страшно разбух? Свод опустился на него, камень сдавил ему бока, руки и ноги зарылись в землю, или она поглотила их, дышать было уже трудно, чернота камня грозила ему, и, словно далекий шум морских волн, в ухо прихлынул смеющийся голос страшного отца, который все сотворил, и все упорядочил, и направил реку времени против него: «Не хочешь ли ты наконец полюбить меня, Ицхак, сын мой, таким, каков я есть?» И упрямый отрок с трудом разжал зубы и выдохнул: «Нет!»
Это «нет» услышали мужчины, когда через несколько секунд после грянувших выстрелов выбежали из ворот и увидели, что Ицхак-Йосеф де Вриндт лежит в крови, заливающей плечи, голову и бедра. Он скончался в тот миг, когда его друг, доктор Глускинос, опустил его на скамью в вестибюле больницы «Шомре Тора».







