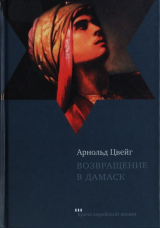
Текст книги "Возвращение в Дамаск"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Глава восьмая
Бесконечные разговоры
– Вы читали хоть одну его строчку?
– Статьи, интервью. Весьма наблюдательные, но совершенно ошибочные в выводах. Добрый де Вриндт по уши погряз в стародавних временах. Всегда видел лишь еврея-одиночку, который просил о терпимости.
– Разумеется. Но я имею в виду не его политику. Я имею в виду его глубинную суть. Он ведь, говорят, был поэтом. Вам знакомы его стихи?
– Откуда. Кто читает по-голландски?
Собеседники исчезли в тени кустов и узких дорожек.
Была ночь следующего дня. Несколько чиновников и лидеров еврейской общественности собрались в доме доктора Ауфрихта, о котором мы уже упоминали. Ни один не приехал на своей машине, добирались на такси, на автобусе, многие пришли пешком; звездная летняя ночь манила прогуляться. Бодрящий ветер, благотворный воздух побудили их расположиться между живыми изгородями и тонкими деревцами сада; за небольшим скромным домом он сплетал свои посыпанные гравием дорожки. Люди курили, пили сельтерскую с фруктовыми соками. Иные из мужчин в светлых костюмах накинули на плечи легкие пальто; женщины вскоре скрылись в доме – посмотреть на спящих детей и обсудить с госпожой Мирьям Ауфрихт сложные проблемы воспитания в этой стране.
Предстояло решить, надо или нет демонстративно участвовать в похоронах противника, покойного де Вриндта. Седой непримиримый Авраам Вилькомир высказался против. Широкоплечий, круглоголовый, в неглаженых брюках, он сидел, прислонясь к стволу невысокой оливы, отличавшей этот сад от прочих. (Тальпиот – совсем новый пригород; строительная компания нашла здесь лишь считанные старые деревья, когда приступила к возведению домов для чиновников.) В его светлых глазах отражалось пламя свечи, которая в стеклянном бокале горела ровно, не трепеща.
– Я не вижу причин менять нашу позицию касательно этого предателя. Арабские журналисты могут писать все, что им заблагорассудится, – разве вы намерены оглядываться на них? – Вилькомир был руководителем «Керен каемет», одной из крупнейших и влиятельнейших институций страны, которая на бесчисленные пожертвования, крохотные и достаточно крупные, поступавшие со всех концов еврейского мира, приобретала здесь землю и переводила ее в общую еврейскую собственность, то есть передавала в наследственную аренду поселенцам и товариществам. Поголовно все иммигранты из России видели в нем лидера. Остальным его напористое упрямство зачастую мешало, однако ж и у них он пользовался уважением. Было ему за семьдесят, шесть десятков лет он работал на Движение, которое сформировалось в России задолго до Теодора Герцля.
– Мар[45]45
Господин (иврит).
[Закрыть] Вилькомир, – вставил хозяин дома, высокий, худой мужчина, черноглазый, в роговых очках, – рассмотрим вопрос чисто по-человечески. Убит лидер оппозиции – опустим убийство: лидер оппозиции погиб, скажем, в результате дорожной аварии. В любой стране мира депутаты правящей партии проводят его к могиле, в любой цивилизованной стране. Разве не будет простой добропорядочностью, если доктор Казанский и еще несколько человек пойдут за гробом от имени исполнительной власти?
– Что за сравнения, – буркнул старик, своей круглой седой бородой похожий на русского крестьянина.
А довольно молодой мужчина в высоких сапогах, с моноклем в глазу и в черной кипе неприязненно вскричал:
– Вы забываете, мы живем на Востоке! То, что в вашей лицемерной Англии именуют политической добропорядочностью, здесь трактуют как слабость, и, пожалуй, справедливо.
Хозяин дома, молодой доктор Ауфрихт, с безмолвной улыбкой посмотрел на говорившего, на его белую тужурку в обтяжку, на модного покроя бриджи.
– Талантливым журналистам надо бы всегда только писать, – дружелюбно заметил он. – Впрочем, вам-то участвовать вообще необязательно, хотя доктор де Вриндт когда-то принадлежал и к вашей партии – до того, как вы приехали сюда.
– Боюсь, в стране вас не поймут, – возразил молодой доктор фон Маршалкович, покраснев от досады. Он строил из себя ортодокса и принадлежал к числу идеологов радикальной буржуазной молодежи, молодых националистов, которые смотрели на арабов как на цветных туземцев, а в каждом англичанине чуяли политического интригана. – Нет, – для вящего подтверждения он хлопнул себя по колену, – мы участвовать не намерены. И не удивляйтесь, если легионеры выйдут на митинги протеста.
– Мы не боимся, – отозвался из темноты спокойный голос. Там, с трубкой в зубах, сидел доктор Гилель Казанский, довольно молодой представитель сионистской исполнительной власти. – Я видел доктора де Вриндта всего лишь два раза в жизни и никогда с ним не разговаривал, что вообще-то скверно, но вы ведь знаете, такова наша жизнь здесь – разные круги общения. Но хоронить его мы должны сообща. Давайте послушаем. что скажут рабочие. Ну, товарищ Меир? Как решит «Гистадрут»: участвовать или нет?
– Участвовать, – ответил тот, к кому он обращался, невысокий загорелый мужчина с живыми глазами и закрученными усами, из-под которых, точно рупор, торчала сигара. «Гистадрут», Всеобщая федерация еврейских трудящихся, как городских, так и сельскохозяйственных, был в стране огромной силой. На самоотверженности его членов почти в той же мере, что и на капиталах фондов, зиждилось возрождение Палестины. Казанский тоже вышел из ее секретариата.
Доктор фон Маршалкович сердито заворчал. Эти избалованные любимчики Движения, рабочий класс с его социалистическими учреждениями, коммунистическими поселками и жизненным укладом, с его вечной готовностью к соглашению с арабским народом, не пользовались симпатией у него и его друзей. Во-первых, профсоюз мешал созданию «здоровой экономики», а кроме того, со своими двадцатью тысячами членов оказывал сильнейшее влияние на подрастающую молодежь. Сектанты не от мира сего, думал он, не политики, они, и их Н. Нахман, и вся камарилья вокруг него, им место в Дганье или еще где-нибудь на Генисарете, но не здесь, в центре событий.
– Боюсь, вы в меньшинстве, – насмешливо отозвался другой моложавый мужчина, подходя к свече, чтобы закурить сигарету. Огонек осветил очки без оправы, широкий лоб, поредевшие светлые волосы.
– Мы привыкли, что университет ущемляет национальные чувства молодежи, – иронически заметил молодой «кавалерист». – Жаль только, что вы палец о палец не ударили, когда ваш прокуратор выслал нашего Петра Персица.
Петр Персиц, в прошлом офицер Еврейского легиона, писатель, знаменитый оратор, полгода назад был вынужден покинуть страну, поскольку его подстрекательские речи в конце концов дали правительству повод избавиться от него.
– Вы прекрасно знаете, господин фон Маршалкович, – без малейшего волнения проговорил Казанский, – что мы резко критиковали правительство за эту глупость…
– …потому что в Европе Персиц мешает вам еще больше, чем здесь, особенно в Польше! – громко вскричал старый Вилькомир.
– И вы туда же, мар Вилькомир? От страха, стало быть, а не потому, что с нашей точки зрения высылка не есть аргумент? Мы не боимся Петра Персица ни здесь, ни в Польше, но в ту пору мы ничего не предприняли по вопросу о землях в Бейт-Шеане главным образом потому, что его бессильные угрозы прекрасно обеспечивали Политический отдел основаниями для действий. В самом деле, – неожиданно с горечью добавил он, – от вас, мар Авраам, требуется больше благоразумия. Персиц грозил англичанам – чем? Где у нас средства принуждения? Идеи, моральные ценности, практические дела. Наша сила зиждется на нашей работе в этой стране, на нашем библейском праве, на мандате Лиги Наций, Декларации Бальфура, доброй воле английского народа идти вместе с нами. Вы правда думаете запугать премьера Макдональда[46]46
Имеется в виду Джеймс Рамсей Макдональд (1866–1937) – английский политик, один из основателей Лейбористской партии; премьер-министр, в частности, в 1929–1931 гг.
[Закрыть] речами нашего одареннейшего оппозиционного лидера или заставить британский МИД отказаться от его арабской политики, просто потому что митинги радикалов мечут громы и молнии по поводу нарушения слова? Конечно, легионеры притязают на землю здесь, в стране; разумеется, земли Бейт-Шеана превосходно подходят для реализации этих притязаний. Всякий знает, что эти земли, отданные арабам, уже успели шесть раз сменить владельца и через три года, как и сейчас, останутся невозделанными, если мы в конце концов не купим их по дорогой цене. Но еврейский народ живет повсюду на свете, не только здесь…
– …благодаря вашей ложной политике, вашей робости и скептицизму, – вставил Маршалкович.
– …и большинство в стране принадлежит не нам, а арабам.
– Но мы могли бы стать большинством, давным-давно, если бы Англия выполнила свой долг. – На сей раз короткую речь политического чиновника перебил старый «крестьянин». – Вам же будет вполне достаточно снова и снова умело подчеркивать, до какой степени наши евреи суть всего лишь и в первую очередь местоблюстители для несчетных других евреев, которых мы как можно скорее доставим сюда.
– Верно, – закончил молодой собеседник безнадежный разговор, – то-то и оно, что «как можно».
– Университет благодарит господина фон Маршалковича за его добрый отзыв…
Стройный красавец-журналист, откинув горделивую голову, обернулся, вынужденный оставить Казанского, который тотчас скрылся в темноте.
– …и постарается впредь неизменно его заслуживать. – С задумчивой улыбкой на лице перед ним остановился белокурый очкарик с окурком сигареты в зубах – доктор Генрих Клопфер, доцент философии. – У нас, скромных интеллигентов, – насмешливо продолжал он, – в голове не укладывается, как мы можем в Европе ратовать за нравственность будничной жизни, в том числе политической, чтобы здесь как раса господ играть роль эксплуататоров.
– О-о, вы не понимаете, – послышался слева смеющийся голос; мужчина в мягком пальто положил руку ему на плечо. – В Европе мы боремся против угнетения нас как граждан, здесь же – за наш престиж как семитов. – Глаза говорившего удовлетворенно блеснули из густой черной бороды, покрывавшей щеки. Сняв шляпу, он поочередно поздоровался со всеми присутствующими, попросил глоток лимонада и набил трубку: доктор Эли Заамен, по главному роду занятий инженер, во второй половине дня и по вечерам математик в Политехническом институте в Хайфе, проводил каникулярные недели в Иерусалиме, потому что на поездку в Европу или в Ливан ему недоставало денег. Он отдыхал в читальнях библиотеки, где и подружился с Клопфером.
– То есть вы все, кажется, более-менее решили присутствовать на похоронах господина доктора де Вриндта? – проговорил доктор фон Маршалкович, между узкими бровями этого привлекательного молодого брюнета легли мелкие морщинки. – Ладно, как вам будет угодно. Только учтите, газеты непременно напишут: это участие означает протест еврейства против убийства еврея арабами. И вы этому не помешаете.
На секунду-другую повисла тишина. Все обдумывали, чем чреват такой внезапный поворот обстоятельств. В официальном сообщении о смерти лидера «Агуды» не было ни слова о личности убийцы; правда, в выражении «разбойное нападение» содержался намек на арабских преступников, потому что разбойники-евреи встречались только в Курдистане. Судя по городским хроникам, в Иерусалиме этим ремеслом занимались исключительно аборигены, сыны диких племен или сбившиеся с пути феллахи. Журналисту не запретишь писать то, что он думает, и на определенные газеты исполнительная власть влияния не имела. Появись эта фраза в прессе, она приравняет участие в похоронах к демонстрации, чего никому не хотелось; с другой стороны, это, пожалуй, воспрепятствует обострению разногласий в собственном лагере; нынешний момент требовал единства. Впрочем, напряженности существуют всегда и всегда улаживаются; сионисты их не опасались.
Беспокойство выказывал только доктор Ауфрихт.
– Не лучше ли в таких обстоятельствах все же остаться дома? – спросил он у доктора Клопфера, который в идеологических вопросах зачастую разделял его мнение. – А вы как считаете, господин Заамен?
Доктор фон Маршалкович с высокомерной насмешкой рассматривал противников, этих безвольных, мягкосердечных немецких и австрийских евреев, которых вконец смутил.
– Совет центральных держав заседает, – иронически произнес он тоном газетного заголовка, обращаясь к старому Аврааму Вилькомиру. (Он вправду уже забыл, что родился в Билитце, в австрийской Силезии, тогда как Эли Заамен был родом из белорусского Минска.) – При малейшем намеке на национальный жест вы даже от своих идеалов братства отказаться готовы.
– Успокойтесь! – Выпятив подбородок, доктор Казанский подошел вплотную к противнику, который невольно отшатнулся. – У нас еще не раз будет возможность платить за оконные стекла, выбитые вашим радикализмом, здесь и в других местах. Мы проводим де Вриндта к могиле.
Насчет состава делегации договорились быстро: Казанский от исполнительной власти, доктор Ауфрихт от Фонда заселения Палестины и доктор Клопфер от университета. Национальный фонд делегата не послал, однако от открытых возражений воздержался, таково было последнее слово Авраама Вилькомира.
– Пора по домам, господа! Кто за прогулку, а кто предпочитает автобус? – воскликнул Эли Заамен, самый беззаботный. Жил он близко, гостил у Генриха Клопфера, чувствовал себя как отпускник, а вдобавок подружился с действительно очаровательной молодой женщиной, муж которой в настоящее время собирал в Британском музее, в Лондоне, свидетельства существования еврейских наемников в персидском войске царя Камбиса. Знаменитый папирус с нильского острова Элефантины, что в Верхнем Египте, указывал на это.
Глава девятая
Ночная прогулка
Эли Заамен и доктор Клопфер, оба чуть старше сорока, небрежной походкой поднимались вверх по улице, проложенной на склоне холма. Над бледной землей величественно вздымался купол небес, совершенно черный, усыпанный великим множеством, целыми легионами звезд.
– Уже совсем не такая, как в Европе, – сказал инженер, кивая на Большую Медведицу. Знакомое созвездие стояло на голове, устремив медвежьи лапы, или колеса Повозки, к зениту.
– Неудивительно, раз Полярная звезда смещается к горизонту, – отвечал Генрих Клопфер. – Вы так значительно говорите об этом, Заамен.
Сейчас они разговаривали по-немецки, люди охотно сбиваются на родной язык.
– Что бы вы сказали, если бы этого де Вриндта убил вовсе не араб? – медленно произнес Заамен. – Если бы речь шла-таки о самом настоящем политическом убийстве?
Генрих Клопфер замер как громом пораженный, левая нога стояла на тротуаре, куда он как раз хотел подняться.
– Кто смеет говорить такое?
– Я, потому что смею так думать. А вы, друг мой, вы тоже посмели так думать и промолчали на совещании, что называется, просто из патриотизма? – При свете звезд он испытующе всматривался в узкое, грушевидное лицо своего спутника и хозяина.
– Как вы пришли к столь ужасным предположениям? – в свою очередь спросил Генрих Клопфер. Остротой ума он превосходил Заамена, но инженер, бородатый, с худым скуластым лицом, излучал огромную жизненную энергию, которой он мало что мог противопоставить, тем более сейчас, когда его вопрос кинжалом пронзил сердце. Политическое убийство? В этой стране? Евреи убили еврея? Ни один из тех людей, что только что сидели на совещании, – уверенные, рассудительные, не избегающие ответственности – даже не намекнул на подобный кошмар. Ради революционных идеалов или в Великой войне евреи убивали, но здесь, в столь рискованной ситуации?.. Все это и прочее он попросил инженера принять во внимание и взять свое предположение обратно. Ни Персиц, ни его сторонники политическое убийство не одобряют.
– Вы не разбираетесь в наших евреях, – отвечал Заамен. – Мы ведь знаем, как основательно перечеканили нас страны, откуда мы родом. Вы думаете по-немецки и о немецких евреях. Я думаю по-русски и о русских. Наши молодые парни наносят удар, если им кого-либо выставляют предателем.
Генрих Клопфер испуганно кивнул. Подмечено правильно, сказано тоже. Что он знал об исконных силах в душах тех, кто вырос под гнетом царизма и в войну? Разница между немецкими, австрийскими, русскими, британскими евреями чувствовалась и в Иерусалиме, вплоть до могилы; а уж чего тогда ожидать от различий между северными и восточными евреями? Не будь детей – грядущее выглядело бы весьма сомнительно. Но дети росли на улице как говорящая на иврите орда – невзирая на слои, классы, происхождение и род занятий; они сплетали сеть единомыслия, единых идеалов, единого упрямства и единого таланта по всей стране, обеспечивая существование народа в грядущую эпоху.
Двое мужчин шли уже по вершине холма, оставив позади дом, где в Иерусалиме жил Генрих Клопфер. Но в ночные часы воздух так бодрил свежестью, днем в эту пору года дышать было нечем; приходилось менять привычки – утром дремать часок-другой, а главный сон передвигать на время меж двенадцатью и пятью, если получалось. Эли Заамен в этом преуспел.
– На войне я приучил себя спать в любое время дня. А когда не имеешь ни жены, ни детей, это никогда не составляет труда.
– Вы были на войне? – с удивлением спросил Клопфер. – В какой армии? Разве вы не приехали сюда еще в тринадцатом, во времена султана?
– Верно, – рассмеялся Заамен. – Тогда здесь, в Иерусалиме, существовала большая русская колония, монастыри и попы, которые жили себе припеваючи, Русское подворье еще напоминает об этом. Конечно, я прошел войну в российских войсках, как вольноопределяющийся, при условии, что сражаться буду только с турками. Мы назывались Кавказской армией и взяли Эрзерум; единственная российская армия, не потерпевшая ни одного поражения. Замечательно. Я дослужился до поручика, а это кое-что значило. Мы мстили за армян[47]47
Имеется в виду месть за так называемую младотурецкую резню, истребление армян турками (1915), в результате которого погибло 1,5 млн армян.
[Закрыть], понимаете, и были превосходными войсками. Только не удивляйтесь моей восторженности. Я милитарист, просто потому, что жизнь как таковая есть бесконечная потасовка, и тут я предпочитаю быть наверху.
Генрих Клопфер покачал головой.
– Жизнь, дорогой мой, в той же мере договор, обоюдное приспособление, стремление помогать, уважение потребностей соседа. В ней достаточно простора, сколько угодно возможностей развития, только не следует слишком быстро терять терпение.
Эли Заамен хлопнул его ладонью по плечу:
– Отлично! Но нам, российским евреям, требовалось слишком много терпения, мы его израсходовали, теперь в нас одно только нетерпение. Вот так чувствовал парень, который застрелил беднягу де Вриндта. Я, думал он, наконец-то приехал сюда, чтобы тоже что-нибудь построить для нас, для евреев, а этот скорпион будет ползать среди нас и кусать за ноги? К черту его – ба-бах! Вот он лежит! Вот так, говорю вам, вот так просто он думал, и потому завтра мы отправимся на похороны.
– Но ведь это ужасно, – Генрих Клопфер даже вздрогнул, – уму непостижимо. Нельзя дырявить людей, чтобы они истекали кровью, и успокаивать свою совесть идеалами строительства. Человек-то не скорпион.
Улица шла по гребню холма. Справа строящиеся дома говорили о том, что и там готовят жилье для евреев. Прямо перед ними из дымки испарений вставала луна, кроваво-красная, огромная. Мужчины глаз не сводили с жутковатой картины.
– Вон там лежит Трансиордания, – мечтательно произнес Заамен, погруженный в созерцание потухшего небесного тела, которое с давних пор производило на него глубокое впечатление. – Трансиордания – ловко придумано. Заполучи я сюда три миллиона евреев из России и сотню тысяч ружей, уж я бы всем показал, можно ли закрыть нам доступ на территорию, где похоронен наш вождь Моисей и в песках пустыни лежат кости наших предков.
Генрих Клопфер насмешливо улыбнулся. Безосновательный запрет на иммиграцию евреев в Трансиорданию действительно существовал, а граница, проведенная вдоль Иордана, была столь же произвольна, как если бы французам отдали левый берег Рейна. Однако наполеоновский жест воинственного друга, пожалуй, все-таки хватил слишком далеко в глубины истории.
– Как давно это было? – кротко спросил он своим звонким голосом. – Во времена фараона Мернептаха? Примерно три с половиной тысячи лет назад?
Эли Заамен тоже невольно рассмеялся.
– Верно, – сказал он, – примерно так. Но, знаете, для меня все это не поблекло и не стерлось. Оно живо, как изваяния упомянутого фараона и его отца в Каирском национальном музее. Мне часто казалось, что, записывая Библию, ребята уже не помнили точно, над чем мы тогда трудились. Города для запасов? Пифом и Раамсес? Весьма маловероятно. Думаю, скорее уж мы строили пирамиды, а я уже тогда был инженером и с одобрением отнесся к тому, что Моисей убил египтянина. Политическое убийство на заре нашей истории.
Как Ромул и Рем, испугался Генрих Клопфер, как Каин и Авель. У истоков каждого государства – братоубийство.
Роса увлажнила им плечи и волосы.
– Вот так просто все происходит, – наконец сказал Эли Заамен, – как восход луны. А знаете, почему такое случается и теперь? Мы становимся нацией, вот почему. С отдельными своими детьми нация обращается чертовски сурово – позволяет во множестве их убивать, позволяет им нищать, умирать от голода; возьмите мировую историю, новейшую часть. В сравнении с индивидом нация ведет себя низменнее, скажем прямо: подлее, намного более жестоко, бездуховно, варварски, руководствуясь инстинктами, проявляющимися весьма грубо. Но это лишь доказывает: здесь есть кипучая кровь, полноценная движущая сила, есть и множество задач, чтобы ее цивилизовать.
Снизу, из еще жарких низин, прилетел ветер, принес запах горящего верблюжьего навоза, который распространяется от любой арабской деревни. Одна из них как раз притулилась внизу, на дне ущелья, а там, где луна круглым клубнично-красным щитом только что отделилась от скалистого гребня, раскинулось плоскогорье Моав, уже за пределами Палестины.
– Но тогда как раз и стоит стать нацией, – с горечью сказал Генрих Клопфер.
– Ах, – засмеялся Заамен, – вы, немецкие евреи, привозите сюда чувства, которые делают вас небоеспособными. Стоит ли, нет ли – кто об этом спрашивает? У нас нет выбора, это и есть наше оправдание. Где-нибудь нам необходимо составить преобладающее большинство со своими жизненными законами, или мы мало-помалу исчезнем, а с нами – особенная порода людей, утратить которую очень жаль. Знаете, если кто-либо живет с таким удовольствием, как я, он тем самым опровергает весь антисемитизм и все сомнения.
Генрих Клопфер почувствовал себя весьма озадаченным. Ему, увы, не доставляло удовольствия жить в мире, сложившемся после войны, бездуховном, полном насилия, изобилующем проблемами, решение которых зрелому уму казалось легким, но которые в упрямой реальности не желали рассасываться.
– Мне не нужно ничего, кроме преобладающего большинства, вот и весь мой национализм. Согласись мы тогда на Уганду, сейчас миллионов шесть евреев сидели бы меж Суданом и Танганьиной, и Африка бы о них услышала. Так было бы намного проще, чем в этой чертовой Палестине с ее тысячами мелочных разногласий меж арабами, церквами, великими державами и религиями, не говоря уже о нашей еврейской сварливости.
В 1902 году английское правительство предложило сионистскому лидеру доктору Герцлю для расселения евреев североафриканскую Уганду. Герцль, который в силу оскорбленной любви ко всему немецкому стремился разрешить еврейский вопрос как можно скорее, был склонен принять это предложение. Проект рухнул из-за сопротивления российских евреев и их любви к Сиону. Они слышать не желали ни о чем, кроме Палестины, земли, которую, как они верили, читая молитвы тысячелетней традиции, предназначил евреям сам Бог.
– Сейчас я кое о чем проболтаюсь, – сказал Эли Заамен, доверительно взяв Клопфера под руку, – я вправе говорить о политическом убийстве. Мой отец погиб в минском погроме девятьсот пятого года, от сабли полицейского офицера, после того как своей железной тростью в кожаной оплетке проломил голову хулигану. Мой отец был сущий медведь. – Он с нежностью и гордостью засмеялся. – Я только успел увидеть, как он упал. Из револьвера я подстрелил одного из погромщиков, когда тот набросился на старую женщину и маленького мальчика-еврея, такого же, каким когда-то был я сам. Мне тогда уже сравнялось тринадцать или четырнадцать, я отделался сломанной ключицей и разбитой головой. В Германии я ходил в школу, в Мысловице, упомяну этот достойный пограничный городок, я и мой младший брат Лео. Потому-то, понимаете, я и не хотел в войну сражаться против Германии, а поскольку начало войны застало меня в Иерусалиме, это удалось устроить. Лео, мой младший братишка, – знаете, что он сделал, когда узнал о смерти отца и моих ранениях? Он прочел слишком много книжек про индейцев, ступил на тропу войны против России, поклялся отомстить кровью за кровь, как бедуин. Однажды ночью переплыл пограничную речку Пшемшу и заколол казака, невинного агнца из пограничной полиции, который странным образом стал для него воплощением звериного духа царистской ненависти к евреям, – как, я уже не помню. История бессмысленная и глупая, дело так и не раскрыли, убийство свалили на контрабандистов спиртного, ведь пограничные патрули главным образом за ними и охотились. Жестокость порождает жестокость. Что тут скажешь? Семь лет мой брат носил эту историю в себе, и год от года она тяготила его все больше – до самой войны. Позднее, сражаясь на стороне Германии, он видел столько убитых, что перестал терзаться из-за убитого его рукой, а потом и сам тоже погиб. В семнадцатом, в Шампани, в силезском полку, вместе с одноклассниками и ровесниками, так что от всей семьи остался один я, если у меня нет где-то детишек, про которых я ничего не знаю. Но и от них семье не было бы проку. – Он коротко вздохнул. – Здесь у меня большие трудности, знаете ли; я сделал проект и чертежи турбины нового типа, но не нахожу средств, чтобы построить и опробовать модель. Наверно, сперва надо съездить в страну, где есть водопады, и до поры до времени запатентовать эту штуку как детскую игрушку.
Генрих Клопфер неожиданно ощутил огромную усталость. Не по душе ему российские евреи. Этот вот бьется со всем миром и всегда знает, как быть! Подобной энергии можно только позавидовать.
– Пойдемте-ка спать, – сказал он. – Вообще, не стоит бродить здесь столь немногочисленной компанией; иной раз случаются нападения.
– Люди в деревнях живут в ужасающей нищете, для них это своего рода дополнительный заработок, – кивнул Заамен. – Хотя терпеть такое, конечно, нельзя. Я провожу вас домой. А потом еще немного погуляю. Меня ничуть не удивляет, что после всей этой горячечной суеты арабы взбудоражены. Что-то носится в воздухе, говорю вам, наверняка будут стычки. Кстати, я бы не прочь поучаствовать. И тем не менее стоит предупредить англичан. Зачастую попадает людям, которые, не в пример нам, к этому не готовы. – Он засмеялся, неожиданно замер. – У вас ведь есть в университете английские коллеги, британские евреи. Они и с вами общаются так же мало, как с нами? Наверно, нет. Скажите им. Пусть предупредят земляков при губернаторе. Господа чиновники, вероятно, их выслушают, хотя и не поверят. Поверить – да что вы! Чиновники – самые странные рыбы, что когда-либо плавали посуху. Предупредите их, скажите, инженер Заамен дает руку на отсечение, что-то носится в воздухе, арабы, мол, при ближайшей возможности наверняка перейдут в атаку, – чтобы они потом не удивлялись. Доброй вам ночи! А мне хочется еще подышать, никак не могу надышаться!
Генрих Клопфер подал ему свою узкую руку, почувствовал горячее ответное пожатие.
– Желаю хорошо повеселиться! – сказал он и сам испугался собственного подсознания. Молодая, вправду очаровательная госпожа Юдифь, супруга находящегося в отъезде приват-доцента, тоже проживала в Тальпиот.







