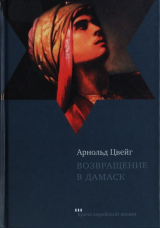
Текст книги "Возвращение в Дамаск"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Глава вторая
Неудача
Приемная казалась пустой, сумеречно-темной, беленые стены поддерживали готический свод четырнадцатого века, арки его, пересекаясь, создавали над головой красивый узор. Темно-коричневая мореная скамья опоясывала все четыре стены под узкими, как бойницы, оконными проемами, дополняя впечатление небольшой монастырской ризницы или приемной настоятеля времен короля Балдуина.
В одном углу что-то темнело, наподобие вороха одежды, забытого кем-то из посетителей.
– Добрый день, – сказал Эрмин, – если тут кто-то есть.
Ворох отозвался смешком, радостным хихиканьем развеселившегося старика, за которым последовал короткий грудной кашель.
Потом Эрмин увидел, как ворох поднес к губам платок, взглянул на него и молча спрятал. В зеленом свете, проникающем сквозь маленькие толстые стекла в свинцовых переплетах, обнаружился старик с кофейного цвета лысиной, с не слишком длинной седой бородой и веселыми глазами – работяга в холщовых штанах и полусапожках. Откуда-то Эрмину был знаком этот красивый профиль, по-женски изящный рот, крупный нос, и он вспомнил: уже несколько месяцев этот профиль украшал витрину молодой австрийки-фотографа на Яффской улице, она делала отличные снимки и быстро приобретала популярность. Ворох одежды оказался Н. Нахманом, идейным вождем палестинских рабочих, к которому прислушивались двадцать-тридцать тысяч евреев-рабочих и часть лучшей еврейской молодежи по всему миру. Он сидел, наклонясь вперед, совершенно расслабленно, устремив на Эрмина пристальный взгляд человека, имеющего дело с непреходящим в природе, – взгляд моряка или крестьянина. И вдруг Эрмин сообразил, почему старик сидит здесь и что он, Эрмин, правильно сделал, сунув трубку в карман. Рабочий Нахман страдал чахоткой; чахоточным он и приехал сюда сорок лет назад из Восточной Галиции. По расчетам врачей, ему давным-давно полагалось умереть. Эрмин непринужденно подошел к нему, назвал свое имя, сказал, что очень рад. И надеется, что доктор Глускинос делает все возможное, чтобы сохранить здоровье человеку, который оказывает стране столь неоценимые услуги.
Старый еврей хихикнул: не он оказывает услуги стране, а страна ему; он здесь потому только, что товарищи отослали его с Изреэльской долины, чтобы он себя поберег.
– Хотят собрать урожай без меня, понимаете? Будто во мне еще есть что беречь. Глускинос вам подтвердит. – Посерьезнев, он добавил: – Не хочу прежде времени сойти в могилу. Всякий человек с покоем в сердце нынче не менее важен для страны, чем вода.
К сожалению, арабские газеты иного мнения, сказал Эрмин, разглядывая свои пальцы, которые с удовольствием нырнули бы в карман за трубкой. Страх перед тихой агрессией сионистов был отчетливо заметен повсюду; и полемика о Стене Плача, тревога о Храмовой площади не давали общественности покоя, толкая на опрометчивые поступки даже таких незаурядных людей, как доктор де Вриндт. Тут крайне необходимо внести ясность, крайне необходимо и крайне трудно.
Н. Нахман нахмурил брови, глядя в пол, черно-белым плиточным узором напоминавший шахматную доску. О господине де Вриндте он предпочитает промолчать; патологические отщепенцы лишь запутывают все, к чему прикасаются. А вот страх арабов перед евреями – действительно проблема. Он реален, этот страх, и потому представляет собой большую сложность.
– Не то чтобы они имели основания бояться нас, поймите. Но если люди боятся друг друга, это ведь факт, верно? Страх, живущий в человеке, в высшей степени реален, а испуганная лошадь сбивает с ног всех подряд, тут без разницы, что ее напугало – подлинная опасность или тень. Арабы боятся евреев, евреи – арабов, и ни те ни другие не боятся англичан.
Эрмин насторожился. Не зря он говорит сейчас с человеком, научившимся думать прежде, чем он смог отличить рожь от пшеницы.
– Вот как? – спросил он.
– Да, вот так, – отвечал Нахман, – увы. Феллахи и бедуины, когда слышат о наших земельных приобретениях, чувствуют, как ремень затягивается у них на ребрах, не дает дышать им и их детям; евреи же, глядя на численный – четырехкратный – перевес арабов, на ружья бедуинов и их кинжалы, чувствуют себя незащищенными, боятся, что никогда не станут в этой стране массой, большинством, которое сумеет себя защитить. Мы ведь не чувствуем защиты ваших людей, мистер Эрмин. В жандармерии служит слишком много арабов и слишком мало евреев. А сколько британских солдат Англия держит здесь, на этой земле? Три сотни против шестисот тысяч арабов?
Эрмин покраснел. Он не рискнул назвать подлинную цифру. Белый гарнизон Палестины состоял из шести офицеров и семидесяти девяти томми[12]12
Прозвище британских солдат.
[Закрыть] – рота охраны Верховного комиссара[13]13
Верховный комиссар – глава британской администрации в Палестине.
[Закрыть].
– Англия доверяет благоразумию обеих сторон, евреев и арабов.
– Не слишком ли она доверяет другой стороне? Мы, живущие здесь уже давно, много чего повидали. И все-таки только своими руками и своими жизнями строим эту страну, для нас и для них. Вот так, – повторил он.
И Эрмин знал: рабочий класс этой страны вправе так говорить.
– А история со Стеной Плача? – спросил он. – Бесконечная полемика с ее метаниями то в религию, то в юриспруденцию – что вы о ней думаете?
Маленький согбенный человек выпрямился. Теперь все в нем просветлело, он выглядел вождем, беспощадным и решительным.
– К этому мы касательства не имеем, мистер Эрмин. И не понимаем, как все это может так долго продолжаться. Впору заподозрить здесь некую мощную заинтересованность в раздорах. Религиозный фанатизм самому мирному феллаху застит глаза. Понимаете? Тогда его страх обретает плоть, и кинжал сам собой выскакивает из ножен. Нашим богобоязненным евреям невыносимо, конечно, когда им мешают отправлять богослужение в этом священном месте Иерусалима. Но лишь для возмущенных граждан, студентов и ребят из молодежных союзов это главный политический вопрос. Политика престижа, знаете ли, а мы не желаем иметь к ней касательства.
Дверь кабинета врача бесшумно открылась, на пороге возникла полноватая фигура в белом халате и белой шапочке – доктор Глускинос.
– Вам придется еще немного подождать, мистер Эрмин, – сказал он, – господин Нахман пришел первым.
Однако Н. Нахман заявил, что пропускает Эрмина вперед. Здесь тихо и прохладно, хорошее место, чтобы поразмыслить, сделать кой-какие выводы. А если ему дадут листок бумаги и карандаш, он, пожалуй, даже набросает небольшую статью, которую подсказал ему разговор с мистером Эрмином.
Доктор Глускинос – линзы очков увеличивали его глаза – спросил Эрмина, на что он жалуется.
В ответ Эрмин улыбнулся и согнул в локте сильную боксерскую руку. Он пришел не как пациент. Он пришел к другу доктора де Вриндта, ведь как врач тот имеет право коснуться достаточно интимных сторон жизни ученого. И, осторожно подбирая слова, изложил обстоятельства, как их себе представлял по сообщению Иванова и по тому, что знал сам.
Доктор Глускинос побледнел, Эрмин давно не видел его таким.
– Замолчите! – Врач протестующе вскинул руки. – Что вы такое говорите! Доктор де Вриндт – человек глубоко верующий!
– Мне очень жаль, если я вас напугал, доктор, – ответил Эрмин. – Вы полагаете, одно с другим несовместимо? Уверяю вас в обратном. Человеческое естество подчиняется иным законам, нежели дух.
Глускинос утер лоб, медленно отодвинулся от письменного стола к стене.
– Поверить не могу, – простонал он, – я вам просто не верю.
Эрмин пожал плечами. Смотрел на врача, в котором, судя по всему, обыватель ненадолго победил профессионала.
– Прошу вас, взгляните на это с медицинской точки зрения, – упрямо продолжил он. – Если речь идет о недуге, которым страдает доктор де Вриндт, то его религиозность ничего изменить не может. А это и есть недуг, со смертельным исходом, если мы ничего не предпримем. Я обращаюсь к вам, потому что от вас ему, вероятно, будет легче принять совет… в таком деле.
Доктор Глускинос, сам человек весьма набожный, по-прежнему стоял у стены с отсутствующим видом.
– Как же он, наверно, страдает, – прошептал он, – чего стоит ему бороться с этим! Вот почему у него так плохо с сердцем, – сказал он погромче. Потом в глубокой задумчивости прошел к умывальнику и принялся намыливать руки, словно прикоснулся к чему-то нечистому. Повернув голову к Эрмину, так что полное, круглое лицо с глазами навыкате и горбатым носом почти устрашающе нависло над массивным плечом, сказал: – Вы правы, мистер Эрмин, я ему не судья. Но вмешиваться я тем более не могу.
– Доктор, – спокойно сказал Эрмин, – оцените ситуацию как таковую. Двое арабов, никому из нас не известных – во всяком случае, пока, но касательно одного я надеюсь вскоре кое-что услышать, – договариваются убить еврея. По-вашему, они станут долго раздумывать? Эти люди – большие дети, необузданные мальчишки без тормозов, в два счета ударят человека кинжалом в спину. Вероятно, задним числом они будут отчаянно сожалеть, недоумевать, как могли совершить такое, на диво благородно просить прощения и кончат на виселице. В спокойные времена это частное убийство, и только. Ныне же оно может стать запальной искрой, которая взорвет арабов и евреев как мину. Мы сделаем все, чтобы удержать под контролем арабскую сторону; вы, как друг и врач, должны сообщить доктору де Вриндту, что в ближайшие дни ему нужно соблюдать крайнюю осторожность и даже мухи арабской в квартиру не впускать, а лучше всего незамедлительно уехать. Разве это так много? Разве вы не можете прямо сейчас отправить его на две недели в горы?
Доктор Глускинос усталой походкой вернулся к письменному столу, стал рядом с креслом Эрмина – маленький толстяк, ненамного выше сидящего Эрмина.
– Вы поняли меня превратно, мистер Эрмин. Я отказываюсь не из-за себя. Просто я не могу травмировать де Вриндта, сообщив ему, что знаю об этом. Он же со стыда сгорит, будет глубоко уязвлен… Нет, надо найти другой выход. Мужчины, которые несколько раз в неделю вместе молятся, такого не вынесут, поймите! Вы должны сами пойти к нему, пусть первый удар исходит от вас. Вы полицейский, вы обязаны узнавать секреты и молчать о них. Конечно, я поддержу вас – без вопроса! Как только увижу его завтра за столом. Ему необходимо уехать в горы… все, что в моих силах… разумеется. – Он едва не лепетал. – Поезжайте к нему прямо сейчас, расскажите обо всем. Он упрямец, любит покой и не захочет устраивать себе неприятности. Угроза убийства, именно теперь! Вас он послушает, а я подскажу ему повод. Ведь наружу, Боже упаси, ничего не должно просочиться. Иначе этот злосчастный всех нас погубит!
Эрмин медленно встал, размял колени, расправил плечи. Всех нас – под этим доктор Глускинос подразумевал в первую очередь маленькую общину рабби Цадока Зелигмана, самое консервативное крыло ортодоксального еврейства, которое политически представлял де Вриндт. Однако Эрмин понял: дело вернулось к нему. До чего же иной раз противно быть полицейским, подумал он.
– Как бы то ни было, доктор, вы правы. Всегда что-нибудь да упустишь; но в любом случае мы с вами союзники.
Они пожали друг другу руки, врач проводил Эрмина до двери, не той, в которую они вошли.
– Пожалуй, приму немножко брому, – пошутил Глускинос с кривой улыбкой, – а уж потом прослушаю легкие нашего доброго Нахмана. Теперь что ни день, то беспокойства. – Он указал Эрмину дорогу: вниз по длинному коридору, потом налево и в вестибюль.
Будь Л. Б. Эрмин просто полицейским, он бы, несомненно, меньше занимался предотвращением возможного преступления, чем расследованием уже случившегося. По крайней мере, так он ворчливо твердил себе, когда остановился и наконец-то раскурил трубку. Он вновь чувствовал себя капитаном Эрмином, командиром ротной позиции, отвечающим за нее и две сотни человек, и знал, что предотвратить легче и стоит меньше, нежели потом восстанавливать. Солдат всегда солдат, всегда на посту. Де Вриндт был в эту минуту не кем иным, как рядовым из его роты, который наделал глупостей и которого надо спасать от беды. Словом, ничего не попишешь: вперед, к мистеру де Вриндту, прямиком в его частную жизнь!
Глава третья
Предостережение
В рубашке и брюках из светлого льняного полотна, в плоских бедуинских туфлях из буйволовой кожи на босу ногу поэт Ицхак-Йосеф де Вриндт сидел за столиком, придвинутым к окну, и чистил монеты, превосходные экземпляры эпохи римских императоров и еще более древние. Сейчас, в разгар сухого сезона, торговцы со своими запасами вовсю наседали на коллекционеров; ведь когда дождь обрушивался на горы и размывал в долинах почву, феллахи во время вспашки находили множество монет, в иных местах земля прямо-таки извергала их. И тогда они дешевели…
Поэт Ицхак-Йосеф де Вриндт наклонил голову с рыжеватыми волосами и лысиной, прикрытой кипой из желтоватой и черной козьей шерсти, приблизил круглое лицо с печальными глазами к монетке, которую долго тер хлопчатобумажным лоскутом, смоченным в оливковом масле. «Judaea Capta», разобрал он, «побежденная Иудея»; Веспасиан распорядился отчеканить эту монетку в городе Риме, впоследствии оккупационные легионы привезли ее сюда, и она попала к здешним людям. Приоткрыв рот, он вполголоса произносил короткие фразы; как все, кто много времени проводит в одиночестве, он разговаривал сам с собой, потребность высказаться была столь же велика, сколь и желание, чтобы никто ему не докучал.
– Я бы с легкостью оживил тебя, Тит, сын Веспасиана, предмет любви и восхищения всего света, тебя, твоего кровожадного отца и не менее кровожадного брата… Но я не стану. Пусть кто-нибудь другой обломает себе зубы… Если бы я наконец нашел время сразиться с большой рукописью, а не с противниками Торы, с евреями-еретиками, с этими собаками, которые рады променять наше огромное духовное достояние на… демократию! – С коротким смешком он поскреб острой палочкой слоновой кости патину большой, вроде как серебряной, монеты. – Уж я-то знал, какого римского императора себе выбрал: вот этого, имевшего наглость запретить нам, евреям, носить бороду, какую носил сам, хотел вынудить нас нарушить закон! Его, Адриана[14]14
Адриан Публий Элий (76-138) – римский император с 117 г. из династии Антонинов; в Иудее подавил антиримское восстание Бар-Кохбы (132–135).
[Закрыть], тебя! – Он плюнул на монету, стер плевок тряпочкой. – Александрия, тринадцатый год правления, за два года до восстания, да-да. Хотел бы я знать, почему он велел отчеканить эту драхму, с двумя руками на реверсе, с надписью «patèr patrídos», отец отечества. Да-да, старина, хорошо же ты выглядишь со своим носищем, бородой и решительными глазами. Твои солдаты нас перебили, но проку тебе от этого не было, тебя нет, а мы здесь и ведем давнюю борьбу, как и в твое время, когда ты воздвигал над Египтом божественную красоту отрока Антиноя[15]15
Антиной (?—130) – древнегреческий юноша, любимец императора Адриана, обожествленный после смерти.
[Закрыть].
Он подпер голову рукой, перебирая пальцами редкую рыжеватую бороду, в которой уже виднелась седина, глубоко вздохнул и неожиданно улыбнулся.
У входной двери позвонили; де Вриндт вздрогнул, нахмурился, прошаркал к двери. И тотчас обрадовался, поспешно провел англичанина в комнаты и обещал сразу же сварить кофе. Оба они достаточно долго прожили на Востоке и знали, что отказываться от чашечки кофе ни в коем случае нельзя; вдобавок сдобренная сахаром кипящая вода уничтожает куда больше содержащихся в зернах вредных веществ, чем при европейском способе приготовления кофе. Л. Б. Эрмин попросил разрешения снять пиджак и, сняв его, расположился на диване, прислонясь к прохладной стене и наблюдая, как де Вриндт снует туда-сюда, заваривая в медной турке давно смолотый кофе, а затем подает его на стол. Цицит[16]16
Цицит – традиционные кисточки-нити на одежде евреев как постоянное напоминание о верности Закону.
[Закрыть] на рубашке – своего рода бестолковый защитный нагрудник, каждый раз думал Эрмин, вспоминая войну, – эти длинные белые шелковые нити, разлетаясь, повторяли каждое движение хозяина, когда он поставил перед гостем латунный поднос с двумя чашечками и шкатулку, в которой лежали черно-коричневые индийские сигары, крепкие черуты.
– С вашего разрешения, я предпочту свою трубку, – сказал Эрмин, – черутам я не доверяю.
Голландец усмехнулся:
– Они крепкие, но и весьма хорошие, ваши черуты. Город Иерусалим и без того весьма изнашивает сердце, так что чуть больше или чуть меньше уже не имеет значения; коронарные сосуды, говорит доктор Глускинос, и сами сердечные сосуды. Если выкуриваешь их до конца, в груди возникает легкое неприятное давление, но вечно жить незачем, верно?
Эрмин внимательно смотрел на мужчину с водянистыми глазами и слегка отвисшей нижней губой. Вот здесь и надо зацепиться: за город на недельку-другую… он даже знал куда. И причину называть незачем.
– Доктор Глускинос вами доволен, де Вриндт?
Голландский еврей, сидящий напротив, громко рассмеялся, оскалив желтые зубы, будто услышал отличный анекдот.
– А вами врачи хоть раз бывали довольны? – ответил он вопросом на вопрос. – Нет, дорогой мой, если верить доброму Глускиносу, я веду нездоровую жизнь; по его словам, я плохо сплю, во-первых, потому, что эта вот мыслительная машина, – он хлопнул себя по лбу, – попросту не желает делать перерывы в работе, и потому, что я действительно слишком много сижу, неправильно питаюсь, слишком много курю и вообще мало себя берегу. Мне, мол, надо избегать волнений, – он опять коротко и резко хохотнул, – в наше-то время, в нашей стране и в обстоятельствах, против которых мы не можем не бороться… мы, маленькая кучка людей, вынужденных защищать учение и заповеданный нам образ жизни от всего, что вообще существует в этом мире. С тем же успехом Глускинос мог бы запретить волноваться капитану Линдбергу[17]17
Линдберг Чарльз (1902–1974) – американский летчик, совершивший в 1927 г. беспосадочный перелет через Атлантику (из США во Францию).
[Закрыть], когда тот на своем моторе, на своем хрупком аэроплане летел над волнами Атлантики, на полпути меж Америкой и Европой, один-одинешенек. Что ж, и это пройдет. Прошу вас извинить меня на минутку, взгляните пока на монеты, которые мне предложил плут Шапира; настал час послеобеденной молитвы.
Он вышел в ту из двух других комнат, что смотрела окнами на юго-восток, где за Дамасскими воротами, за множеством башен и крыш, словно серые светила, виднелись в дымке круглый Купол Скалы и второй, поменьше, – Аль-Акса.
Л. Б. Эрмин знал обычаи ортодоксальных евреев, как знал и обычаи арабов или эфиопских христиан; для него это были правила великой игры, в которую народы и религии играли с Богом, и они правильно делали, не позволяя себе мешать, так как опасались гнева незримого партнера. Во всяком случае – он во весь рост вытянулся на диване, застланном бухарской тканью, черно-сине-белой, с красивым причудливым узором, – чертовски трудно говорить с человеком о его личных делах, так трудно, как он и предполагал с самого начала.
Наконец-то подул прохладный ветер; можно подняться на крышу и, пользуясь случаем, отправить друга из Иерусалима. Де Вриндт был и европеец, и человек Востока, человек смелой мысли и логичных действий, очень одинокий, без союзников, действующий согласно своим убеждениям, не страшащийся вызвать ненависть. Во времена, когда популярность ценилась выше глотка воды или купания, это мужество инакомыслия было примечательно. Правда, тогда ни под каким видом нельзя обнаруживать слабости; противники, которых ты довел до белого каления тем, что не находил их достойными внимания, – такие противники неумолимо наносили удар. Ведь в нынешние времена всемирного оглупления люди вообще видели лишь партийные цвета и очень удивлялись, что под черной либо красной рубашкой или под полосатым бело-черным молитвенным покрывалом текла живая кровь, которая порой изливалась фонтаном. Де Вриндту только и недоставало навлечь на себя гордыню оскорбленной чести семьи!
Де Вриндт вернулся, потирая руки.
– Воздух пришел в движение, Эрмин, можно устроить сквозняк. Нет, на крышу мы пока не пойдем, солнце так палит, что мигом нас погубит. Я частенько спрашивал себя, не стоит ли нам по примеру бедуинов носить толстые черные шерстяные рубахи. По их словам, так тело сохраняет прохладу. Но я не могу себя заставить.
Эрмин встал и помог поставить кресла напротив распахнутых дверей и закрепить створки окон; теперь, когда они открыли и молитвенное окно, как Эрмин называл его про себя, ветерок продувал все три комнаты. Всякий раз англичанина завораживал вид из этого высокого, похожего на башню помещения: Дамасские ворота с их выступающими справа и слева укреплениями и красивыми зубцами, длинная высокая стена, опоясывающая Старый город и тянущаяся вправо и влево, как во времена тамплиеров и султана Салах-ад-Дина; расположившиеся в тени стен верблюды, мимо которых быстро и дерзко мчались автомобили, непрерывно гудя клаксонами. Дымка над огромным городом, множество четырехгранных башен, высокие церковные купола в этом углу, размытая красота Купола Скалы и Аль-Аксы – да, человека, однажды застрявшего в Иерусалиме, трудно отсюда вывести.
– Только посмотрите – какой чудесный вид! Разве он не восхищает вас каждый день по-новому?
Эрмин, осторожно подбирая слова, согласился с радостным возгласом писателя. Да, насколько он может судить, с этой панорамой Иерусалима мало что сравнится.
– В самом деле, – сказал де Вриндт, – в Иерусалиме много красот, много достойного почтения, даже величественного. Однако дом Аллаха на вершине горы Мориа – едва ли не самое величественное, разумеется за исключением трех вещей: для вас, христиан, это церковь Гроба Господня, для нас, евреев, – Западная стена, а для солдат – памятная плита Десятого легиона под входными сводами одного из домов у Яффских ворот, установленная после резни семидесятого года.
Эрмин рассмеялся, потому что при этих словах де Вриндт слегка подтолкнул его локтем в бок.
– Гора Мориа, – задумчиво проговорил он, – она и вправду существует. Каждый день забываешь об этом и узнаешь вновь. Значит, там ваш отец, де Вриндт, едва не принес вас в жертву, прежде чем заколол вместо вас другого агнца?
– Он был суровым критиком, – серьезно возразил де Вриндт.
Подобные намеки свидетельствуют об уровне доверительности. Однажды поздним вечером, за бутылочкой крепкого ришонского вина, де Вриндт открыл ему толику своих фантазий: что нередко он чувствует себя так, будто ему несколько тысяч лет и что в начале своих воплощений он был Ицхаком (или Исааком), сыном патриарха Авраама, отмеченным страшной печатью судьбы и обреченным смерти от ножа. Иногда Эрмин намекал на это, сегодня – с умыслом.
– Люблю арабов… возможно, потому лишь, что они воздвигли над городом этот дом Божий. Хотя нет, – поправил он себя, – я люблю их как людей. Они такие простые – цельные в симпатии, цельные в отвращении. Их смех прекрасен, и их однозвучные песни, и смиренность, и печаль, и безрассудство – всё. Помните, как погиб патер Франциск Шмид, великий археолог, раскопавший Кфар-Нахум, или Капернаум, как его называют христиане? Лунной ночью он ехал из своего монастыря у Генисаретского озера в Иерусалим. Араб-шофер пел от блаженства, хлопал в ладоши, выпуская из рук руль, а патер спал на заднем сиденье. И неподалеку от Иерусалима случилось неизбежное: машина не вписалась в поворот и угодила в канаву, врезалась в склон, перевернулась – двое погибших. Но Абдиль, или Мустафа, или как его там звали, – его песня еще смеялась в ушах Азраила, ангела смерти, который караулит у дорог и, точно смоквы, срывает созревших живых.
Ха, подумал Эрмин, подействовало!
– Разумеется, не стоит говорить человеку, что выглядит он не лучшим образом, – начал он, снова в гостиной, руки в карманы, усевшись верхом на спинку дивана, – но, между нами, взрослыми, говоря, по-моему, доктор Глускинос прав. Вам действительно не мешало бы провести ближайшие недели в горах. Где-нибудь подальше на севере, де Вриндт, в Сирии, или в окрестностях Бейрута, где возле гор Ливана одна деревня краше другой, или хотя бы в Цфате, который ваши люди намерены превратить в климатический курорт. Здесь упомянутый Азраил может вскоре проверить степень вашей зрелости.
Де Вриндт с удивлением смотрел в открытое, загорелое лицо гостя.
– С каких пор вы вздумали убрать меня из Иерусалима? Возможно, отдых был бы приятным, хотя я лишен способности загорать так, как вы, у меня только прибавляется веснушек на лице и даже на руках. – Он с улыбкой взглянул на свои маленькие руки, испещренные желтыми пятнышками. – В горы? Недурно. Вероятно, я бы любовался водопадом, ходил на прогулки и понемножку работал. Стоило бы, пожалуй, наконец-то принять вызов и изложить по-голландски, что происходит здесь ныне или происходило в прошлом. Литература в Европе выглядит сейчас интереснее, чем перед войной, большие темы и менее дилетантские эксперименты над формой. Они там убирают развалины, под которыми похоронили войну, чтобы не вспоминать о ней все время. Неплохая затея – раскрыть все оставленные войной пробоины нашей цивилизации, борьбу меж желаемым и существующим, пропасть меж фасадом и реальностью, там, здесь, повсюду. Что вы скажете по поводу усиления юдофобства в Центральной Европе? Собственно говоря, лихая штука, верно? Потрясающий комплимент евреям. А Советская Россия? Их пятилетний план, большой, разумный и такой же хрупкий, как все, что не учитывает неожиданных поворотов жизни?
– Так я и знал, что тамошнее юдофобство однажды бросится вам в голову. В Европе вправду оказывают вам слишком много чести, демонизируют вас, выставляют этаким драконом, болотным Гренделем, о котором повествует «Песнь о Беовульфе».
Де Вриндт довольно покачал головой:
– Не так уж плохо, мистер Т. П. Вы не смеете признаться себе, что с четырнадцатого года ваша каста господ шаг за шагом вела вас не туда, и быстро попадаетесь на уловку, которая вместо ваших принцев, фабрикантов и банкиров подсовывает евреев, не говоря уж о политиках. Этот прием опробовали еще в девятьсот шестом, после Русско-японской войны. Ничего не изменилось.
– А как вы объясните, что на эту удочку попадаются такие просвещенные народы, как немцы? И почему означенные хитрецы используют для отвлечения именно вас? И почему эта игра действует и добралась даже сюда? Ведь у нас на руках доказательства, что арабские националисты работают с переводом нелепых «Протоколов сионских мудрецов»[18]18
«Протоколы сионских мудрецов» – сфальсифицированный сборник текстов о вымышленном всемирном заговоре евреев (на русском языке впервые опубликован в 1903 г.).
[Закрыть] так, будто они берут начало не в восьмидесятых годах. Семитский антисемитизм, как вы его объясните?
– Сударь мой, – ответил де Вриндт, – с тех пор как я вник в существо вопроса, сей парадокс мне безразличнее отцветшего мака. С чем бы эти люди ни работали – они всего лишь маленькая группировка и когда-нибудь получат свой урок. При всей ее ловкости она не смогла бы затеять вообще ничего такого, если бы в каждом носителе мундира не дремала глубинная ненависть к нам – почему? Потому что со времен Бар-Кохбы мы защищаемся лишь призывом к Господу и правам человека. А это попросту упраздняет всю сферу носителей мундиров, так? Нет их, нет, и все. Помните двадцать четвертое сентября минувшего года?
Эрмин болезненно скривился:
– Вы же знаете, я вернулся из отпуска только в октябре; иначе этого бы не произошло или, по крайней мере, произошло, но не так.
Для верующих евреев День Искупления – вершина года, мгновение, когда земля и человек ближе всего к престолу Господню. И День Искупления у Западной стены давнего Храма, у так называемой Стены Плача, как никогда возвышает молящихся к милости Предвечного.
В День Искупления минувшего года, в разгар торжественной службы утренней молитвы, у Стены Плача появился офицер британской полиции с арабскими полицейскими. На основании распоряжения, опубликованного накануне и основанного на законных жалобах мусульманского духовенства, он нарушил экстатический и безутешный молитвенный настрой и приказал убрать стол и бумажную ширму, отделявшую женские места от мужских, то есть конструктивные изменения, не дозволенные евреям на собственности арабского духовенства, а именно Храмовой площади и Стене. Это был самый испорченный День Искупления в Иерусалиме за много веков, возмущение никак не унималось, исправить ошибку уже невозможно.
Хотя де Вриндт и Эрмин неоднократно говорили об этом, англичанин каждый раз краснел от злости и стыда.
– Я задал этим идиотам серьезную головомойку, – сказал он. – Робинсон – бюрократ, а Машрум – простофиля.
– Да нет, хуже: он боец. И понимает, что на удар отвечают контрударом. Вот почему он уважает того, кто дает сдачи. А того, кто не дает, презирает. С презираемыми можно спокойно обходиться как с бескастовыми париями.
– Ему… то есть нам… неловко не защищаться.
– Но тот, кто защищается, а раньше этого не делал, опускается вниз и наносит вред человечеству. Развитие человечества совершенно определенно идет прочь от насилия, в сторону права. Приятно, конечно, крепко подраться, но авангард человеческого развития – благочестивые люди всех религиозных течений и вероисповеданий, белые, смуглые или желтые – должен отказаться от этого удовольствия, понимаете?
Ицхак-Йосеф де Вриндт снова раскурил черноватую сигару и прошелся по комнате, объясняя другу, что еще думает по этому поводу. Цицит развевались, время от времени он крепче прижимал к рыжеватому темени желто-черную кипу; за гранью смутной печали глаз он все больше превращался в исследователя, который анализирует духовные факты, взвешивает, дает им названия. В конечном счете весь мировой антисемитизм проистекал из одного-единственного маленького книжного свитка, составленного лет через шестьдесят после событий, о которых лишь он один и сообщал, – из священного текста, что именовался «Прото-Марк» и представлял собой один из источников Евангелий христианского вероучения. Речь там шла о позоре казни назареянина – позоре, который, по мере того как новая вера все больше завоевывала правящие слои империи, ни в коем случае не мог оставаться на греках и римлянах; необходимо было свалить его на евреев. Чем шире распространялось христианство, тем острее становилась антитеза меж евреями и этой новой религией, хотя поначалу она ощущала себя дочерью иудаизма, и такой процесс повторился позднее минимум дважды, а именно когда Мухаммед и Лютер отпочковали свои новые вероучения. Пока надеялись перетянуть евреев на свою сторону, а вместе с ними весомость всех их пророчеств и упований на будущее, восторженную силу мессианства, – они ссылались на иудейскую картину мира и слова Божии… хвала Ему. Когда же им пришлось в конце концов похоронить эту надежду, они сложили на ее могиле костер для правоверного еврея.
– Я полагаю, так происходило часто, не только эти три раза; наверняка так же было и в Испании, когда создавалась инквизиция; в общем, этот исторический процесс прекрасно подкреплен доказательствами и неудивителен.
– Вы ведь знаете, что Торквемада[19]19
Торквемада Томас де (1420–1498) – испанский инквизитор; инициатор преследований мусульман и евреев (в 1492 г. евреи были изгнаны из Испании).
[Закрыть], как ранее Павел, был выкрестом, одним из ваших собственных рядов?
– Будь проклято его имя, – отвечал де Вриндт, – будь его прах развеян по ветру, а семя его искоренено. Он вынудил моих предков покинуть страну, где они сослужили добрую службу, хорошо жили, сочиняли прекрасные стихи. Да, без наших отступников еретики сделали бы против нас еще меньше. Достаточно посмотреть на новых русских и на крещеного сына богобоязненных раввинов, что родился в Трире, где чтут Святой Хитон, и зовется Карл Маркс.







