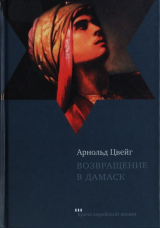
Текст книги "Возвращение в Дамаск"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Эрмин как бы невзначай поинтересовался, где ему найти больного, который сообщил доктору об убийце де Вриндта.
– Врачебная тайна, – ответил врач, искоса посмотрев на него.
Эрмин сокрушенно проговорил:
– К сожалению, в данный момент полиция не примет в соображение вашу врачебную тайну, доктор.
Доктор Филипсталь не ответил.
Эрмин был слишком умен, чтобы настаивать. Но и не досадовал, просто решил сдать врача под арест ближайшему уличному полицейскому.
Внимания госпожи Филипсталь сей инцидент не привлек. Она с сожалением говорила о национализме студентов по всему миру, полагая, что национализм оправдан ровно в той мере, в какой позволяет определенной группе людей обеспечить себе основные права на участке земной поверхности, который более-менее соответствует их натуре, – собственный язык, самоуправление, творческое раскрытие национальных способностей.
На повороте к немецкой колонии ожидало такси. Доктор Филипсталь взял его, потому что путь вверх по Кармелю был долог. Куда он может подвезти мистера Эрмина?
Мистер Эрмин энергично заявил: он первый надумал взять такси и будет иметь удовольствие отвезти супругов домой, а затем поедет дальше.
В присутствии дамы спорить о счете за такси неловко. Доктор Филипсталь назвал свой адрес; Эрмин сел рядом с шофером.
Машина быстро катила по извилистой дороге среди светлой, душной ночи. Хайфский залив разогревал атмосферу; в окружении гор воздух плохо смешивался с прохладой внутренних районов страны. Лишь наверху древней горы резко посвежело – подул ветер.
– Хорошо здесь, – вздохнул Эрмин, когда машина остановилась, а молодая женщина, поблагодарив, попрощалась и поспешила в дом, к ребенку. – Жаль, что нам опять придется спускаться.
– Нам? – спросил врач.
– Вы задолжали мне ответ.
Доктор Филипсталь приподнял тонкие брови: он так и знал.
– Я сразу понял, что вы не отстанете.
– Профессия, – кивнул Эрмин, – так что не сердитесь. У вас, врачей, и у нас много общего.
– Почему вы не хотите оставить покойника в покое? – как бы рассеянно спросил доктор Филипсталь.
– Это медицинская точка зрения, – возразил Эрмин. – Нас и юристов занимает еще маленький эпилог под названием «правосудие». Я не могу оживить беднягу де Вриндта, но человека, который так быстро с ним расправился, я бы хотел увидеть на виселице. И ваш пациент назовет мне его. Только три вопроса, и лучше всего прямо сейчас.
– Среди ночи? – насмешливо спросил доктор Филипсталь.
– Сам удивляюсь. – Эрмин и вправду сам себе удивился. Его охватил охотничий азарт – неожиданно, наперекор ощущению последних дней. Здесь открывался путь, и подобно тому как человек умеренный порой вдруг испытывает приступ ненасытного голода, он сейчас едва сдерживал нетерпение, так ему хотелось узнать все что только можно.
– Вы серьезно так торопитесь? – спросил доктор Филипсталь. И когда Эрмин почти со стыдом сказал «да», добавил: —Тогда ничего не поделаешь. Едем. Я только быстро предупрежу жену.
Больница рабочего кооператива сделала бы честь любому немецкому городу средней величины. Ночная сестра удивленно подняла голову: доктор Филипсталь дежурил днем. Несколько поясняющих слов, и он повел Эрмина по коридору. В большие палаты, где горел приглушенный свет, они не заходили. В конце одного из коридоров доктор Филипсталь открыл дверь и повернулся к Эрмину:
– Опросите этого человека, если сможете.
При свете лампады, маленького масляного светильника, на каталке длинный и худой лежал тот, кто еще недавно был меланхоличным халуцником Шломо Виндшлагом. Лицо с горбатым носом, впалыми щеками, глазами навыкате уже являло взгляду фанатичную строгость посмертной маски, на подбородке виднелась щетина.
– Н-да, – пробормотал Эрмин, – придется опросить. – Он подошел к изголовью, достал карманный фонарь, осветил табличку: Шломо Виндшлаг, Оломоуц, ЧСР, и даты поступления и смерти.
– Дизентерия, – сказал врач, – пришел в больницу слишком поздно, заразу подхватил, вероятно, еще на пароходе. Съел много немытых фруктов или пил сырую воду. Парни геройствуют, пока не погибнут.
– Перед смертью он вам исповедался? – спросил Эрмин, записывая даты.
– В бреду он предупреждал то де Вриндта, то… других людей. Должно быть, случайно услыхал про заговор.
– Вы знаете его друзей? – спросил Эрмин.
– Его доставил сюда невысокий чернявый парень, но он сейчас в Иерусалиме.
– Точно, в Иерусалиме. Наверняка, – ответил Эрмин. – Спасибо, больше мне и не требуется. Я же знал, больной не смолчит. Спасибо, доктор, сейчас отвезу вас домой. – Обернувшись к носилкам, он легонько погладил сложенные руки покойного, большие, исхудалые, в которых не было ни распятия, ни книги, они сжимали одна другую. Второй мертвый еврей в этой ужасной истории. Завтра списки иммиграционного ведомства, карантинного лагеря и пароходства укажут ему людей, которые наверняка знали друзей покойного.
Глава пятая
Смерть старика
Когда Мендель Гласс уловил взгляд и тон Эрмина и на ходу заметил, как англичанин посмотрел ему вслед, он до смерти перепугался – впервые за долгие годы. Напился воды, но пересохшее нёбо словно и не увлажнилось. Этот англичанин не иначе как лицо официальное. Некоторые презрительно утверждали, будто он из тайной полиции. Так говорил Левинсон, поздравив их с компанией этого шпиона и врага независимых рабочих. Если этот человек вправду полицейский, то он, Мендель Гласс, должен или незамедлительно исчезнуть, или ждать ареста. Он сел на одну из четырехугольных бензиновых канистр, в которых принесли воду и которые в Палестине используют везде и всюду, от строительства домов до приготовления еды. Благоразумие! Облокотясь на колени, он обхватил голову руками и старался успокоить дыхание. Хоть бы ветер разогнал жарищу! На вершине Кармеля он бы наверняка так страшно не перепугался.
Он сделал доброе дело, устранил изменника и вовсе не намерен отдавать себя на расправу людям, для которых живой изменник был источником политических преимуществ. До сих пор подозрений против него не существовало. Блох в Иерусалиме, ликвидирует оружие; бедный Шломо Виндшлаг умолк навсегда. И все-таки лучше бежать. В стране достаточно уединенных мест, где есть работа, требуется лишь небольшая протекция. Никто его не выдаст. Сейчас каждый молодой человек принадлежит к какой-нибудь боевой группировке; одни носят черные рубашки, другие – красные, третьи – коричневые; волею случая, он носит синюю и ни к какой организации не приписан, но вполне может рассчитывать на понимание. Его группировка незрима, однако не менее реальна, чем другие. После войны, когда свыше тысячи четырехсот дней шло безостановочное убийство и невообразимые суммы денег тратились на истребление десяти миллионов людей, не говоря уже о начавшейся затем гражданской войне на Востоке, – поднимать после всего этого шум из-за исчезновения одного или нескольких негодяев не что иное, как буржуазное лицемерие. Нет, он без зазрения совести может более-менее довериться взрослому, зрелому человеку, скажем чернобородому инженеру. Не полностью, конечно, – он достал из пачки надломленную сигарету, закурил, – не полностью. Услышав признание в убийстве, вероятно, здравомыслящие люди и те чувствуют протест и неловкость. Догадки же остаются догадками. Во всяком случае, тут он встал: что бы ни произошло, признания у него никто не вырвет, пусть даже ему придется откусить себе язык.
Кто это бежит – не врач ли, который пытался спасти беднягу Виндшлага? Доктор Филипсталь приблизился, лицо красное, весь в поту, глаза скрыты за темными очками.
Эли Заамен махнул рукой ему навстречу:
– Корабли, доктор! Их видно уже невооруженным глазом!
Филипсталь большими глотками осушил стакан воды, слегка отдающей бензином, отставил его.
– Весточка из Дганьи. Позвонили в больницу. Вы сейчас можете отлучиться?
Эли Заамен состроил озадаченную мину.
– Если высадятся английские войска… А в чем дело?
– Нахман… – коротко сказал врач.
– Нахман? – воскликнул Эли Заамен.
Мужчины, находившиеся неподалеку, прислушались, подбежали, в том числе и Мендель Гласс, снова румяный, как обычно.
Фамилия Нахман в стране не редкость; но когда говорили просто «Нахман», то речь шла – ошибиться невозможно! – о старом сельскохозяйственном рабочем и философе, чья духовная аура питала религиозной силой строительство всей страны.
Доктор Филипсталь рассказал следующее. В больницу позвонили летчики из Цемаха. К ним добрался человек из Дганьи, просил врача для Н. Нахмана. На базе врача нет, но им удалось связаться с Хайфой. К сожалению, они не сумели толком объясниться с курьером, он кое-как сообщил по-английски о кровопотере, а жестами объяснил, что прострелено легкое. Филипсталь, самый молодой из врачей, вызвался поехать; в больнице «Хадасса» им дали машину с красным крестом. Тем не менее из-за деревенских стрелков поездка была небезопасной. На случай переливания крови доктор хотел взять с собой сильного, крепкого мужчину – чем больше выбор, тем скорее найдется подходящая для пациента группа крови. Отъезд через полчаса, от больницы. Барсина к тому времени пришлет пропуск.
Эли Заамен не раздумывая сказал:
– Я еду с вами. – И добавил, скользнув взглядом по собравшимся: – Менаше останется за старшего. А мой краснощекий адъютант наверняка без ущерба для себя расстанется с пол-литром крови.
– Для Н. Нахмана хоть с литром, – сказал Мендель Гласс, – я бы вызвался добровольцем, если б вы меня не выбрали.
Эрмин пригладил усы, поправил тропический шлем и дружелюбно обратился к Филипсталю:
– Сегодня я могу компенсировать вам некую ночную поездку, если, конечно, вы возьмете меня с собой. Буду представлять мандатарий, что по дороге может оказаться полезно. Наши полицейские легко могут принять кислородный баллон за бомбу.
– Договорились, – согласился доктор Филипсталь. – Если вы желаете взять кое-какие вещи…
– Ах, – улыбнулся Эрмин, – что нужно кавалеристу в военное время! Заскочим ко мне на квартиру, через десять минут я буду готов.
Мендель Гласс почувствовал, как невольно сжалось сердце, словно незримая рука схватила его за левое плечо. Усатый англичанин – сущий дьявол, вежливый, но тем хуже! Ладно, он принимает бой. В Хайфу определенно не вернется. Дганья расположена на Иордане – если он правильно помнит карту, на Генисаретском озере. На другом берегу – Трансиордания. Пора спешить в барак, собрать рюкзак, взять у десятника Левинсона справку, забрать паспорт. Инженер ему наверняка поможет. Кто, в сущности, этот англичанин? Глупый гой. С ним вполне можно справиться.
Весть о прибытии английских кораблей разносилась из уст в уста. Повсюду в городе радостные лица. Боев не будет, беда миновала. Машине с женевским флагом все желали доброго пути.
По арабскому кварталу ехали медленно. Многие арабы знали доктора Филипсталя, он помогал им, их женам или детям. До нынешних трагических дней они всегда благодарно с ним здоровались, позднее снова будут здороваться. Теперь же молча отворачивались. Шоссе через просторную равнину меж Кармелем и Кишоном позволило прибавить скорость. На перекрестках к ним подъезжали конные полицейские, холодные глаза осматривали автомобиль. Красивые кони словно бы насмешливо пританцовывали на стройных ногах. Дальше в глубь страны полицейские даже остановили машину, потребовали документы, расспрашивали. Эрмин им не препятствовал, наблюдал, как они исполняют службу. Они спросили, нет ли у шофера и Менделя Гласса оружия, проверили карманы на дверцах, собрались прощупать обивку. Это бы заняло много времени, и Эрмин вмешался. Полицейский-англичанин козырнул, отозвал своего арабского коллегу, машина продолжила путь. Шофер – уголки рта у него весело подрагивали – показал Менделю Глассу рукоять маузера во внутреннем кармане кожаной куртки, при этом он, держась за баранку одной только левой рукой, на скорости девяносто километров в час ехал в гору. Немногим позже на том же участке дороги произошло злодейское нападение на автомобиль с актерами и гостями праздника, несколько человек были убиты и ранены; но сейчас не прозвучало ни единого выстрела. Езда среди унылого пыльного зноя – тяжкое испытание. На минутку они остановились в Наѓалале попить кислого молока, узнали, что деревня и девичья ферма целы-невредимы, помахали на прощание. Направились в Тверию самой короткой дорогой, хотя очень хотели узнать, как обстоит с поселениями в Эмеке – Бальфурии, детской деревне, Кфар-Йеладим, Кфар-Йехезкеле, Эйн-Хароде, Тель-Йосефе; путь через еврейские земли был бы надежнее, но доктор Филипсталь спешил. Он единственный во время трехчасовой поездки сидел как на иголках, молчал – не от страха… Назарет с его церквами и священными источниками спал, точно вымерший, в полуденной жаре; дорога поднималась в гору, к Седжере, где пересекала еврейские земли; справа на равнине лежала Кана. Здесь бы должна витать атмосфера Нового Завета, однако Эрмин ничего такого не чувствовал. Он давным-давно знал, как мало душевные переживания подкрепляли миф об Иисусе, галилеянине, если кто-то искал его в этом ландшафте, – ландшафт, скорее, был помехой; все эти старательно сооруженные мемориалы слишком отчетливо являли свою запоздалую нарочитость. Гора Тавор в ее голом изяществе сохранила куда больше древности. Потом слева засверкало озеро; жгучее желание искупаться пришлось подавить. Было это под Мицпой. Уже недалеко Тверия, чьи стены, плоские крыши, купола и пальмы, казалось, окунались в озеро и не желали приближаться, хотя машина набирала скорость. В Тверии они чуть не задавили собаку, которая даже не подумала прервать свой пыльный сон. Вот справа остались знаменитые целебные источники; вплотную к густо запорошенным пылью прибрежным деревьям они промчались в сторону Дганьи, при сорока пяти градусах в тени. На крутом спуске молодому Менделю Глассу едва не стало дурно, сердце моталось в груди словно маятник. Да и остальные, изжелта-бледные, откинулись на спинки пыльных кожаных сидений. Все облегченно вздохнули, когда автомобиль свернул под сень серо-зеленых казуарин, эвкалиптов, высоких кипарисов Дганьи и остановился.
Встретили их две-три женщины и крупный мужчина с рукой на перевязи. Хозяйство не терпело безделья, нужно поливать цитрусовые деревья, доить коров, ухаживать за лошадьми, заботиться о детях. Кислородный баллон занесли в дом, как и докторский саквояж с инструментами.
Вчера вечером в густеющих сумерках старик спустился во двор, чтобы отвязать собак; видимо, его задела шальная пуля, выпущенная откуда-то издалека, прошла меж ребрами, самого выстрела никто не слышал. Нахман зажал рану, попытался дойти до дома, но у порога упал и лежал совсем тихо. Вероятно, его слабый голос никто не услышал. Лишь через некоторое время его нашли в луже крови.
Сейчас он находился в своей каморке – их здесь было много, крохотные кельи на одного или спальни на несколько человек. Дверь открыта; у постели раненого сидела детская сестра, которая и наложила ему повязку. Бородатый старик полулежал, опершись головой на подушки, глаза закрыты.
Доктор Филипсталь видел много умирающих; глядя на эти черты, он еще до осмотра стал опасаться худшего. Мужчины остались у дверей, он вошел, осторожно взялся за запястье, начал считать пульс, едва ощутимый.
– Слишком большая кровопотеря, – прошептала сестра, испытующе глядя на врача большими карими глазами.
Доктор Филипсталь озабоченно покачал головой. Потом приложил пальцы к губам: пусть старик поспит. В самом деле, он спал. Волосатая тощая грудь чуть заметно поднималась и опускалась под расстегнутой рубашкой. Они на цыпочках удалились, подождут рядом, когда раненый проснется. На случай перевязки и осмотра раны доктор Филипсталь выложил на марлю привезенные инструменты. Мы могли бы остаться дома, думал он. Будь он помоложе, можно бы кое-что предпринять, но в семьдесят два надежды мало.
Мухи или москиты упорно жужжали возле окон, затянутых марлей, которая не давала им проникнуть внутрь. Очень чисто, тихо. Мужчины, усталые от иссушающего зноя, дремали за столом, подложив локти под голову. Маленький Мендель Гласс заснул сидя. Когда можно будет умыться и перекусить?
Уже под вечер сестра знаком известила: раненый проснулся. Он узнал доктора Филипсталя; глаза плутовато смотрели из темных глазниц, словно глаза мудрого старого зверя. Инженеру Заамену он кивнул, с Эрмином поздоровался, несколько раз моргнув, приветливо присмотрелся к Менделю Глассу, который скромно стоял на пороге. Говорил старик тихо, медленно, довольно отчетливо, но дышал при этом очень осторожно. Зачем ради него вызвали сюда людей?
– Все хорошо, – сказал он, – мое время истекло, зачем столько суеты?
Менять повязку он отказался. Она хорошо приклеилась меж ребер и вполне сойдет до конца. Широкоплечий рабочий с правой рукой на перевязи тоже вошел, сел в изножии кровати.
Нахман спросил, все ли в порядке. Коровы, посадки – все в целости, овец пригнали с горных склонов без потерь, самое худшее, кажется, позади.
– Теперь остается только поднять тебя, Нахум, – попытался пошутить рабочий. Старик хихикнул, это прозвучало как тонкий, резкий свист.
– Меня, – сказал он, – меня вы опустите в яму, наверху, на склоне, в камнях. Не тратьте на меня плодородную землю, слышите? – Он замолчал. – Я любил этот край. И жил с удовольствием, хорошую жизнь прожил.
Все знали, этот чахоточный человек шесть с лишним десятков лет трудился на земле, сперва в Галиции, потом здесь. Добрых двадцать, а то и тридцать лет его спутницей была малярия, вкус хинина неистребим во рту.
– Чего мне еще желать? – сказал он немного погодя. – Я скоро умру, среди друзей, без боли. – С упрямством старого крестьянина он отверг все предложения врача: пусть его оставят в покое. – Испытывайте ваше искусство на молодых, – прошептал он с вымученной улыбкой. И, указывая на Менделя Гласса, спросил, что здесь нужно этому новому мальчику.
Доктор Филипсталь объяснил, что мальчик приехал поделиться с ним своей кровью.
Нахман отрицательно качнул костлявой головой, седая борода лежала на рубашке.
– Мне твоя кровь без надобности, мальчик, – сказал он. – Вообще не надо больше проливать кровь. Не ищите, откуда прилетела пуля, не мстите, слышите? Через кары и месть мир пришел в упадок, в свое нынешнее состояние.
Доктор Филипсталь спросил, удалена ли пуля.
– Она сама ушла дальше, – прошептал старик, – она была посланницей земли, она исполнила свой долг.
Сиделка подтвердила: при перевязке пулю не обнаружили, вероятно, она действительно прошла навылет.
Мало-помалу многие мужчины и женщины кибуца собрались у двери и в комнате; прошел слух, что приехал врач и что Нахман умирает.
Старик открыл глаза. Он видел лица товарищей, с которыми на протяжении поколения делил каждый кусок хлеба, бесконечные трудности первых семи послевоенных лет, медленный расцвет поселения, где не было ни частной собственности, ни льгот и где он изо дня в день трудился как равный среди равных. Под конец проку от него считай что не было, сказал он, хлопот друзьям он доставлял много, а благодарности они от него видели маловато. Съедал больше, чем зарабатывал, но никто его не попрекал.
Кто-то всхлипнул.
Он удивленно поднял глаза: слезы, когда он наконец уходит на покой, после жизни, так хорошо прожитой до конца? Ему, как и всем, известно, что дальше не будет ничего, что их место – вот эта земля, их время – вот это время, что люди только сеют смуту, вечно жаждая и уповая на некий тот свет. Ему всегда нравился стих из Писания, где речь идет о семидесяти летах и о труде и болезни. Когда уходят молодые или люди в расцвете жизни – его взгляд скользнул от Менделя Гласса к Ленарду Эрмину и дальше, к друзьям, жмущимся у стены, затаившим дыхание, слушающим, заполняющим дверной проем, стоящим на цыпочках в коридоре, – тогда уместны испуг и печаль. Его же уход в порядке вещей.
Некоторое время он молчал с закрытыми глазами. Как же близко под дубленой морщинистой кожей кости скелета, как выпятился вдруг узкий горбатый нос, как резко проступили складки от носа к углам губ!
– Не ищите никого, – повторил он, – не мстите арабам.
Такая возможность, кажется, очень его тревожила. Он повторил эту фразу еще несколько раз; хмурый мужчина с рукой на перевязи успокоил его. Ведь пулю вполне мог выпустить еврей из отряда самообороны, один из собственных часовых, с той стороны долины, где расположены два других кибуца, а дальше еще несколько. Старик прямо-таки обрадовался.
– Вот и хорошо, – прошептал он, – вот и хорошо.
Нахман ощупью поискал руку мужчины, который смог протянуть ему только левую. Он сжал ее худыми, натруженными пальцами, сказал:
– Большое спасибо всем, – обвел взглядом собравшихся, откинул голову назад, закрыл глаза. Из горла вырвался тихий хрип, из уголка рта вытекла тоненькая струйка крови.
– Останьтесь с нами, завтра мы его похороним, – попросил «однорукий», к которому вроде как вполне естественно перешло руководство кибуцем. – Места для ночлега хватит всем.
Было бы замечательно, незабываемо на всю жизнь участвовать вместе с сельскохозяйственными рабочими Дганьи в похоронах Н. Нахмана.
Ночью, лежа под простыней на крыше, Мендель Гласс не мог заснуть. В нем что-то происходило, но что именно? Что общего между его деянием и смертью этого отжившего свое старика? Может, тихонько уйти прямо сейчас, сбежать от англичанина, который оказал ему честь неотступного сопровождения? Наверняка в такую жаркую ночь можно переплыть озеро – теплые воды он, без сомнения, одолеет за несколько часов. А на том берегу, в Трансиордании, сообразит, как быть дальше. Внизу они бодрствуют возле умершего. И все же под каким-нибудь предлогом он сумеет пройти мимо них. Странно, что все это он только думал, лежа без сна, устремив взгляд к ярким звездам, но ничего не предпринимал. Умирающий смотрел на него по-особенному, отказался от его крови. Лучше бы он принял ее, кровь за кровь, своего рода возмещение. Тогда можно бы и сбежать с чистой совестью. С каких пор он, собственно, оробел? Разве мало он знал седобородых евреев, знал и ненавидел, дома, в Проскурове? Странно все же, как этот Нахман не похож на его деда, городского раввина, на всех давних, закоснелых врагов, чахнувших над Талмудом. Хорошо прожить до конца такую жизнь. Вероятно, любая жизнь должна быть прожита до конца, ведь неестественно рубить полувыросшее дерево. Значит, ему не следовало трогать де Вриндта? Пусть бы жил дальше? И продолжал предавать? Или, может, само собой нашлось бы какое-нибудь решение, и в жизни де Вриндта тоже? И надо ли и ему, Менделю Глассу, просто жить дальше, ждать решения, не переплывать Генисаретское озеро, вернуться в Хайфу? Может быть, то, что замыслил англичанин, и есть надлежащее решение? Но от этой смерти веяло успокоением. Сдаваться он не станет, не сознается, но и не сбежит. Ведь бегство – он глубоко вздохнул – равнозначно полному признанию вины. О нет, мистер Эрмин, завтра вы увидите, как при погребении Нахума А. Нахмана я брошу в могилу три лопаты камешков.







