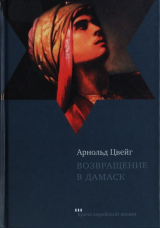
Текст книги "Возвращение в Дамаск"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Глава девятая
Мудрость старейшин
Внешне арабский дом редко позволяет судить, каков он изнутри, насколько просторен, как богато обставлен, – во всяком случае, в Палестине и в Сирии. Господа, которым принадлежат целые районы Иерусалима, неприметно живут среди старых садов, которые скорее угадываешь за стенами, нежели видишь. И шейхи, приобретающие драгоценные ковры, эти вожди кочевых скотоводческих племен, выглядят так, будто у них и пяти фунтов стерлингов не наберется, – сухопарые, в черных или коричневых абах, в белых рубахах, на голове куфия из искусственного шелка, как и у всех их людей, – но в конце концов они достают из карманов этой самой абы или из широкого пояса толстые пачки банкнот, разумеется оплачивая лишь достойный товар. Немногочисленные могущественные семейства владеют землей Палестины. Их арендаторы, вздыхая, терпят нужду. Их день, рабочий день феллаха и его семьи, продолжается четырнадцать-шестнадцать часов, и тем не менее каждые несколько лет правительство вынуждено прощать им недоимки по налогам. Эфенди же налогов не платят; как состояния, так и доходы в Палестине налогами не облагаются, только труд, импорт и экспорт, продажа на рынках.
Мальчик Сауд вообще-то не более любопытен, чем все мальчишки его возраста. Но сегодня он, словно тощий кот, крадется по сумрачным коридорам отчего дома, чтобы подслушать разговор мужчин. Сквозь складки ковров он чует крепкий табак наргиле, чьих звуков, правда, не слышит. А там, где не слышен напев наргиле, их мелодичный хрип, не разберешь и слов тех, кто их курит. Ему позволили разжечь курительные приборы; учтиво, с улыбкой он переходил от одного к другому, с плошкой древесных углей и маленькими щипцами в руках. Потом его отослали. У отца важные посетители: распорядитель пожертвований соборных мечетей, близкий друг верховного духовного судьи Иерусалима, самого муфтия; он покинул свой дом на Храмовой площади, чтобы навестить отца. Дядюшка Хусейн тоже здесь, а еще старый шейх из окрестностей Хеврона и еще более старый из окрестностей Луда. Кроме того, присутствует и его брат Мансур, который явно и наябедничал отцу насчет его друга. Но мальчик Сауд – когда одет в пятничную одежду, он зовется Сауд ибн Абдаллах эль-Джеллаби – пренебрежительно щелкает пальцами. Брат Мансур – глупец. Невдомек ему, что отцы любят младших сыновей больше, чем старших, и что отец предпочтет поверить невинным глазам младшего сына, нежели подлым наговорам первенца, вдобавок учителя. К счастью, отцы напрочь забыли свое детство, когда их мальчишечьим царством были улицы, укромные закоулки, узкие темные проходы, лабиринты дворов Эль-Кудс-эль-Шерифа, или Урсалима, как арабы называют Святой город, торжественно либо, наоборот, попросту. А что отцам можно представить лишь видимость правды, а не саму правду, то такова воля Аллаха – если послушать бабушкины рассказы о проказах тех, кто нынче ходит с бородой, черной или седой, и украшает собой Диван совета. Ведь родителей должно радовать, а в делах, которые по-настоящему занимают мальчишку, они все равно не разбираются. Стало быть, если отец спросит, он с детским удивлением признает, что ходит к Отцу Книг изучать минувшие времена, узнавать о великих деяниях калифов в заморских державах и расскажет ему про Идриси и Ибн-Баттуту[30]30
Идриси (1100–1165/66) – арабский географ; Ибн-Баттута (1304–1377) – арабский путешественник.
[Закрыть], которые объездили весь мир, добрались до далеких краев, где собак запрягают в сани и где теперь хозяйничают русские московиты. Дурак ты, Мансур! Учителю вообще надо быть поумнее, чтобы вывести на чистую воду мальчишку, особенно родного брата. Сауд снова щелкает пальцами и тихонько бежит в сад – ловить крупных, отливающих синевой ящериц, шныряющих вверх-вниз по стене. Сейчас утро, утро понедельника, уже очень жарко. Вторник – счастливый день евреев. Его друг, Отец Книг, завтра ждет его в своей квартире, и он, разумеется, придет к нему в условленный час.
Булькают наргиле. Чашечки с черным кофе опустели, стоят на низком круглом столике; молчаливые мужчины в небольших белых тюрбанах – все они уже совершили паломничество в Мекку, еще в ту пору, когда оно не было удобной поездкой на поезде, – сидят, поджав под себя ноги; обувь стоит перед ними на полу. Комната, с витражными окнами в сад и благородными коврами в витых узорах лучших персидских мастеров, показалась бы этим господам сумрачной, если бы они не сидели здесь уже несколько часов, вполголоса беседуя.
Правительство известило их о проекте, который готовят на четверг рабби Цадок Зелигман и профессор де Вриндт. Все собравшиеся знают хитросплетения политики на Ближнем Востоке. Они многое повидали. В молодости жили под кровавым султаном Абдул-Хамидом[31]31
Абдул-Хамид II (1842–1918) – турецкий султан.
[Закрыть], в зрелости – под мечом Джемаль-паши[32]32
Джемаль-паша Ахмед (1872–1922) – турецкий военный и политический деятель.
[Закрыть]; видели, как генерал Алленби[33]33
Алленби Эдмунд Генри Хинмен (1861–1936) – английский военный деятель, фельдмаршал.
[Закрыть] во главе весьма внушительных войск вступил в страну; вели переговоры с сэром Гербертом Сэмюэлом[34]34
Сэмюэл Герберт Луис (1870–1963) – английский государственный деятель.
[Закрыть], с лордом Плумером[35]35
Плумер Герберт Чарльз Онсло (1857–1932) – английский государственный деятель; Верховный комиссар Палестины в 1925–1928 гг.
[Закрыть], с нынешним вице-королем, или Верховным комиссаром; с лидером сионистов, умным, как змей, профессором Вейцманом, обменивались учтивыми приветствиями; понимали разногласия между сионистами, между группировками, борющимися за власть в этом движении, как понимали и разногласия между евреями разных направлений. Их унизанные перстнями руки держат рукав наргиле, тот или другой курит египетскую сигарету, лица у них в морщинах, иссушены солнцем, серые и темные глаза смотрят из-под бровей и ресниц сдержанно, осторожно, порой очень строго, порой непримиримо. За минувшие часы они говорили о многом, полуфразами и намеками; то, что волнует их сегодня по-настоящему, они вплели в беседу, сопровождая жестами, которые говорят едва ли не больше, чем слова.
Молодой учитель Мансур ибн Абдаллах все это время стоит, прислонясь к шелковому ковру, висящему на стене за спиной отца, скромно стоит по левую руку от него и вновь пылко восхищается своими соплеменниками, истинными хозяевами этой страны.
– Нас спросят, желаем ли мы появиться у Верховного комиссара одновременно с евреями. Если я правильно вас понял, мне нужно вежливо поблагодарить власти и отказаться. – Это сказал дядя Мансура, брат хозяина дома, один из лидеров арабской политики.
Собравшиеся молча кивают.
– Хорошо бы добавить, – берет слово хозяин, – что мы предпочли бы появиться через несколько дней. Пусть прежде отзвучит просьба этих людей, вот тогда мы и выразим искренние мирные желания арабского народа, а также изложим наши условия сотрудничества с этими евреями-несионистами.
При словах «мирные желания» рука Мансура взлетает вверх, он просит, чтобы его выслушали.
Отец смотрит на распорядителя пожертвований, друга муфтия, на обоих бедуинских шейхов, того, что с юга, и старейшину из Луда, взглядом дает разрешение. Ныне молодые мужчины – носители идеи арабского единства, они руководят собраниями, пишут в газетах, можно разок дать им слово.
Мансур очень старается держать себя в руках, но не слишком успешно. Ему и его друзьям подчеркивание арабского миролюбия мало-помалу надоедает. Арабский народ, колосс, возлежит на континенте, голова его у границы Латакии, ноги в Омане и Йемене, руки распростерты за пределы Багдада и Триполи, Марокко, по всей Африке. Здесь, в Эль-Кудсе, бьется его сердце. Шевельнувшись, он сбросит в море всех этих евреев, этих русских, немцев, поляков, которые норовят превратить здешнюю землю в муравейник и, сколь это ни смехотворно, считают себя настоящими ее хозяевами, вернувшимися на родину. Надо им разъяснить, им и англичанам, кто владеет этой землей с той поры, как она завоевана калифами и великими сарацинами. До английской администрации следует донести не мирные пожелания арабского народа, а нетерпение исполина, чья выдержка на исходе. Как известно, у евреев есть оружие; пора наконец вынудить его заговорить и тогда показать, кто сильнее, кто лучше вооружен и опытнее в бою. Его партия, партия молодых мужчин, благодарна за доброжелательность, с какой к ним относятся присутствующие здесь вожди и почтенный глава мечетей; они готовы устремиться в схватку или же и впредь сдерживать нетерпение молодежи, но правительство обязано поручиться, что влияние сионистов пойдет на убыль, иммиграция новых чужаков прекратится, а права арабского народа Палестины будут без ограничений признаны конституцией. Пора покончить со смехотворной и устаревшей Декларацией Бальфура! К нескольким сотням евреев рабби Зелигмана можно обратиться со словами терпимости, но прежде надо разъяснить правительству, в сколь большой мере спокойствие в стране зависит от них, арабских лидеров, и на каких условиях они готовы и впредь его гарантировать.
Не поймешь, благожелательно ли, равнодушно или неодобрительно внимают эти господа сдержанному пылу Мансура. Смотрят они на него задумчиво; финансист муфтия повернул свое чеканное лицо к хозяину дома, бедуинские шейхи медленно перебирают бусины янтарных четок.
– Кто из вас, господа, был со мной, когда мы говорили сходные слова лорду Плумеру, только что приехавшему сюда? – в конце концов спрашивает финансист.
Никто не отвечает, но Мансур краснеет и бледнеет. Он достаточно хорошо знает историю последних лет: это отказ. Причем резкий, коль скоро этот лидер намекает на опыт, о котором господа вспоминать не любят.
Тогдашние события развивались так: на первой встрече представители арабов сообщили новому Комиссару Лиги Наций и английского правительства, на каких условиях они могут поручиться за сохранение спокойствия в стране, где только-только улеглись короткие бурные стычки 1921 и 1922 годов. И увидели, как круглое лицо лорда Плумера налилось кровью, голубые глаза широко раскрылись и он четко и ясно спросил, ответственны ли они вообще за спокойствие в стране. За спокойствие в стране в ответе он один. И сумеет его обеспечить. Да, на это мало что можно было возразить. Им противостояла воля белого человека, и в стране немедля началось энергичное строительство дорог, во все концы, а как важны дороги, в войну уразумели все, и спокойствие в стране сохранялось, пока старый фельдмаршал расхаживал там в своем тропическом шлеме.
– С тех пор в стране многое изменилось, – обороняется Мансур. – Фотографии Купола Скалы подействовали.
– Нехорошо угрожать, если не намерен наносить удар, – предостерегает шейх с юга.
– Феллахи очень недовольны, – замечает Мансуров дядя. – Надо подсказать им, что покупка земли сионистами и их притязания на правительственные земли ухудшают наши виды на будущее.
Распорядитель пожертвований хмурит брови: муфтий не желает беспорядков. В итоге они всегда оборачиваются против зачинщиков.
– Менять в стране, – говорит Мансуров отец, – следует уже немногое, причем предпринимать только то, что на пользу нам. Рабочие в городах выдвинут требования, когда увидят, что трудящиеся евреи зарабатывают больше, чем они. Конечно, в первую очередь надлежит призвать к ответу правительство, подающее наихудший пример. Вы посмотрите, как высоко оплачиваются за счет страны английские чиновники, а наши сыны, несущие все бремя работы, получают шесть-семь фунтов в месяц.
Престарелый шейх из Луда улыбается. Для крестьян на селе пять или шесть фунтов в месяц – сумма очень большая. В его краях арабы живут в поселках и деревнях в добрососедстве с евреями; непонятно, почему нужно все это непременно ломать.
В конце концов близкий друг муфтия, прикрыв рукой глаза, замечает, что декларация этих еврейских противников сионистов, несомненно, вызовет огромное раздражение в еврейских массах. Спор о молениях у Стены Плача, умно и успешно поддерживаемый вот уже девять месяцев, хорошо сделал свое дело, и управление мечетей на Храмовой площади сумело продавить все права и вполне насладилось бессилием своих врагов. Безрассудные, радикалы, бывшие легионеры, молодежь и их лидеры наверняка планируют ответный удар, надо надеяться, самыми кардинальными способами, угрозами, организуют митинги, а может быть, снова демонстрации. Если они начнут такие общественные манифестации против доктора де Вриндта и арабского народа, то справедливое недовольство большинства в стране тоже может громко заявить о себе. И пожалуй, тогда молодежь – взгляд на Мансура – не обуздать; пожалуй, в подходящих местах появятся эмиссары, призывающие к спасению святынь; пожалуй, там, где особенно много рьяных поборников арабского дела, возникнут стихийные сборища – взгляд на умного хевронского шейха. Тогда симпатизирующая арабам часть администрации, заручившись одобрением двух-трех достаточно дальновидных политиков из лондонских ведомств, может намекнуть, из-за чего снова и снова вспыхивают беспорядки от гор Ливана до пустыни Эль-Ариш – из-за массы русских и сионистов в стране; а значит, соответствующие меры правительства, согласованные с представителями арабского народа, будут оправданны, даже неизбежны. Враги Аллаха, неверные, издревле вредили сами себе, такова была воля Аллаха. Вот почему он предлагает уведомить правительство, что арабская знать в любое время готова к справедливой и добрососедской жизни с богобоязненными евреями, подробности же можно уточнить на устных переговорах. Этого будет достаточно.
Седовласые мужи здесь, в этом просторном помещении, молча обдумывали мудрость произнесенных слов. Надо позволить врагам и захватчикам выставить самих себя несправедливыми. Раввин и профессор – орудия воли Аллаха.
Молодой человек в тарбуше, Мансур, сжал за спиной кулаки, прижав костяшки пальцев к шелковому ковру, вонзив ногти в ладони. Этот доктор де Вриндт, осквернивший честь его дома и соблазнивший легкомысленного шалопая, его младшего брата, должен, стало быть, еще пожить – пока все не придет в движение, но ни днем больше, чем нужно. Он известит соратников о своем намерении. Покушение откладывается – на десять дней, на две недели, на месяц, возможно, на еще более долгий срок. До тех пор ему придется самому охранять мальчишку, а прежде, пожалуй, поговорить с отцом. Конечно, нелегко будет переубедить отца наперекор отпирательствам лицемерного маленького шакала. Но что любая связь между домом Джеллаби и этим рыжебородым неверным псом вредна, даже позорна и должна прекратиться, этого он от отца добьется, если будет действовать с осторожностью.
Господа встали, надели свои плоские туфли, приложили ладони ко лбу, попрощались.
Взрослый, страстно любящий ребенка, ищет в нем себя самого. Когда-нибудь и где-нибудь должно смыть с души следы формирующих сил, стряхнуть возникшие с годами уродства – как и мерзкие желваки, пучки волос, бесформенные выросты, которыми обзавелось тело. Пусть снова явится маленькое, грациозное и гладкое, подвижное и невинное, шаловливое, насмешливое, еще не запятнанное жизнью – юный человек.
В темной комнате руки мужчины обнимают мальчишечье тело, это уже не веснушчатые, волосатые руки взрослого, с широкими ногтями и глубокими линиями на ладони, а его визави и предмет страсти уже не чужой мальчик: диковинным образом здесь замкнулся круг, «я» вернулось к своему «я», ненавистный поток жизни в конце концов повернул вспять, и теперь он как бы обнимает свой исток, прижимает мощную голову потока к его, к собственным коленям. Масштаб потрясений колоссален. Законы природы упразднить не так-то легко, а еще меньше в этом любовном единении от игры, наслаждения и шаловливости. Гонимый человек обнимает мальчика, и мальчик в темно-коричневом сумраке комнаты дарит ему избавление, спасение от страха, дарит благодаря преданности, благодаря любви. Ведь он, ничего не понимающий, проживший еще так мало, чувствует дрожь страха, бремя страха, которое гнетет любящего. Этот страх не имеет ничего общего с днем нынешним и вчерашним, он был всегда, стучащий зубами спутник неодолимой силы, которая толкает к нему этого мужчину, барьер, противостоящий взрыву, сдавленное дыхание перед хрипом, тягостная пауза перед избавительным стоном.
Человек, подпавший под власть этой силы, всякий раз, сам того не ведая, проходит сквозь тень смерти, всякий раз, преступив грань человеческой жизни, оказывается в мареве разрушения. И когда угаснет в этом разрушении, когда лишь осторожность, опасение выдать себя не дает крику, смертному крику вырваться наружу, тогда он счастлив, освобожден, воодушевлен, вновь соединен с праматерью, со смертью. Ибо этого избавления он, заблудший, ищет всю свою жизнь, вслепую, без подсказки наития. Его неодолимо тянет отбросить кривобокое «я», отделаться от фальшивого и случайного воплощения, освободить свои атомы для новых воплощений под более счастливой звездой, в более удачный час. Ведь сбрасывание одежды – всего лишь аллегория сбрасывания тела, а сбрасывание тела – всего лишь форма сбрасывания «я», в ходе становления которого началось раздвоение, отделение этой малой, сияющей частицы духовной субстанции от праматери, от Бога.
Вот такая любовь подгоняла и сотрясала мужчину де Вриндта. Она ускользала от его бодрствующего понимания, но толкала его перед собой, и кое-что он смутно чуял, когда, покинутый своим мальчиком, сидел на стуле, свесив руки меж коленей, и смотрел перед собой, охваченный ужасом, словно пронизанный отсветами молний. Тогда он брал карандаш и листок бумаги и стоя или за столом записывал новые стихи, четверостишия или длинные строфы, выражая все то, что в нем происходило, – всегда на языке своей матери, которая говорила с ним по-голландски в низеньком домике в Харлеме, городе тюльпанов.
Книга вторая
Выстрелы в Иерусалиме
Зачем, Господь, смоковницу Ты искривил?
Ведь смоква слишком рано созревает.
Зачем меня в одежды эти обрядил?
И поздний жар зачем во мне пылает?
Из четверостиший де Вриндта
Глава первая
Верстка
Во всех типографиях на свете неизменно пахнет керосином, типографской краской, влажной бумагой и железом станков. В наборном цеху людей и по ночам гнетет жара, повсюду электрические лампочки без матовых плафонов и без зеленых абажуров, и повсюду в часы перед печатью стоят черные металлические наборные доски, готовые к тому завершающему процессу, который называется «верстка». Собранные из муравьишек-букв, отлитых по отдельности или целыми строками, здесь ждут в зеркальном отображении статьи, новости, объявления, выстроенные в ряд на длинных столах, чтобы опытные наборщики, как мозаику, соединили их согласно указаниям технического редактора в точно заполненные полосы. В экстренных случаях в цеху «на минутку» появляется и могучий главный редактор, чтобы завтра утром при чтении корректуры быть застрахованным от сюрпризов. Газета выходит во второй половине дня, называется она «Вечер» – на иврите «Ѓа-Эрев».
В наборном цехе газеты «Ѓа-Эрев» все спокойно. Два опытных наборщика и метранпаж типографии ужинают, меж тем как техред, молодой товарищ Мандельштам, с хмурой миной правит корректуру. Передовая статья оказалась слишком длинной, важные новости из Европы отняли у нее место, придется сокращать. Ручной пресс выдает влажный оттиск; еврейские буквы, хорошо прокрашенные, по-прежнему напоминают о страницах молитвенника. Сокращения – печальная обязанность для автора, ведь статью написал сам товарищ Мандельштам. И старался быть предельно лаконичным, а теперь придется сократить еще пятнадцать строк. Пятнадцать строк – как их выгадать? Передовица называется «Баллада о деревьях». Йегошуа Мандельштам из Цинциннати, США, на самом деле лирик, «Балладу о деревьях» он сочинил по-английски, но читателям в этом, конечно, не признаётся. В статье он, в общем-то, пересказывает содержание своей баллады, каким в свое время услышал его от доктора Ауфрихта, секретаря «Керен ѓа-Йесод», Фонда заселения Палестины.
Так начиналась «Баллада о деревьях». Далее решительно, без долгих предисловий следовала сама история. Этот Бейкер учредил в кенийской колонии «Общество людей-деревьев», «men of the trees». Лесничим мистер Бейкер не был, к деревьям его привело религиозное чувство. Он любил огромные, безмолвные, шелестящие растения, то благородно вытянувшиеся высоко вверх, то искривленные в борьбе с неблагоприятными условиями, темно-зеленые хвойные и ярко-зеленые ореховые деревья, эксцентричные смоковницы, стройные пальмы. Больше всего он любил лиственные деревья; при виде их морщинистых стволов, могучих крон, округлых, густых, с множеством сучьев, он мог замереть в молчаливом восторге, соединяя свою душу с душой дерева и участвуя в пронизанном соками бытии растения. И «Общество людей-деревьев» ставило перед собой задачу распространять такие чувства, такое вчувствование в деревья, пробуждать их прежде всего в детях; из живого чувства сама собой рождалась потребность ухаживать за растениями, разводить их, умножать их число. Мистер Бейкер поехал в Палестину с рекомендательным письмом доктору Л. Г. Ауфрихту, присланным из Лондона, и в итоге явился к нему в контору, преисполненный намерения учредить «Общество людей-деревьев» и в Святой земле, где, как ему сказали, есть в этом потребность. И вот он, неуклюжий, костлявый, седой насаждатель, сидел напротив высокого чернявого доктора Ауфрихта, уроженца Праги, и рассказывал о трудностях своего предприятия: он, мол, никаких иллюзий не питает, наоборот, прекрасно понимает, в чем заключается самый слабый пункт. Самый слабый пункт здесь, в Палестине, – это евреи. Арабы – пастуший народ, крестьянский, верно? Им легко внушить чуткость к деревьям и любовь к ним. Евреи же, понимаете, доктор, вот уж почти две тысячи лет живут в городах, от горожан такого не потребуешь, и винить их тем более невозможно. Без трудностей не обойтись, согласны? Австриец доктор Лео Герман Ауфрихт, человек по натуре умный, образованный, ценитель мелких, завуалированных шуток, внимательно слушал, благодарный случаю, который пришел ему на помощь, и готовый немедля им воспользоваться. Мистеру Бейкеру он ответил, что понимает его сомнения, но если тот завтра в это же время зайдет за ним сюда, в контору, то он надеется показать ему кое-что обнадеживающее. Дело было в конце февраля, ранней весной, накануне пятнадцатого числа месяца шват, которое именуется «Новым годом деревьев», так как в этот день вновь начинается движение соков в стволах. Доктор Ауфрихт сел вместе с мистером Бейкером в автомобиль; голубое небо парило над холмами. На удивление много народу стремилось той же дорогой на окраину Иерусалима; прошли благодатные дожди, анемоны уже алели среди зеленой травы и ярких пятен нарциссов. На просторном участке во множестве были приготовлены ямки, и, прежде чем мистер Бейкер успел задать вопрос, послышались музыка барабанов и труб и пение звонких голосов: школьные классы один за другим подходили с зелеными ветвями и венками – мальчики и девочки, малыши и подростки, с учителями и учительницами, а также толпы родителей. Пятнадцатого швата школьники обычно высаживают деревья, приобретенные на средства, которые Национальный фонд[37]37
Еврейский национальный фонд («Керен каемет ле-Исраэль») – некоммерческая корпорация, принадлежащая Всемирной сионистской организации; основан на Пятом сионистском конгрессе (Базель, 1901).
[Закрыть] целый год собирал среди евреев по всему миру, при этом поют песни и произносят речи – самый веселый праздник для молодежи, которой тоже надо пустить корни и вырасти крепким деревом. Этот праздник известен всем палестинцам, но мистер Бейкер, понятно, слыхом о нем не слыхал, и глаза у него стали прямо как блюдца, когда ему объяснили, что здесь происходит и что это дети еврейских горожан, чье отношение к природе вызывало у него опасения. И он возликовал – сияющий, смеющийся мужчина в открытом автомобиле, он выскочил из машины, хотел быть повсюду, наглядеться не мог на происходящее вокруг, а наутро во время серьезного совещания был готов в результате увиденного действовать сообща с Национальным фондом.
Вот о чем шла речь в передовице молодого Йегошуа Мандельштама. Он сделал хвалебные выводы и даже вновь добился актуальности, а именно ответив на нападки, с которыми симпатизирующие арабам английские газеты на минувшей неделе вновь обрушились на упомянутый фонд из-за его земельной политики. Последний абзац содержал опровержение этих нападок – так где же вычеркнуть пятнадцать строк?
Наборщики доели свой хлеб, оливки, сыр, осушили большие бутылки с лимонадом и сейчас направлялись к злополучному автору вполне удачной статьи: верстка должна продолжиться… В печатном цеху распахнулась и опять захлопнулась дверь; кто-то спешил по коридору, стеклянная дверь наборной лязгнула замком – в шляпе, с сигаретой в пальцах ворвался главный редактор, доктор Гликсон, энергичный мужчина средних лет, заработавший «журналистские шпоры» как корреспондент одной из либеральных русских газет на процессе Бейлиса[38]38
Менахем-Мендель Бейлис (1874–1934) – приказчик кирпичного завода в Киеве, арестованный в 1911 г. (автор ошибается в датировке процесса, который состоялся в 1913 г.) по сфабрикованному обвинению в ритуальном убийстве православного мальчика. Вокруг процесса Бейлиса была раздута антисемитская кампания; прогрессивная интеллигенция выступила в защиту обвиняемого: А. А. Блок, В. И. Вернадский, А. Франс и другие, и в 1913 г. Бейлис был оправдан и уехал в Палестину.
[Закрыть] в 1905 году, язвительно издеваясь над россказнями про ритуальные убийства, которые еще и сейчас охотно принимают на веру. Много воды утекло с тех пор в Иордане, доктор Гликсон давным-давно писал только на иврите.
– Что вы вынесли в шапку? – спросил он.
– Эйнштейна, – ответил Мандельштам. Он с удивлением воззрился на шефа. Что-то случилось. Глаза Гликсона по-рыбьи неподвижно смотрели из-под очков, в которых играли черно-желтые отблески ламп.
– Уберите Эйнштейна, – сказал он техреду. – А что у нас в коробке?
Коробкой у газетчиков называется центральная часть полосы, окантованная черной рамкой, где жирным шрифтом или иным выделением печатается самое важное сообщение.
– «Результаты „Керен каемет“ в минувшем году», – без труда прочитал техред зеркальный текст.
– Убрать. Отставить. – Тем самым он отложил публикацию сообщения. – А в качестве передовицы «Баллада о деревьях»? – Он нагнулся над столом с мандельштамовской корректурой. (В случае надобности опытный редактор тоже бегло читает перевернутые буквы.) – Снять, – приказал он.
Мандельштам покраснел. «Снять» означало, что набор будет рассыпан и переплавлен, так как статья не имеет шансов на опубликование.
– Снять? – спросил он.
– Ближайшие шесть месяцев, – резко сказал доктор Гликсон, но резкость его была адресована не молодому коллеге, а как бы окружающему миру, – никто в стране интересоваться идиллией не будет. Кое-что случилось, диктую прямо в набор. – И в треск клавиатуры линотипа, не снимая шляпы и наброшенного пыльника: – Шапка: «Доктор де Вриндт предает еврейский народ». Ниже: «Агудисты наносят нам коварный удар, запятая, объединяются с арабской верхушкой, запятая, отбрасывают наше дело на годы вспять, точка. Полужирным: В дальнейшем мы опубликуем текст меморандума, запятая, который подготовили двое лидеров „Агудат Исраэль“, запятая, широко известные рабби Цадок Зелигман и доктор И, точка, дефис, Й, точка, дефис, де Вриндт, запятая, и вручили сегодня в резиденции губернатора, точка. Меморандум говорит сам за себя, точка. Доктор де Вриндт не отрицает своего авторства, точка. Таким образом, он сам вынес себе приговор, точка. Отныне он вычеркнут из рядов еврейского народа, точка…» Это будет новая передовая статья. Дальше, Маймон.
Наборщик Маймон, тощий, скуластый, «за рубежом» страдал туберкулезом. Он дрожал от гнева, пальцы яростно стучали по клавишам, длинные рычаги станка умножали его удары. Бледный Йегошуа Мандельштам сидел рядом. Медленно сложил «Балладу о деревьях», сунул в нагрудный карман.
Метранпаж Уриэль, положив на колено сжатый кулак, всем своим существом ждал продолжения диктовки, избавительного взрыва.
Невысокий молодой наборщик Ниммис не сводил глаз с шефа, увлеченно слушая передовую статью, которой еще не слышал ни один человек.
Но все они знали эту статью; каждый из них мог бы написать ее своей кровью, своей возмущенной душой.
– Заголовок: «Вечный предатель», – сдержанным голосом начал доктор Гликсон.







