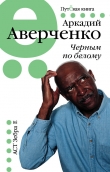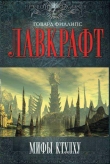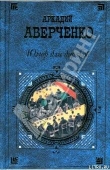Текст книги "Том 3. Чёрным по белому"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
Чувствительный Глыбович
I
– Миленький мой, – сказала госпожа Принцева. – Вот уже почти месяц, как мы с тобой признались, что любим друг друга. По-моему, мы должны быть счастливы (я, конечно, и счастлива…), но ты – ты меня беспокоишь! Что с тобой? Ты задумчив, молчалив, часто, сидя в уголку, что-то шепчешь, на вопросы отвечаешь невпопад… Милый! Может быть, ты разлюбил меня?
Может быть, я тебе за один месяц надоела? Или другую встретил? Конечно, если ты меня разлюбил – против этого ничего не поделаешь… сердцу не прикажешь. И я требую только одного – откровенности. Встретил другую – что ж делать… Нужно сказать… Только имей в виду – если это правда, я этого так не оставлю. Слава Богу, серную кислоту еще можно достать, когда хочешь…
Действительно, у Глыбовича было задумчивое, рассеянное лицо и глаза смотрели грустно-грустно не на Принцеву, а куда-то в угол.
Он вздохнул.
– Конечно, то, что ты говоришь о другой женщине, – неправда. Я люблю только тебя, и, может быть, это-то меня и угнетает.
– Угнетает? Почему?
– Скажи, тебе никогда не приходила в голову мысль о твоих детях?
– При чем тут дети?
– Дети – это ангелы на земле. Дети – цветочки алые на сожженной солнцем ниве. У тебя есть два таких прекрасных цветочка…
– Ну и что же?
Чувствительный Глыбович закрыл руками глаза и прошептал:
– Я их люблю, как своих родных детей… Меня пугает их будущее…
– О Боже мой!.. Почему?
– Тебе никогда не приходило в голову – что будет, если твой муж узнает о наших отношениях?
– Что будет? Скандал будет.
– О, – сказал Глыбович со стоном. – Ябоюсь другого… Убийства!
– Ты думаешь, он тебя убьет?
– Как ты меня мало знаешь… Стал бы я о себе думать! Не меня… Я боюсь, что безумная карающая рука опустится на тебя!
Госпожа Принцева прижалась к Глыбовичу и спросила то, что, наверное, уже несколько тысяч лет спрашивается в подобных случаях:
– Тебе будет жалко, если я умру?
– О, можешь ли ты спрашивать! Но не забывай, после тебя останутся дети – двое невинных крошек… Что с ними будет? Убийца-отец или пойдет на каторгу, или, в лучшем случае, оправданный, начнет пить, чтобы алкоголем заглушить муки совести и раскаяния… Пьяный, опустившийся, будет приходить он в холодную, нетопленную комнату и будет он колотить и терзать безвинных детей своих. «Папочка, – будут спрашивать они, складывая на груди исхудалые ручонки. – За что ты нас бьешь?» – «Молчите, проклятое отродье», – заревет отец.
Припав к плечу рассказчика, госпожа Принцева тихо плакала.
– А потом он умрет в белой горячке около трепещущих испуганных детей. С ужасом будут взирать они на его искаженное злобой и безумием лицо… Кстати, у него есть что-нибудь в банке?
– Что?
– Яспрашиваю, у него есть что-нибудь? В процентных бумагах или на текущем счету?
– Что ты! Откуда?.. Мы все проживаем. А почему ты это вдруг спросил?
– Потому что дети в таком случае останутся выброшенными на улицу. Что их ждет? Карманный воришка и падшая женщина.
– О, не говори так! – вскричала госпожа Принцева, хватаясь за голову…
– Вот видишь, – сказал Глыбович, торжественно простирая руку. – Вот что гнетет меня и мучает меня! Имеем ли мы право строить все счастье на трупиках малых сих?
– Что же делать? Боже, что же делать? – ломая руки, вскричала госпожа Принцева. – Где же выход? Слушай… А почему ты думаешь, что он непременно меня убьет?
– Он? Конечно убьет. О, милая моя… Плохо же ты знаешь мужчин, которые любят… Никакие законы и никакие дети их не остановят…
– Значит – что же? Из твоих слов ясно, что мы должны расстаться?
– Боже сохрани! Но я хочу быть уверенным за судьбу твоих детей. Пусть они его дети – все равно, я привязался к ним за этот месяц и люблю, как собственных.
– Но… им все-таки что-нибудь останется! У меня есть бриллианты…
– О, бриллианты! Отец отнимет их и пропьет… Как их застрахуешь от этого?
– Вот что… у меня есть одна старая тетка. Правда, небогатая…
– Она застрахована на случай смерти?
– Кажется, нет.
– Ну, вот видишь. Чем ты застрахована, что у нее нет других родственников? Ну, скажи… Чем ты застрахована?
– Застрахована… – машинально сказала Принцева. – А что, если мне застраховаться?
– Тебе? Гм… Это, пожалуй, идея. Если, конечно, полис завещать детям. Чтобы не узнал только муж об этом…
Долго еще слышался шепот влюбленных в маленьком будуаре госпожи Принцевой.
II
Однажды, когда госпожа Принцева в изящной позе полулежала на кушетке, а сидевший на низенькой скамеечке чувствительный Глыбович осыпал поцелуями ее руки – вошел муж, господин Принцев.
– Извините, – сухо сказал он. – Я, кажется, помешал?
– Нет, ничего, – возразил Глыбович, сохраняя редкое присутствие духа. – Я как раз благодарил Ольгу Николаевну за одно доброе дело, которое она сделала.
– Да? – сказал муж ледяным тоном. – Вот что, господин Глыбович… Мне нужно серьезно поговорить кое о чем с вами. Не пройдете ли вы в мой кабинет?
– О, сделайте одолжение!
Мужчины ушли.
С искаженным ужасом лицом вскочила с кушетки госпожа Принцева и прислушалась. Резкий разговор, ка– кой-то удар, потом выстрел, сдавленный крик и глухое падение тела – чудились ей. Но, нет! В кабинете все было сравнительно тихо.
– Объясняются, – подумала госпожа Принцева и, держась рукой за бешено бьющееся сердце, вышла в столовую к вечернему чаю.
Дверь из столовой вела в кабинет. Оттуда доносился разговор, но слов не было слышно. Долетал только резкий протестующий голос господина Принцева и отрывочные слова Глыбовича: «Вы не правы! Это несправедливо! Если вы о ней не хотите думать, то подумайте хоть о детях!»
– Странно! – подумала госпожа Принцева. – Он о моих детях думает больше, чем обо мне. Вот-то размазня!
Снова прислушалась…
– «Конечно, кто первый умрет, это еще вопрос!»
– «А я вам говорю…»
– «Вы должны допустить, что она женщина молодая!»
– «А мне-то какое дело!»
– «И что семейное счастье вещь очень непрочная»…
Дальше ничего нельзя было разобрать…
Зажгли лампу. Пришли дети – пятилетний Игорь и семилетняя Катя, – предводительствуемые гувернанткой.
Пили чай. Дети уже напились, поблагодарили мать и сели рассматривать картинки. Покончили и с этим делом и уже отправились спать, а господин Принцев все спорил с Глыбовичем о чем-то, то повышая, то понижая голос.
С одной стороны, госпоже Принцевой было приятно, что дело кончилось без шума, выстрелов и убийств, а с другой – тяжелое чувство какой-то неудовлетворенности и обманутого ожидания язвило сердце неверной жены.
Только-то? О, другие мужчины, вступившие в борьбу друг с другом за обладание ею, не поступали бы так, будто бы они, обсуждают какое-то коммерческое предприятие. Или она не такой уж предмет раздора и спора, чтобы из-за нее стрелялись или вступали в единоборство?!
И кончилось тем, что госпожа Принцева с самым жадным любопытством стала прислушиваться – не раздастся ли наконец: «выстрел, подавленный крик и глухой стук падения тела»…
Тогда, может быть, ей бы сделалось легче.
Выстрелов не было.
Вместо этого в десятом часу вечера дверь из кабинета наконец распахнулась и вылетел красный, вспотевший Принцев. Он шатался от усталости и смотрел на все потускневшими глазами.
Глыбович, наоборот, был свеж, как всегда; он вышел корректный, застегнутый на все пуговицы, от чаю отказался, поцеловал хозяйке дома руку, простился с хозяином и, шепнув что-то на ходу гувернантке, исчез.
– Что это у вас за разговоры с Глыбовичем были? – с наружным спокойствием спросила госпожа Принцева, наливая мужу чаю.
– Негодяй он, твой Глыбович, – сурово сказал муж.
Жена вспыхнула.
– Во-первых, что это за «твой», а во-вторых, я прошу с моими знакомыми быть вежливее!
– Знакомый! Хороший знакомый!..
– Я с вами не совсем согласна, – сказала гувернантка, неожиданно вступая в разговор. Господин Глыбович очень милый человек…
– Да-с? Почему же это вы им так очарованы, позвольте осведомиться?
– Он с такой любовью отнесся к моей матушке, которой даже и не знает… Так сочувствовал. Посоветовал мне даже застраховаться, чтобы она не осталась без куска хлеба в случае, если я…
Господин Принцев поднял голову.
– Как?! Он и вас застраховал?!
– Как это так – «и вас»?
– Потому, что он меня тоже сейчас застраховал. Целый час я от него отбивался, но разве от этого чувствительного репейника отделаешься? О детях, о жене такое развел мне, что я чуть не заплакал. Что поделаешь – застраховался. Вообще, знаете, эти агенты по страхованию жизни – такой ужас!
Замечательный человек
I
Однажды я зашел в маленькую, полутемную типографию с целью заказать себе визитные карточки. В конторе типографии находилось двое людей: конторщик и полный, рыжий господин с серьезным, озабоченным лицом.
– Меньше ста штук нельзя, – монотонно говорил конторщик. – Меньше ста штук нельзя. Нельзя меньше ста штук.
– Разве не все равно: сто или шесть штук? Куда мне сто? Мне и шести штук много.
– Шесть штук будут стоить то же, что и сто. Что же за расчет вам? Что же за расчет?.. Вам-то – какой расчет? – спрашивал печально и лениво конторщик.
– Ну ладно! Печатайте сто, только так: пятьдесят штук одного сорта и пятьдесят штук – другого.
– На разной бумаге?
– Нет – я говорю, разного сорта. На одних напечатайте так: «Светлейший князь Иван Иванович Голенищев-Кутузов», а на других просто: «граф Петр Петрович Шувалов». Ну там коронки разные поставьте, вензеля – как полагается.
Я с любопытством смотрел на этого представителя знаменитейшей дворянской русской фамилии и только немного недоумевал в душе: какая же из двух фамилий принадлежала озабоченному господину?
– Будьте добры напечатать мне сотню визитных карточек, – сказал я, приближаясь к конторщику, – моя фамилия – Александр Семенович Пустынский.
Незнакомый господин издал легкий звук, похожий на радостное икание.
– Пустынский?! Вы и есть знаменитый писатель Пустынский?
– Ну уж и знаменитый!.. – сконфузился я. – Так просто… пишу себе.
– Нет, нет! – захлопотал озабоченный господин. – Не оправдывайтесь! Вы – знаменитый писатель. Очень рад познакомиться!
– Вы меня смущаете, – улыбнулся я, пожимая его руку. – А как ваша фамилия: князь Голенищев-Кутузов или граф Шувалов?
– Перетыкин Иван моя фамилия – вот как! Не слышали? У меня еще деда повесили за участие в великой французской революции.
– Вы – Перетыкин?! А зачем же вы такие карточки заказывали?
Мне показалось, что он немного смутился.
– А?.. Это так… Маленькое пари… Шутка… Можно вас проводить? Нам, кажется, по пути?..
Мы вышли из типографии и зашагали по безлюдной улице.
– Пойдем налево, – сказал Перетыкин. – Там народу больше.
Мы свернули на шумный проспект. Навстречу нам шли два господина. Мой новый знакомый схватил меня под руку и почти прокричал на ухо:
– От Леонида Андреева писем давно не получали?
– Я? Почему бы мне получать от него письма? Мы даже не знакомы.
Мы молча зашагали дальше. Навстречу нам показались две дамы.
– Отчего не видел вас во вторник у Лины Кавальери? Она ждала, ждала вас!..
Проходившие дамы, заинтересованные, замедлили шаги и даже повернули в нашу сторону головы. Одна что-то шепнула другой.
– Зачем вы это спрашиваете? – удивился я. – Никогда моя нога не была в ее доме. Может быть, она ждала кого-нибудь другого?..
– Может быть, может быть, – устало, равнодушно пробормотал Перетыкин, но, завидев впереди какого-то знакомого, оживился и громким голосом дружелюбно закричал: – Заходите ко мне когда угодно, Пустынский! Для знаменитого писателя Пустынского у его приятеля Перетыкина всегда найдется место и прибор за столом!
Я стал понимать вздорную, суетную натуру Перетыкина. Перетыкин начинал действовать мне на нервы.
Я промолчал, но он не унимался. Когда мимо нас проходил какой-то генерал с седыми подусниками и красными отворотами пальто, мой новый знакомый приветственно махнул ему рукой и крикнул:
– Здравствуй, Володя! Как поживаешь? Совсем забыл меня, лукавый царедворец!..
Генерал изумленно посмотрел на нас и медленно скрылся за углом.
– Знакомый! – объяснил Перетыкин. – Зайдем ко мне. У меня есть к вам большая просьба, которую я могу сказать только дома.
– Хорошо. Пожалуй, зайдем. Только – ненадолго, – согласился я с большой неохотой.
II
Он жил в двух комнатах, обставленных нелепо и странно. Одна из них вся была увешана какими-то картинами и фотографическими портретами с автографами.
– Вот мой музей, – сказал Перетыкин, подмигнув на стену. – Все лучшие люди страны дарили меня своим вниманием!..
Действительно, большинство портретов, с наиболее лестными автографами, принадлежало известным, популярным именам.
На портрете Чехова было в углу приписано:
«Человеку, который для меня дороже всех на свете – Ивану Перетыкину, на добрую обо мне, многим ему обязанному, память».
Лина Кавальери написала Перетыкину более легкомысленно:
«Моему amico Джиованни на память о том вакхическом вечере и ночи, о которых буду помнить всю жизнь. Браво, Ваня!»
Немного удивили меня теплые, задушевные автографы на портретах Гоголя и Белинского и привела в решительное недоумение авторская надпись на портрете, изображавшем автора ее в гробу, со сложенными на груди руками.
– Садитесь, – сказал Перетыкин.
Постарался он посадить меня так, чтобы мне в глаза бросилось блюдо с разнообразными визитными карточками, на которых замелькали знакомые имена: Ф. И. Шаляпин, Лев Толстой, Леонид Андреев…
Даже, откуда-то снизу, выглянула скромная карточка с таким текстом:
«Густав Флобер – французский литератор».
Я улыбнулся про себя, вспомнив о «графе Шувалове» и «Светлейшем князе Голенищеве-Кутузове», и спросил:
– Какое же у вас ко мне есть дело?
Он взял с этажерки одну из моих книг и подсунул ее мне:
– Напишите что-нибудь. Такое, знаете: потрогательнее.
– Да зачем вам? Ведь мы с вами еле знакомы – что же я могу написать? Ну, написать вам: «На добрую память»?
Он задумчиво поджал губы.
– Суховато… Вы такое что-нибудь… потеплее.
Я пожал плечами, взял перо и написал на книге:
«Лучшему моему другу и вдохновителю, одному из первых людей, с гениальным проникновением открывших меня, – милому Ване Перетыкину. Пусть он вечно, вечно помнит своего Сашу!»
Он прочел надпись и удовлетворенно потрепал меня по плечу. Потом сел около меня. Я молчал, наблюдая за его ухищрениями, которые видел насквозь. Ухищрения эти состояли в том, что Перетыкин вытягивал левую руку с бриллиантовым кольцом на пальце, обмахивался ею, будто бы изнемогая от жары, клал ее на мое колено, но все это было напрасно.
Я упорно не замечал кольца.
Тогда он сказал, как будто бы думая о чем-то постороннем:
– Плохие времена мы переживаем… Вера в народе стала падать…
– Да, ужасное безобразие!
– Народ не ценит своих святынь… Церкви подвергаются разграблениям… Драгоценные иконы ломаются и расхищаются…
– Да, ужасное безобразие!
– Недавно, например, обокрали икону… Унесли несколько бриллиантов громадной стоимости и величины. Я читал описание: размер бриллиантов приблизительно такой, как у меня на пальце…
– Школы нужны, – перебил я его на совершенно неподходящем для него месте.
Он вздохнул и, подумав немного, кивнул головой.
– Это верно. Нужны школы, а говорят, что денег нет. Как нет денег? Вводите налоги. Можно обложить все, главным образом предметы роскоши. Например, золотые и бриллиантовые вещи. Например, вот это кольцо… Вы знаете, сколько я за него заплат…
– Нет, что там налоги! Главное – режим, – опять перебил я его.
Я насквозь видел все его штуки: он лихорадочно, болезненно стремился похвастаться своим бриллиантовым кольцом, а я все время отбрасывал его на другой путь. Но он был неутомим.
– Вы говорите – режим? Режим, конечно, сыграл свою роль. Одни эти еврейские погромы, когда разорялись самые богатые еврейские фирмы и торговли. Ха-ха! Вы знаете, после погромов было не в редкость встретить на руке босяка вот такое кольцо, а ведь это кольцо, батенька, стоит…
– Босяки здесь ни при чем. Они сами бы…
Он схватил меня за руки и скороговоркой докончил:
– …Стоит две с половиной тысячи! Да-с! Небольшая вещица, а заплочено две с половиной тысячи!! Хе-ха!..
Пришлось подробно рассмотреть кольцо и убедиться в его стоимости.
Перетыкин вынул из кармана золотые часы и стал для чего-то заводить их.
Он упорно хотел, чтобы я заинтересовался этими часами, а я упорно не хотел интересоваться ими. Встал и сказал:
– Пойду. Кстати, каким это образом у вас на фотографическом портрете Пушкина его автограф?..
– Этот? Это я получил от него давно. Когда еще был мальчиком…
– Изумительно! – удивился я. – Да ведь Пушкин уже умер лет семьдесят тому назад.
Призадумавшись, он ответил:
– Да, действительно что-то странное. Впрочем, это, кажется, его сын подарил. Не помню. Давно было. Ну, ничего!
Я еще хотел спросить: как это покойник в гробу, со сложенными руками, мог дарить свои автографы на портретах, изображающих его в этой скорбной, печальной позе, – но не спросил и ушел.
Перетыкин проводил меня до ворот и, увидев проходившую мимо даму с господином, крикнул мне вдогонку:
– Когда будете проезжать Бельгию – привет и поцелуй от меня Метерлинку! До свидания, Пустынский! Напишите что-нибудь замечательное!!
Прохожие оглянулись.
III
Недавно я встретил на улице погребальную процессию. Сзади катафалка шли человек двадцать родственников, а за ними, немного поодаль, брел Перетыкин. Он часто подносил к красным глазам платок, заливался обильными слезами, чем растрогал меня до глубины души. Очевидно, у этого человека, кроме смешных, нелепых слабостей, было большое сердце.
Я подошел к нему и деликатно взял его под руку.
– Успокойтесь! Вы кого-нибудь потеряли? Это ужасно, но – что ж делать!
Он печально покачал головой.
– Не утешайте меня! Я вce равно не успокоюсь!! Эта потеря незаменима.
– Кто же это умер?
– Кто? Мой лучший друг! Я все ночи напролет просиживал у его изголовья, но – увы! – ни дружба, ни медицина ничего не могли поделать… Он угас на моих руках. Последние его слова были: «Ничего! Все-таки я кое-что сделал для родной литературы!»
– А! Он был литератор? Как же его звали?
Он укоризненно посмотрел на меня:
– Боже мой! И вы не знаете?! Вы не знаете, кого мы потеряли?! Кто умер? Достоевский умер! Наша гордость и близкая мне душа.
– Что за вздор! Достоевский умер лет двадцать тому назад! Я это знаю наверное!..
Он смущенно посмотрел на меня.
– Не… может… быть… Эй, как вас? Родственник! Как фамилия покойника?
– Достоевский! – ответил плачущий родственник.
– Ага! Вот видите!
– А кем он был при жизни? – спросил я.
– Он? Письмоводителем у мирового судьи! Совсем молодым человеком и помер.
Перетыкин вынул из кармана платок, тщательно утер глаза и равнодушно сказал мне:
– Пойдем куда-нибудь в ресторанчик. Дотащутся и без нас!..
Мимо нас прошли два офицера. Перетыкин проревел им вслед:
– Пустынский, плутишка! Не забудьте же воспользоваться той темой для рассказа, что я вам дал.
Я рассмеялся. Дал ему слово воспользоваться, и сделать это теперь же, не откладывая дела в долгий ящик.
Витязи
Это было как раз на другой день после выхода из национального всероссийского клуба М. Суворина, А. Столыпина, А. Демьяновича и Ал. Ксюнина.
За столом в одной из комнат клуба сидели оставшиеся члены и, попивая сбитень, мирно беседовали.
– А и тошнехонько же тут, а и скучнехонько же, добрые молодцы, – заметил граф Стенбок.
– Ой, ты гой еси, добрый молодец, – возразил барон Кригс. – Не тяни хоть ты нашу душеньку. Не пригоже тебе тако делати…
Один рыжий националист вздохнул и сказал:
– О, это, гой еси, по та пришина, что русский шеловек глюп! Немецки шеловек устроил бы бир-галле мит кегельбан, и было бы карашо.
– Тощища, гой, еси. А что, добры молодцы, может, телеграмму приветственную Плевицкой спослать?
– А по какому случаю? Вчера ведь посылали.
– Да так послать. А то что ж так сидеть-то?
– Не гоже говоришь ты, детинушка. Просто надо бы концерт какой-нибудь устроить.
– Нужно говорить не концерт, а посиделки.
– Добро! А ежели с танцами, то как!
– С хороводом, значит, гой еси.
– О, боже ж, как тошнехонько!
В это время в комнату вошел новый националист.
– Здравствуйте, господа! Записался нынче я в ваш союз и в клуб. Принимаете?
Барон Кригс встал, поклонился гостю в пояс и сказал, тряхнув пробором:
– Исполать тебе, добрый молодец.
– Чего-с?
– Говорю: исполать.
Гость удивился.
– Из… чего?
– Исполать, – неуверенно повторил барон Кригс.
– Из каких полать?
– Не из каких. Это слово такое есть… русское… Мы ж националисты.
– Какой черт, русское, – пожал плечами гость. – Это слово греческое… Еще поют «Исполайте деспота!».
– А не русское? Вот тебе раз.
Барон снова поклонился гостю в пояс и сказал:
– А и как же тебя, детинушка, по имени, по изотчеству? Как кликати, детинушка, себя повелишь?
– Какие вы… странные. Меня зовут Семен Яковлевич!
– А и женат ли ты? А и есть ли у тебя жена красна девица – душа, со теми ли со деточками-малодеточками?
– Да, я женат. Гм!.. Что это у вас, господа, такое унылое настроение?
Барон Шлиппенбах покачал головой и сказал:
– А и запала нам в душу кручинушка. Та ли кручинушка, печалушка. Бегут из того ли союза нашего люди ратные и торговые и прочий народ, сочинительствующий, аще скоро ни одному не остатися. Эх, да что там говорить!.. А и могу ли я гостя дорогого посадити за скатерть самобранную и угостити того ли гостя сбитнем нашим русским.
– А и угостите, – согласился гость.
– А и не почествовати ли гостюшку нашего ковшиком браги пенной?
– А и ловко придумано.
– То ли какую марку гость испить повелит?
– То ли брют-америкен.
– Дело! Эй, кравчий! А и тащи же ты сюда вина фряжского, того ли брют-америкену.
Подали шампанского. Когда вино запенилось в деревянных ковшах, барон Вурст встал и сказал:
– Не велите казнить, велите слово молвить!
– Не бойся, не казним! Жарь дальше.
– То не заря в небе разгоралася, то не ратные полки на ворога нехрещенного двинулись! То я, барон Вурст, пью за то, чтобы матушка наша Россия была искони национальной и свято блюла те ли заветы старинные! А и крепка еще матушка наша Россия русским духом! А и подниму я свою ендову, выпью ее единым духом за нашу матушку и скажу то ли слово вещее: канун да ладан…
– То ли дурак ты, братец. При чем тут канун да ладан?.. Раз немец, не суйся говорить. Нетто это к месту?
– Милль пардон! Я что-то, кажется, действительно… А это, знаете, так красиво: канун да ладан! Ma foi!
– Не вели казнить, вели слово молвить, который теперь час?
– А и то ли восемь часов, да еще и с половинушкой.
– Ах, господа! А я еще обещал быть во тереме барона Шуцмана на посиделках. Ужасно трудно соблюдать национальные обычаи.
– И не говорите! – вскричал барон Вурст. – Вчера мы устроили русский обед и по обычаю тому ли русскому – пробовали лаптем щи хлебать. Ужасно неудобно. Капает на брюки, протекает, а капусту из носка лаптя приходится вилкой выковыривать.
– О, русски народ – глюпи шеловек. Ми тоже позавчерась пробовал сделайт искони русски свичай-обичай: лева ногой сморкаться. Эта таки трудни номер.
– Виноват, – возразил новоприбывший националист. – Вы немного напутали. Действительно, у русского народа есть такие выражения, но они имеют частицу отрицания «не». Говорят: «я тоже не левой ногой сморкаюсь», или: «мы не щи хлебаем».
– А, черт возьми, действительно, верно! Какой удар!
Однако ты, гой еси, детинушка, действительно, хорошо знаешь русский свычай-обычай.
– Еще бы! Да вот вы, например, все время твердите, как попугай: гой еси, да гой еси! А вы знаете, что гой – это еврейское слово? Гой по-еврейски значит – христианин?
Из угла вдруг поднялся молчавший до сих пор угрюмый националист.
– А и куда же ты, детинушка, собрался?
– А и ну вас всех к черту. Думал я, что по-русски мы живем и разговариваем по-нашему, по-исконному, а тут тебе и по-греческому, и по-жидовскому, и щи лаптем хлебают, и левой ногой сморкаются… Исполать вам, гой еси, чтоб вы провалились.
– Пойдем и мы, – сказали двое мрачных людей. Вздохнули, потоптались на месте и ушли.
– И хорошо, что ушли, – воскликнул старшина. – Все равно не надежны были. Зато теперь остался самый настоящий националист, крепкий. Ребятушки, чем займемся?
– Да чем же… давайте телеграмму Плевицкой пошлем.
– А и дело говорите. Исполать вам. Пишите. «Ой-ты, гой еси, наша матушка Надежда ли Васильевна! Земно кланяемся твоему истинно национальному дарованию а молчим на мнагая лета тебе на здоровьица на погибель инородцам. Поднимаем ендову самоцветную с брагой той ли шипучей!»
– Подписывайтесь, детинушки! И все расписались:
– Барон Шлиппенбах. Граф Стенбок. То ли барон Вурст. Гой еси барон Кригс. А и тот ли жандармский ротмистр Шпице фон Дракен.
– Все подписались?
– Я не подписался, – застенчиво сказал новопоступивший националист.
– Так подписывайтесь же!
И он застенчиво подписал:
– Семён Яковлевич Хацкелевич, православный.