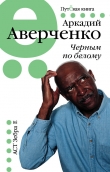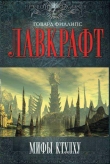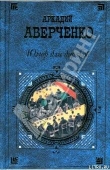Текст книги "Том 3. Чёрным по белому"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Под облаками
I
С самого раннего детства наибольшим моим удовольствием было устраивать какую-нибудь мистификацию. Первые мои мистификации – плод кроткого детского ума – не носили характера продуманности, замысловатости и сложности. Просто я изредка выскакивал из детской, мчался в кухню и кричал диким голосом:
– Агаф-фья, иди, тебя мама зовёт!
Кухарка легко поддавалась на эту удочку, шла к матери, а та её и не звала…
Потеха была невообразимая.
Или шёл я с невинным лицом в кабинет к отцу и сообщал ему, что его зовут к телефону.
Нужно ли говорить, что никто отца к телефону не звал, и простодушный старик тщетно по десяти минут орал у телефона:
– Кто у телефона? Кто звал? Да отвечайте же, черти вас разорви!
Вообще в это блаженное время младенчества и детства все мои мистификации. вращались вокруг того, что кто-то зовёт кого-то, кто-то имеет в ком-то нужду, а по расследовании выяснялось, что никто никого не звал и всё это мои хитрости.
Один раз в детстве совершил я оригинальную мистификацию, не похожую на «кто-то кого-то зовёт». Какой-то знакомый прислал с посыльным моей сестре коробку конфет. Я встретил этого посыльного на лестнице, взял конфеты и, залезши потом под какие-то дрова, целиком уничтожил всю коробку.
Вечером этот знакомый пришёл к нам в гости и тщетно дожидался благодарного словечка от сестры. Она его так и не поблагодарила, а он не решился спросить, получила ли она конфеты.
В периоде юности мистификации усложнились, приобрели некоторую яркость и блеск.
На дверях одного магазина я приклеил потихоньку большой плакат: «Вход посторонним строго воспрещается», и хозяин магазина, сидя целый день без покупателей, сильно недоумевал, куда они провалились.
У проходившего по улице пьяного я взял из рук газету, перевернул её вверх ногами и уверил беднягу, что вся газета напечатана вверх ногами. Он догнал газетчика и устроил ему страшный скандал, а я чуть не танцевал от удовольствия.
Но особенного блеска и красоты достигли мои мистификации, когда я перешёл из юношеского в зрелый возраст. По крайней мере, мне лично они очень нравились.
II
Однажды ко мне явился сын моих знакомых, великовозрастный верзила, и сообщил мне, что он устроил аэроплан.
– Летали? – спросил я.
– Нет, не летал.
– Боитесь?
– Нет, не боюсь!
– Почему же вы не летаете?
– Потому что он не летает! Если бы он летал, то, согласитесь, полетел бы и я.
– Может быть, чего-нибудь не хватает? – спросил я.
– Не думаю. Мотор трещит, пропеллер вертится, проволок я натянул столько, что девать некуда. И вместе с тем проклятая машина ни с места! Что вы посоветуете?
Я обещал заняться его делом и простился с ним.
Через час ко мне зашел журналист Семиразбойников.
Он тоже явился ко мне, чуть не плача, с целью поведать своё безысходное горе.
– Можешь представить, коллега Попляшихин сделал мне подлость. Я собирался на гребные гонки с целью дать потом отчёт строк на двести, а он написал мне подложное письмо от имени какой-то блондинки, которая просит меня быть весь день дома и ждать её. Понятно, я ждал её, как дурак, а он в это время поехал на гонки и написал отчёт, за который редактор его похвалил, а меня выругал.
– Что же ты хочешь? – спросил я.
– Нельзя ли как-нибудь написать?
– Можно, ступай и будь спокоен: я займусь твоим делом.
Он ушёл.
Это был день визитов: через час у меня сидел Попляшихин.
– Тебе ещё чего?
– Я подставил ножку этому дураку Семиразбойникову, а теперь, после гонок, редактор считает меня первым спортсменом в мире. Только знаешь что: я боюсь полететь.
– Откуда?
– Не откуда, а куда. Вверх. На аэроплане. Редактор требует, чтобы я взлетел на каком-нибудь аэроплане и дал свои впечатления. Понимаешь ли, это ново. А я боюсь.
– Ступай, – задумчиво сказал я, – иди домой и будь спокоен: я займусь твоим делом.
III
На другой день я усердно занялся полётом Попляшихина, и к обеду всё было готово.
Целая компания наших друзей сопровождала меня и Попляшихина, когда мы поехали к даче родителей великовозрастного верзилы, владельца аэроплана.
Был с нами и Семиразбойников, на которого то и дело оглядывался Попляшихин, как будто боясь, чтобы он не устроил ему какого-нибудь подвоха. Семиразбойников же был молчалив и сосредоточен.
Осмотрели хитрое сооружение. По наружному виду аэроплан был как аэроплан.
Мы взяли Попляшихина под руки, отвели в сторону и спросили:
– Вы подвержены головокружению?
– Гм… кажется, да, – сконфуженно ответил журналист.
– В таком случае я не могу вас взять, – сурово ответил верзила. – Вы начнёте кричать, хватать меня за руки и погубите нас обоих.
– О, боже, – закричал журналист, – а я обещал редактору полететь! Умоляю вас, возьмите меня. Хоть на немножко.
– Хотите полететь с завязанными глазами? – предложил я.
– Да ведь пропадет вся прелесть полёта.
– А что вам видеть? Главное – ощущение. Вы рискуете потерять полёт совершенно.
Попляшихин спросил верзилу нерешительно:
– А вы как думаете?
– С завязанными глазами я вас возьму, – по крайней мере, сидеть будете тихо.
– Берите, – махнул рукой Попляшихин.
Пропеллер, пущенный опытной рукой верзилы, затрещал, загудел и слился в один сверкающий круг. – Садитесь же, – скомандовал верзила.
Бледный Попляшихин подошел к нам, обнял меня и сказал, криво усмехаясь:
– Ну, прощай, брат!.. Свидимся ли?
– Мужайся, – посоветовал я.
Кто-то из друзей поцеловал Попляшихина, благословил его и ободряюще сказал:
– Суждено умереть – умрёшь, не суждено – не умрёшь. Лети милый. Дай бог тебе…
Попляшихин подошёл к Семиразбойникову и нерешительно протянул ему руку.
– Ты, брат, кажется, на меня дуешься? Прости, ежели что, сам знаешь – такое дело.
Семиразбойников приложил платок к глазам.
– Бог с тобой, зла я тебе не желаю. Желаю тебе удачи.
Оба расцеловались, минута была трогательная.
– Прощайте, братцы! – с искусственной бодростью крикнул Попляшихин, взбираясь на какое-то креслице сзади верзилы и путаясь в целом лабиринте проволок.
Верзила обернулся к своему спутнику и туго завязал ему глаза носовым платком.
Пропеллер бешено вертелся, мы кричали, а Попляшихин сидел такой бледный, что лицо и платок были одного цвета.
– Отпускайте! – скомандовал пилот. – Летим.
Мы зашли сзади, уцепились за хвост аэроплана и протащили его несколько шагов.
Потом подошли вплотную к гордо сидевшему на своём кресле верзиле и стали слушать.
Заглушаемый шумом пропеллера, верзила орал во всё горло, обернувшись назад:
– Тридцать метров над землёй… сорок… пятьдесят… Что вы чувствуете?
– Страшно, – прохрипел Попляшихин.
– Бодритесь, это только начало.
– Где мы сейчас?
– Мы пролетаем над какой-то деревушкой. Люди, как клопы, ползут по дорожкам. Церковь кажется серебряным напёрстком. Держитесь, сейчас будет порыв ветра.
Мы с Семиразбойниковым поднялись на цыпочки и стали дуть на Попляшихина, а потом сорвали с него шапку и отступили.
IV
Тот человек, который благословлял его, взял с земли тряпку и мазнул Попляшихина по лицу.
– Ой, что это? – закричал тот.
– Птица ударилась, – ответил пилот, – не смущайтесь, сейчас мы пролетаем над рекой. Лодки кажутся щепочками, а паруса – обрывками бумажек. На западе собирается туча. Кажется, будет дождь. Ах, чёрт возьми, на меня уже упало несколько капель!
Семиразбойников притащил садовую лейку и, взобравшись мне на плечи, стал щедро поливать трясущегося журналиста.
– Вода!
– Не вода, а дождь. Он сейчас, впрочем, перестанет.
– А… где мы теперь?
– Двести двадцать метров. Вдали виден какой-то город.
– Две-сти? Спускайтесь, ради бога, спускайтесь! Тут нет воздуха… Я задыхаюсь.
– Понятно, – проревел верзила, – наверху разреженная атмосфера! Приготовьтесь, спускаемся!..
Попляшихин судорожно уцепился за планки аэроплана, молчаливый, со сжатыми зубами, а Семиразбойников поднялся сзади на цыпочках и стукнул товарища кулаком по голове.
– Ой!
– Толчок от спуска, – сказал пилот. – Всегда ударяет в голову. Впрочем, поздравляю, спуск прекрасный.
Мы захлопали в ладоши и подняли бешеный крик, а наш фотограф отступил назад и сунул в карман кодак, которым он снимал полёт Попляшихина.
– Браво, молодцы, ребята! Один момент мы думали, что вы не вернётесь. Совершенно из глаз скрылись.
Попляшихин сорвал с глаз повязку, соскочил с аэроплана и очутился в объятиях друзей.
Семиразбойников приблизился к нему и протянул ему руку.
– Поздравляю, – тихо, сконфуженно сказал он. – Я думал о вас хуже. Вы не трус и держали себя прекрасно.
– А вы знаете, совсем не страшно было. Только какая-то птица шваркнулась о мою физиономию. Дождь тоже потом мочил. А впрочем, пустяки!
– Да, – сказал горячо Семиразбойников, – только с помощью таких отважных и безрассудно-смелых людей и совершается завоевание воздуха.
– Урра, Попляшихин!
Попляшихин подошёл к великовозрастному верзиле и обнял его.
– Без вас мне никогда не сделать бы этого.
– О, что вы, право! – покраснел скромный верзила.
V
Всякий интересующийся воздухоплаванием мог прочесть на следующий день в газетах:
Полёт журналиста Попляшихина
Вчера мне удалось достичь того, о чем тысячи людей только мечтают…
Я поднялся на аэроплане. Удивительная вещь: как только я уселся на своё место, в душу закрался жуткий, предательский страх, но стоило только отделиться от земли, как страх исчез и уступил место какому-то странному спокойствию и лёгкости…
Ветер свистал в ушах, фуражку рвало с головы, но это происходило не со мной, а где-то далеко-далеко. Перед глазами развёртывалась великолепная панорама. Вот внизу, под ногами, какая-то деревушка. Церковь кажется серебряным напёрстком, а люди – жалкими, мизерными клопами.
Мы пролетаем над рекой… Что это, какие-то щепочки? Нет, это лодки. А на них что – лоскутки бумаги? Да ведь это же паруса!
Пилот кричит:
– Пятьсот метров, шестьсот, семьсот!
В ушах шум, дышать затруднительно, я прошу спуститься.
Несколько минут молчания, сильный толчок, больно отразившийся в голове, – и мы снова на земле, среди восторженно приветствовавших нас друзей…
И кажется, будто это был сон! будто греза о невозможном, несбыточном. Но нет – это не сон! Щека болит от удара крылом налетевшей птицы, и мокрое от дождя платье липнет к телу. А сердце неумолчно стучит:
«Свершилось – воздух завоеван».
VI
Статья Попляшихина появилась в газете 12-го числа. А 13-го в другой газете, конкурирующей с попляшихинской, появилось подробное описание всех стадий полёта Попляшихина, иллюстрированное фотографическими снимками.
На снимках ясно было видно – какой дождь мочил Попляшихина, какая птица задела его крылом и какой ветер сорвал с него фуражку.
Все боялись, что Попляшихин повесится. Но он только запил.
Мой сосед по кровати
Гостей на этой даче было так много, что я не всех знал даже по фамилиям. В 2 часа ночи вся эта усталая, нашумевшая за день компания стала поговаривать об отдыхе. Выяснилось, что ночевать остаются восемь человек – в четырех свободных комнатах.
Хозяйка дома подвела ко мне маленького приземистого человечка из числа остающихся и сказала:
– А вот с вами в одной комнате ляжет Максим Семеныч.
Конечно, я предпочел бы иметь отдельную комнату, но по осмотре маленького незнакомца решил, что если уж выбирать из нескольких зол, то выбирать меньшее.
– Пожалуйста!
– Вы ничего не будете иметь против? – робко осведомился Максим Семеныч.
– Помилуйте… Почему же?
– Да видите ли… Потому что компаньон-то я тяжелый…
– А что такое?
– Человек я пожилой, неразговорчивый, мрачный, все больше в молчанку играю, а вы паренек молодой, небось душу перед сном не прочь отвести, поболтать об этом да об том?
– Наоборот. Я с удовольствием помолчу. Я сам не из особенно болтливых.
– А коли так, так и так! – облегченно воскликнул Максим Семеныч. – Одно к одному, значит. Хе-хе-хе…
Когда мы пришли в свою комнату и стали раздеваться, он сказал:
– А ведь знаете, есть люди, которые органически не переносят молчания. Я потому вас и спросил давеча. Меня многие недолюбливают за это. Что это, говорят, молчит человек, ровно колода…
– Ну, со мной вы можете не стесняться, – засмеялся я.
– Ну, вот спасибо. Приятное исключение…
Он снял один ботинок, положил его под мышку, погрузился в задумчивость и потом, улыбнувшись, сказал:
– Помню, еще в моей молодости был случай… Поселился я со знакомым студентом Силантьевым в одной комнате… Ну, молчу я… день, два – молчу… Сначала он подсмеивался надо мной, говорил, что у меня на душе нечисто, потом стал нервничать, а под конец ругаться стал… «Ты что, – говорит, – обет молчания дал? Чего молчишь, как убитый?» – «Да ничего», – отвечаю. «Нет, – говорит, – ты что-нибудь скажи!» – «Да что же?» Опять молчу. День, два. Как-то схватил он бутылку да и говорит: «Эх, – говорит, – с каким бы удовольствием трахнул тебя этой бутылкой, чтобы только от тебя человеческий голос услышать». А я ему говорю: «Драться нельзя». Помолчали денька три опять. Однажды вечером раздеваемся мы перед сном, вот как сейчас, а он как пустит в меня сапогом! «Будь ты, – говорит, – проклят отныне и до века. Нет у меня жизни человеческой!.. Не знаю, – говорит, – в гробу я лежу, в одиночной тюрьме или где. Завтра же утром съезжаю!» И что же вы думаете? – Мой сосед тихо засмеялся. – Ведь сбежал. Ей-богу, сбежал.
– Ну, это просто нервный субъект, – пробормотал я, с удовольствием ныряя в холодную постель.
– Нервный? Тогда, значит, все нервные! Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня такая невеста была. Сначала говорила мне: «Мне, – говорит, – нравится, что вы такой серьезный, положительный, не болтун». А потом, как только приду – уже спрашивать начала: «Чего вы все молчите?» – «Да о чем же говорить?» – «Как! Неужели не о чем? Что вы сегодня, например, делали?» – «Был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал». – «Мне, – говорит, – страшно с вами. Вы все молчите…» – «Такой уж, – говорю, – я есть – таким меня и любите». Да где там! Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сиди-ит, разливается! Я, говорит, видел и то и се, бывал и там и тут, и бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, и со значением или без значения? И сколько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно… А она все к нему так и тянется, так и тянется… Мне-то что… сижу – молчу. Юнкер на меня косо посматривает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться… Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. «Вам, – говорит, – чего тут надо?» – «Как чего? Марью Петровну хочу видеть». – «Пошел вон! – говорит мне этот проклятый юнкеришка. – А то я, – говорит, – тебя так тресну, если будешь еще шататься». Хотел я возразить ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери: «Вы мне, – говорит, – не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму, какая разница…» Дура! Взял я да ушел.
Я сонно засмеялся и сказал:
– Да-а… История! Ну, спокойной ночи.
– Приятных снов! Вообще, у мужчины хотя логика есть по крайней мере. А женщина иногда так себя поведет… Дело прошлое – можно признаться – был у меня роман с одной замужней женщиной… И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно! За то, видите ли, «что я очень молчалив и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюся»… Три дня она меня только и вытерпела… Взмолилась: «Господи, Создатель! – говорит. – Пусть лучше будет вертопрах, хвастунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, – говорит, – со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, – говорит, – и чтобы мои глаза тебя не видели отныне и до века!» И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях… Вот тебе и разговорчивость! После скандал вышел.
– Действительно, – поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки. – Ну, спите! Вы знаете, уже половина четвертого.
– Ну? Пора на боковую.
Он неторопливо снял второй сапог и сказал:
– А один раз даже незнакомый человек на меня освирепел… Дело было в поезде, едем мы в купе, я, конечно, по своей привычке, сижу молчу…
Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню.
– …Он сначала спрашивает меня: «Далеко изволите ехать?» – «Да». – «То есть как – да?»…
– Хррр-пффф!
– Гм! Что он, заснул, что ли? Спит… Ох, молодость, молодость. Этот студент бывало тоже, что со мной жил… Как только ляжет – сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать… Со мной-то не наговоришься – хе-хе!
Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал:
– Вы говорите, что вы такой неразговорчивый. Однако теперь этого сказать нельзя.
Он недоумевающе повернулся ко мне:
– Почему?
– Да вы без умолку рассказываете.
– Я к примеру рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди… Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается: «Грешен?» – «Грешен». – «А чем?» – «Мало ли!» – «А все-таки?» – «Всем грешен». Молчим. Он молчит, я молчу. Наконец…
– Слушайте! – сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели. – Сколько бы вы ни говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю! И чем вы больше мне будете рассказывать – тем хуже.
– Почему? – спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет. – Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор… Зовет меня к себе… Настроение у него, очевидно, было самое хорошее… «Ну, что, – спрашивает, – новенького?» – «Ничего». – «Как ничего?» – «Да так – ничего!» – «То есть позвольте… Как это вы так мне…»
– Я сплю! – злобно закричал я. – Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи!
Он развязал галстук.
– Спокойной ночи. «…Как это вы так мне отвечаете, – говорит, – ничего! Это невежливо!» – «Да как же иначе вам ответить, если нового ничего. Из ничего и не будет ничего. О чем же еще пустой разговор мне начинать, если все старое!» – «Нет, – говорит, – все имеет свои границы… можно, – говорит, – быть неразговорчивым, но…»
Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая, мягкая шуба, покрыл собою все.
* * *
Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза.
Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеныча, свернувшегося под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок:
– «Я, – говорит, – буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного, безгласного идола. Ну, чего, чего вы молчите?» – «Да о чем же мне, Липочка, говорить?»
Что им нужно
I
Надгробный памятник напоминает мне пресс-папье на столе делового человека. Такое пресс-папье служит для удерживания бумаг на одном месте. Мне кажется, что и первоначальная идея надгробного памятника заключалась в том, чтобы хорошенько придавить сверху беззащитного покойника и тем лишить его возможности выползать иногда из могилы, беспокоя близких друзей своими необоснованными визитами.
Поэтому, вероятно, постановка над трупом предохранительного пресс-папье – всегда дело рук близких друзей.
Я противник надгробных памятников, но если один из них когда-нибудь по настоянию моих друзей придавит меня – я не хотел бы, чтобы на нем красовались какие-либо пышные надписи, вроде: «Он умер, но он живет в сердцах», «Хватит ли океана слез, чтобы оплакать тебя?», «Бодрствуй там!», «Жил героем, умер мучеником»…
Я не хочу таких надписей.
Пусть на моем памятнике высекут четыре слова:
«Здесь лежит деликатный человек».
* * *
Злое чувство к той женщине, которую я любил, зародилось во мне таким образом: мы сидели с ней в гостиной, она рисовала карандашом в альбоме домик, в трубу которого кто-то, вероятно, с целью откупорить это странное здание, ввинтил штопор. На мой рассеянный вопрос о цели штопора художница ответила «дым» и немедленно пририсовала к домику поставленную на земле гребенку зубьями вверх.
Я сидел и думал: завтра нужно идти в театр, а моя горничная едва ли догадалась отдать в стирку белый жилет.
– О чем вы думаете? – спросила, глядя вдаль загадочным взором, хозяйка.
– Я? Так, знаете… Взгрустнулось что-то.
– Да… Я в последнее время замечаю, что вам как-то не по себе.
Это было верно. Третьего дня меня весь вечер терзало сомнение – запер ли я на ключ входную дверь моей квартиры, а вчера я получил письмо от отца с кратким уведомлением, что «такие ослы, как я, не могут рассчитывать на получение от него денежных сумм».
– Что же с вами такое?
– Так, знаете… Есть вещи, в которых не признаешься и близкому другу.
– Вы, может быть, влюблены?
– Ох, не будем об этом говорить…
– Да? По глазам вижу, угадала. А она… Отвечает она вам тем же?
– Не знаю… – рассеянно вздохнул я.
– Отчего же вы ее не спросите?
– Кого?
– Да эту женщину.
– Какую?
– В которую вы влюблены.
– Почему не спрошу?
– Да.
– Неловко…
Она нервно отвернулась от меня и взялась за карандаш, а я погрузился в размышления: если жилет был надет один раз – может он считаться свежим или нет?
Сзади шею мою обвили две ласковые теплые руки, и дрожащий голос хозяйки прошептал:
– Если ты, дурачок, не решаешься ее спросить, она тебе сама скажет: «Люблю!»
Первым моим побуждением было – подавить крик удивления и испуга… Я встал с кресла, обнял талию хозяйки и вежливо вскричал:
– Милая! Какое счастье!.. Наконец-то…
«Ничего, – подумал я, – теперь не люблю – после полюблю. Как говорится, стерпится-слюбится. Она, в сущности, хорошенькая».
Со своей стороны она тоже взяла мою голову и крепко прижала к своей груди, на которой красовалась брош ка—выложенное рубинами ее имя «Наташа». Рубины впились в мою щеку и выдавили на ней странное слово «ашатан».
«Ну, – подумал я, – кончено! На мне оттиснут даже ее торговый знак, ее фабричная марка. Я принадлежу ей – это ясно».
II
Недавно Наташа сказала мне:
– А сегодня ко мне заезжал офицер Каракалов, мой старый знакомый.
– Ну, – сказал я. – Симпатичный?
– Очень.
– Да… Между офицерами иногда встречаются чрезвычайно симпатичные люди.
Мы помолчали.
– Он, кажется, до сих пор влюблен в меня.
– Да? Ну а ты что же?
– Я к нему раньше тоже была неравнодушна. Он такой жгучий брюнет.
– Вот как, – рассеянно сказал я. – Иногда, действительно, эти брюнеты бывают… очень хорошие. Ты скоро начнешь одеваться? Через час уже начало концерта.
Она заплакала.
– Что ты? Милая! Что с тобой?..
– Ты меня не любишь… Другой бы уж давно приревновал, сцену устроил, а ты, как колода, все выслушал… Сидишь, мямлишь… Нет, ты меня… не любишь!
– Честное слово, люблю! – сконфуженно возразил я. – Чего там, в самом деле. Право же, люблю.
– Человек… который… любит… Он слышать равнодушно не может… если его любовница… обратила внимание на другого мужчину…
– Милая! Да мне тяжело и было. Ей-Богу… Я только молчал… А на самом деле мне было чрезвычайно тяжело.
Когда мы ехали в концерт, я был задумчив.
Раздеваясь у вешалки, я обратил внимание на легкий поклон, сделанный Наташей какому-то рыжеусому толстяку.
– Кто это? – спросил я.
– Это наш домовладелец, Я у него снимаю квартиру.
– Сударыня, – угрюмо сказал я. – Чтобы этого больше не было!
Она удивилась.
– Чего-о?
– Чего? У, подлая тварь! Я видел, как ты на него посмотрела… Это, наверное, твой любовник!
– Да нет же! Дорогой мой… Я этого толстяка едва знаю. Мы с ним раза два всего и беседовали по поводу ремонта.
– Ремонта? У-у змея? Ремонта? Я бы тебя задушил своими руками. Мне говоришь, что любишь только меня, а в то же время…
Ее глаза засияли восторгом, и лицо просветлело.
– Милый мой, сокровище! Ты меня ревнуешь? Значит, любишь?..
– Я вас теперь ненавижу. А этому субъекту, если я его встречу, я дам такую пощечину, что он узнает, где раки зимуют. Я вам покажу себя.
Отделавшись от этой обязанности, я взял Наташу под руку, и мы вошли в зал.
Не успели мы сесть, как я стал выказывать все признаки беспокойства: вертел головой, ерзал на месте и злобно шипел.
– Что с тобой, дружочек?
– Я этого не допущу-с! Вот тот молодец в смокинге очень внимательно на тебя посматривает.
– Ну, Бог с ним! Какое нам до него дело…
– Да-с? «Бог с ним?» Усыпить мою бдительность хотите? Успокоить дурака, а потом за его спиной надувать его. Благодарю вас. Я не желаю носить этих украшений, которые…
– Но уверяю тебя, милый, что я даже не знаю, о ком ты говоришь.
Я саркастически засмеялся.
– Не знает? А сама уже, наверное, ему записочку приготовила.
– Какую записочку, что ты, мое солнце! На, посмотри, у меня руки пустые…
– Ты ее в чулок спрятала!
– Да когда бы я ее написала?
– Когда с тебя снимали ротонду. Тебе это даром не пройдет!
– Милый! Милый!
И опять лицо ее сияло гордостью и восторгом.
III
…Мы гуляли по парку. Наташа бросила на меня косой взгляд и сказала с деланным равнодушием:
– А я сегодня утром по Набережной каталась.
– Одна?
– Не одна.
– А с кем?
– Да зачем тебе это?
– Отвечай! – скучающим голосом крикнул я. – Я хочу это знать!
– Не скажу, – засмеялась Наташа. – Ты разозлишься.
– Ах, так? – вскричал я, скрежеща зубами. – У-у, гадина! Так я знаю: ты каталась с новым любовником.
Скрытая усмешка промелькнула в Наташиных глазах.
– Ну уж, ты скажешь тоже – любовник. Если мы с ним, с этим художником, несколько раз поцеловались…
– А-а! – взревел я раскатами громогласного вопля, будя свое равнодушие и врожденную кротость. – Ты осмелилась? Негодная! Хорошо же!.. Если я еще раз увижу тебя не одну я знаю, что сделаю!
– А что, что, что? – дрожа от лихорадочного любопытства, крикнула Наташа.
– Я сейчас же повернусь и уйду от тебя. Больше ты меня не увидишь..
Наташа опустилась на скамью и заплакала.
– Голубка моя! Наташа?.. Что с тобой? Почему?
– Ты… меня… не любишь, – заливаясь слезами, прошептала Наташа. – Другой за такую ужасную вещь избил бы меня, поколотил, а ты покричал, покричал, да и успокоился…
– Дорогая моя! Как же так можно бить женщину?
– Можно! Можно! Можно! Есть случаи, когда любящий человек себя не помнит.
Я пожалел, что в этот момент не было такого случая, который лишил бы меня памяти и рассудка…
– Конечно, – колеблясь, возразил я, – бывают и у меня такие случаи, когда я себя не помню, но дело в том, что теперь я сразу догадался…
– О чем? – улыбаясь сквозь слезы, спросила она.
– Что история с художником выдумана тобой, что ты просто хочешь меня подразнить.
– Нет, не выдумана. Вот каталась с ним – и каталась. Целовались – и целовались!
– А-а, – бешено вскричал я, хватая ее за руку с таким расчетом, чтобы не сделать синяка. – Это правда?! Так вот же тебе!
Я осторожно схватил ее за горло и, выбрав место, где трава росла гуще, бросил ее на землю.
Лежа на боку, она смотрела на меня взглядом, в котором сквозь слезы светилась затаенная радость.
– Ты… меня… бьешь?
– Молчи, жалкая распутница! Или я задушу тебя!!
Я опустился около нее на колени и, обняв ее шею пальцами, слегка сжал их.
«Надо бы ударить ее, – подумал я, – но в какое место?»
Вся она казалась такой нежной, хрупкой, что даже легкий удар мог причинить ей серьезный ущерб.
– Вот тебе! Вот, змея подколодная! Один удар пришелся ей по руке, другой по траве…
Наташа сидела на земле и плакала радостными слезами.
– Ты меня… серьезно… поколотил?
– Конечно, серьезно. Я чуть не убил тебя.
Она встала, оправила платье и сказала с хитрой усмешкой:
– Ты ничего не будешь иметь против, если ко мне сегодня вечером приедет Каракалов?
Я ленивым движением схватил ее за руку, бросил на землю и с искусством опытного оператора ударил два раза по спине и раз по щеке.
– Чуть не убил тебя. Ну, вставай. Пойдем домой – делается сыро.
* * *
В последнее время у нас с Наташей происходят страшные сцены, что иногда вызывает даже вмешательство соседей.
Мы возвращаемся из театра или с прогулки; я, не успев раздеться, бросаю Наташу на ковер, душу ее подушкой или колочу из всей силы по спине с таким расчетом, чтобы не переломать ей позвонков. Она кричит, молит о пощаде, клянется, что она не виновата, и на этот шум сбегаются соседи.
– С ума вы сошли, – говорят они в ужасе. – Вы не интеллигентный человек, а бешеный зверь.
* * *
Так и будет стоять на памятнике:
«Здесь лежит деликатный человек».