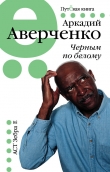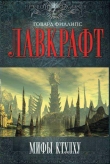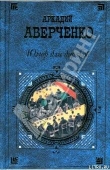Текст книги "Том 3. Чёрным по белому"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Экзаменационная задача
Когда учитель громко продиктовал задачу, все за писали ее, и учитель, вынув часы, заявил, что дает на решение задами двадцать минуть, – Семен Панталыкин провел испещренной чернильными пятнами ладонью по круглой головенке и сказал сам себе:
– Если я не решу эту задачу – я погиб!.. У фантазера и мечтателя Семена Панталыкина была манера – преувеличивать все события, все жизненные явления и, вообще, смотреть на вещи чрезвычайно мрачно.
Встречал ли он мальчика больше себя ростом, мизантропического сурового мальчика обычного типа, который, выдвинув вперед плечо и правую ногу и оглядевшись – нет ли кого поблизости, – ехидно спрашивал: «Ты чего задаешься, говядина несчастная?», – Семен Панталыкин бледнел и, видя уже своими духовными очами призрак витающей над ним смерти, тихо шептал:
– Я погиб.
Вызывал ли его к доске учитель, опрокидывал ли он дома на чистую скатерть стакан с чаем – он всегда говорил сам себе эту похоронную фразу
– Я погиб.
Вся гибель кончалась парой затрещин в первом случае, двойкой – во втором и высылкой из-за чайного стола – в третьем.
Но так внушительно, так мрачно звучала эта похоронная фраза: «Я погиб», – что Семен Панталыкин всюду совал ее.
Фраза, впрочем, была украдена из какого-то романа Майн-Рида, где герои, влезши на дерево по случаю наводнения и ожидая нападения индейцев – с одной стороны и острых когтей притаившегося в листве дерева ягуара – с другой, – все в один голос решили:
– Мы погибли.
Для более точной характеристики их положения необходимо указать, что в воде около дерева плавали кайманы, а одна сторона дерева дымилась, будучи подожженной молнией.
* * *
Приблизительно в таком же положении чувствовал себя Панталыкин Семен, когда ему не только подсунули чрезвычайно трудную задачу, но еще дали на решение её всего-на-всё двадцать минут.
Задача была следующая:
«Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт Б, при чем один из них делал в час четыре версты, а другой пять. Спрашивается, насколько один крестьянин придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б такое же расстояние в верстах, – сколько получится, если два виноторговца продали третьему такое количество бочек вина, которое дало первому прибыли, сто двадцать рублей, второму восемьдесят, а всего бочка вина приносить прибыли сорок рублей».
Прочтя эту задачу, Панталыкин Семен сказал сам себе:
– Такую задачу в двадцать минуть? Я погиб!?
Потеряв минуты три на очинку карандаша и на наиболее точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он собирался развернуть свои «математические способности», – Панталыкин Семен сделал над собой усилие и погрузился в обдумывание задачи.
Бедный Панталыкин Семен! Ему дали отвлеченную математическую задачу в то время, как он сам, целиком, весь, с головой и ногами, жил только в конкретных образах, не постигая своим майн-ридовским умом ничего абстрактного.
Первым долгом ему пришла в голову мысль:
– Что это за крестьяне такие: «первый» и «второй»? Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни его сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми человеческими именами?
Конечно, Иваном или Василием их можно и не называть (инстинктивно он чувствовал прозаичность, будничность этих имен), но почему бы их не окрестить – одного Вильямом, другого Рудольфом.
И сразу же, как только Панталыкин перекрестить «первого» и «второго» в Рудольфа и Вильяма, оба сделались ему понятными и близкими. Он уже видел умственным взором белую полоску от шляпы, выделявшуюся на лбу Вильяма, лицо которого загорело от жгучих лучей солнца… А Рудольф представлялся ему широкоплечим мужественным человеком, одетым в синие парусиновые штаны и кожаную куртку из меха речного бобра.
И вот – шагают они оба, один на четверть часа впереди другого…
Панталыкину пришел на ум такой вопрос:
– Знакомы ли они друг с другом, эти два мужественных пешехода? Вероятно, знакомы, если попали в одну и ту же задачу… Но если знакомы – почему они не сговорились идти вместе? Вместе, конечно, веселее, а что один делает в час на версту больше другого, то это вздор – более быстрый мог бы деликатно понемногу сдерживать свои широкие шаги, а медлительный мог бы и прибавить немного шагу. Кроме того, и безопаснее вдвоем идти – разбойники ли нападут или дикий зверь…
Возник еще один интересный вопрос:
– Были у них ружья или нет?
Пускаясь в дорогу, лучше всего захватить ружья, которые даже в пункт Б могли бы пригодиться, в случае нападения городских бандитов – отрепья глухих кварталов.
Впрочем, может быть, пункт Б – маленький городок, где нет бандитов?…
Вот опять тоже – написали: пункт А, пункт Б… Что это за названия? Панталыкин Семен никак не может представить себе городов или сел, в которых живут, борются и страдают люди, – под сухими бездушными литерами. Почему не назвать один город Санта-Фе, а другой – Мельбурном?
И едва только пункт А получил название Санта-Фе, а пункт Б быль преобразован в столицу Австралии, – как оба города сделались понятными и ясными… Улицы сразу застроились домами причудливой экзотической архитектуры, из труб пошел дым, по тротуарам за двигались люди, а по мостовым забегали лошади, неся на своих спинах всадников – диких, приехавших в город за боевыми припасами, вакеро и испанцев, владельцев далеких гациенд…
Вот в какой город стремились оба пешехода – Рудольф и Вильям…
Очень жаль, что в задаче не упомянута цель их путешествия? Что случилось такое, что заставило их бросить свои дома и спешить, сломя голову, в этот страшный, наполненный пьяницами, карточными игроками и убийцами, Санта-Фе?
И еще – интересный вопрос: почему Рудольф и Вильям не воспользовались лошадьми, а пошли пешком? Хотели ли они идти по следам, оставленным кавалькадой гверильясов, или просто прошлой ночью у их лошадей таинственным незнакомцем были перерезаны поджилки, дабы они не могли его преследовать, – его, знавшего тайну бриллиантов Красного Носорога?…
Всё это очень странно… То, что Рудольф вышел на четверть часа позже Вильяма, доказывает, что этот честный скваттер не особенно доверял Вильяму и в данном случае решил просто проследить этого сорви голову, к которому вот уже три дня под ряд пробирается ночью на взмыленной лошади креол в плаще.
…Подперев ручонкой, измазанной в мелу и чернилах, свою буйную, мечтательную, отуманенную образами, голову – сидит Панталыкин Семен.
И постепенно вся задача, весь её тайный смысл вырисовывается в его мозгу.
* * *
Задача:
…Солнце еще не успело позолотить верхушек тамариндовых деревьев, еще яркие тропические птицы дремали в своих гнездах, еще черные лебеди не выплывали из зарослей австралийской кувшинки и желто цвета, – когда Вильям Блокер, головорез, наводивший панику на всё побережье Симпсон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной тропинке… Делал он только четыре версты в час – более быстрой ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом широколиственной магнолии.
– Каррамба! – бормотал Вильям. – Если бы у старого Биля была сейчас его лошаденка… Но… пусть меня разорвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не пройдет и трех лун!
А сзади него в это время крался, припадая к земле, скваттер Рудольф Каутерс, и его мужественные брови мрачно хмурились, когда он рассматривал, припав к земле, след сапога Вильяма, отчетливо отпечатанный на влажной траве австралийского леса.
– Я бы мог делать и пять верст в час (кстати, почему не «миль» или «ярдов?»), – шептал скваттер, – но я хочу выследить эту старую лисицу.
А Блокер уже услышал сзади себя шорох и, прыгнув за дерево, оказавшееся эвкалиптом, притаился…
Увидев ползшего по трав Рудольфа, он приложился и выстрелил.
И, схватившись рукой за грудь, перевернулся честный скваттер.
– Хо-хо! – захохотал Вильям. – Меткий выстрел. День не пропал даром, и старый Биль доволен собой…
* * *
– Ну, двадцать минуть прошло, – раздался, как гром в ясный погожий день, голос учителя арифметики. – Ну что, все решили? Ну, ты, Панталыкин Семен, покажи: какой из крестьян первый пришел в пункт Б.
И чуть не сказал бедный Панталыкин, что, конечно, в Санта-Фе первым пришел негодяй Блокер, потому что скваттер Каутерс лежит с простреленной грудью и предсмертной мукой на лице, лежит, одинокий в пустыне, в тени ядовитого австралийского «змеиного дерева»!..
Но ничего этого не сказал он. Прохрипел только: «не решил… не успел…».
И тут же увидел, как жирная двойка ехидной гадюкой зазмеилась в журнальной клеточке против его фамилии.
– Я погиб, – прошептал Панталыкин Семен. – На второй год остаюсь в классе. Отец выдерет, ружья не получу, «Вокруг Света» мама не выпишет…
И представилось Панталыкину, что сидит он на развалине «змеиного дерева»… Внизу бушует разлившаяся после дождя вода, в воде щелкают зубами кайманы, а в густой листве прячется ягуар, который скоро прыгнет на него, потому что огонь, охвативший дерево, уже подбирается к разъяренному зверю…
Я погиб!
Актриса
Один из поклонников драматической актрисы Синекудровой однажды, исчерпав все темы салонных разговоров, спросил ее:
– А откуда вы родом, Марья Николаевна?
– Ах, вы не поверите, – оживилась Марья Николаевна, заламывая руки за голову. – Из Калиткина! Ни более, ни менее… Есть такой городок в Юго Западном крае… Верст четыреста отсюда. Ах, мой милый, милый Калиткин!
Вид у Марьи Николаевны был умиленный.
– Господи! Вот вспомнила я о нем – и сладко сжалось мое сердце… Девочкой пятнадцати лет уехала я оттуда и вот уже не была там лет двадц… что я, дура, говорю!.. Лет двенадцать не была я в этом милом городишке. Да. Или десять.
– Большой город? – спросил поклонник. В связи с этим вопросом он поцеловал и погладил руку Марьи Николаевны…
– Нет, крошечный… Вот такой…
– Уехали вы оттуда маленькой девочкой, – задумчиво сказал поклонник, прикладываясь губами, в связи с этим замечанием, к розовому, как лепесток цветка, локтю Марьи Николаевны. – Уехали маленькой девочкой, а приедете большой, взрослой женщиной.
Это замечание поразило Марью Николаевну.
– А ведь действительно! Уехала маленькой, а приеду большой…
– Если соберетесь ехать, возьмите и меня. И я вспомню с вами ваше детство.
И, как солидная казенная бумага скрепляется печатью, – так и поклонник подкрепил свой совет поцелуем в плечо.
– Оставьте! На нас смотрят. Чего же я ни с того, ни с сего туда поеду?…
– А вы там спектакль дайте. Как раз на будущей неделе ваш театр сдается на три дня под гастроли итальянской оперы – и вы свободны. Идея, а? Подумайте, какой шум будет в этом Калиткине! – «Известная драматическая артистка Синекудрова, уроженка нашего города – дает только один спектакль».
При слове «уроженка» поклонник поцеловал ладонь Марьи Николаевны, чем в достаточной мере подчеркнул многозначительность этого слова.
– Да с кем же я спектакль устрою?
– Господи! Да с товарищами же! Ведь они тоже свободны.
– Калиткин, Калиткин, милый мой городишка… – умиленно прошептала Марья Николаевна. – Я, кажется, на старости лет становлюсь сентиментальной. Разве поехать?
– О, солнце мое! И я с вами!!
И впервые, вероятно, за всё время существования солнечной системы, с солнцем было поступлено так фамильярно: солнце было поцеловано в сгиб руки, у локтя.
В пути было чрезвычайно весело: чувствовалось, что это не деловая поездка, а приятный шумный пикник. И весь вагон был наполнен пением, смехом и визгом.
Одна Марья Николаевна, по мер приближения к Калиткину, делалась всё тише, просветленнее и как-то кротко-самоуглубленнее.
Она всем ласково улыбалась и чувствовала себя, при этом, маленькой десятилетней девочкой.
– О, как я вас понимаю, – шептал ей увязавшийся-таки за всеми в поездку поклонник. – Вы себя должны чувствовать девочкой.
В связи с этим он чмокнул ее в плечо.
– Оставьте, смотрят, – лениво отмахнулась Марья Николаевна, – Так вы же чувствуете себя маленькой девочкой, а детей можно целовать.
Видно было, что этот шустрый поклонник знал тысячу разных уверток, и уж его бы на этой почве Марья Николаевна никогда не переспорила.
– Всё-таки… нельзя же так целоваться. Что подумают актеры!
– Актеры сейчас едят ветчину с горчицей, а когда актеры едят ветчину с горчицей – они не думают.
– Ну, разве что. И откуда вы всё это так хорошо знаете?…
Приехали около трех часов дня. Кое-кто бросился к извозчикам, но Марья Николаевна запротестовала.
– Нет, нет! Багаж пусть отвезут в гостиницу, а мы пойдем пешком. Так приятно окунуться в детство.
– И мне тоже, – сказал приютившийся сбоку поклонник. – И я тоже хочу окунуться.
Сделал он это так: поцеловал руки Марьи Николаевны.
И все – числом восемь человек – побрели пешком.
Шли сзади Марьи Николаевны, из уважения к ней немного сосредоточенные, – из уважения к ней сдерживая веселье и вежливо осматривая маленькие покосившиеся домишки.
– Смотрите! – сказала поклоннику Марья Николаевна. – Вот на этой улице я покупала сладкие рожки. Знаете, что это такое? Рожки… Тут они были особенно сладкие.
– Неужели? – удивился поклонник и, как парень не промах, прижал локоть Марьи Николаевны к своему.
– А вот здесь меня один мальчишка, когда я шла из училища, камнем в ногу ударил.
– Какой подлец, – проревел поклонник. – Экие канальи! Вешать их мало! А? Как вам нравится! Камнем в ногу! Ну, попался бы он мне…
– Да, да… Мне тогда было лет десять. Я еще, помню, остановилась у этого домика и – плачу, плачу, плачу, а какой-то лавочник вышел, дал мне две мармеладины и успокоил меня.
Поклонник задрожал от восхищения.
– Какой симпатичный лавочник! Смотрите-ка! Приласкал мое милое солнышко! С каким бы удовольствием я пожал ему руку, этому честному торговцу.
– Ну, где там… Он уже, наверное, умер.
– Царство же ему небесное! – прошептал поклонник, благоговейно целуя руку Марьи Николаевны.
– А это вот домик, где, кажется, жил наш дьякон. Смотрите-ка!
– Ага… Да, да. Действительно. Хороший домик. Ишь ты, какая труба!.. И дым идет. Очень мило.
– Я всё боялась тут ходить. По этой улице бродила какая-то полоумная нищенка, всё прыгала на одной ноге и грозила мне пальцем.
– А? Как это вам понравится! – возмущенно пожал плечами поклонник. – Вот она, наша полиция! Взятки брать мастерица, а что нищенство у неё под самым носом развернулось пышным махровым цветком – на это ей наплевать. Эх, режим!
На лице его было написано страдание.
Вышли на какую-то крохотную площадь, посредине которой сверкала еще не совсем просохшая после дождя лужа. Площадь была окружена маленькими каменными и деревянными домиками с зелеными ставнями, белыми занавесочками на окнах и горшками красных и розовых цветов на подоконниках.
Толстая женщина, положив маленького мальчишку к себе на колено, награждала его методическими шлепками.
Мальчишка, увидя показавшееся на площади пышное общество, открыл широко глаза, впился ими в актеров и совсем позабыл, что ему нужно реветь.
– Ах, не наказывайте этого милого мальчика, – сказала Марья Николаевна. – Он такой хорошенький. Как тебя зовут.
– Епишкой, – ответил мальчик, воткнув в рот палец не первой свежести.
– На тебе, Епиша, гривенничек. Купи себе леденцов!
– Очень милый мальчуган.
По своей привычке отражать все чувства и переживания Марьи Николаевны в чудовищно преувеличенном вид, её поклонник выдвинулся и тут.
– Очаровательный мальчик! Прямо-таки, замечательный, – в экстазе вскричал поклонник.
– Никогда я не встречал таких интересных детей. На тебе, дорогое дитя, три рубля! Купи себе леденчиков.
Марья Николаевна отошла от всех и остановилась в сладкой задумчивости перед кирпичным одноэтажным домиком с красными покосившимися воротами и крохотной калиточкой.
– Вот он, – прошептала она подоспевшему к ней юркому поклоннику, опираясь на его плечо. – Вот место моих детских игр и забав… Вот на этой калитке я любила кататься, схватившись за щеколду. Калитка скрипела, а мне казалось, что это какая-то рыжая птица, я срывалась и бросалась к этой кузнице, которая была излюбленным местом наших сборищ. Мы любили сидеть тут, вот на этих палках… Как они называются? К которым еще лошадей привязывают…
– Коновязь?
– Не знаю, право… Так вот… И кузнец был черный, грубый и всегда кричать нам: «Эх, поджарю я вас, чертенят!» Но только мы его не боялись, потому что он был добрый.
– Гм! – сказал поклонник, – прямо-таки это поразительно.
– А вот это колодец, видите? Я чуть в него не свалилась однажды. Хотела плюнуть в него, перевесилась и… Ах! А вот это – смотрите-ка! В этом домик жила моя подруга Таша Тягина. Боже мой! Ах, мне плакать хочется… Всё, всё тут, как было… И эта будочка, где квас продают – в стене, и эта деревья. Смотрите-ка, я лазила иногда к Таше через этот забор, когда ее наказывали. Видите, в саду там белая постройка – это баня. Ее в баню запирали, а я к ней лазила. Ее родители строго держали.
– Ах, какие мерзавцы! – ахнул старательный, готовый на всё, поклонник. – Повесить их мало! Колесовать таких изуверов.
– Что вы! Они были хорошие люди. И крыльцо таким же осталось!.. Я помню, мы однажды свалились с него вместе с Ташей, и я ударилась виском о такую металлическую штуку, которой с подошв грязь счищают. Видите – вот эта штука до сих пор… И даже грязь на ней засохшая… Милая грязь! А вон – то домик околоточного. Мы его очень боялись, потому что он пьяных бил. А в комнатах у него масса птиц.
– А что, если эта милая, эта очаровательная ваша подруга Таша – еще здесь? – спросил поклонник. – Нельзя ли узнать? Я бы крепко поблагодарил ее за дружбу, которую она питала к вам.
– А это хорошо, знаете! – загорелась Марья Николаевна. – Господи! Это было бы такое счастье.
В это время сгорбленный седой старик показался на крыльце домика, перед которым столпились актеры.
– Вот он, – зашептала Марья Николаевна, хватая поклонника за руку. – Как он постарел. А вот из ворот вышел их работник Веденей. Вот я сейчас его спрошу. Эй, Веденей, милый! Узнаешь ты меня?
Чернобородый Веденей подошел ближе и сказал:
– Чего извольте? А я не Веденей даже.
– Что ты говоришь! Не могла же я забыть твоего имени. Еще ты нас с Ташей на лошади катал.
– Никак нет.
Сгорбленный старик, ковыляя, уже спустился с крыльца и подошел к компании.
– Что им угодно? Чего вы, господа, спрашиваете?
– Николай Егорыч! Вы меня узнаете?
– Простите, вы ошиблись! Я не Николай Егорыч. Извините-с. Я Матвеев-с. Парамон Ильич. Извините!
– Да позвольте! Гм… Странно. Вы, значить, этот дом перекупили у Тягиных?…
– Ничего я не перекупал… Сам-с, простите, по строил.
– Гм! Давно?
– Сорок пять лет-с уже тому.
– Ничего не понимаю! А вы Козяхиных помните? Ваших соседей!.. А? Это моя настоящая фамилия.
– Никаких Козяхиных не знаю, – сказал старик с некоторой даже обидой в голос. – Даром изволите говорить. Занапрасно.
– Ах, ты. Господи! Ведь моего отца вся Мельничная улица знала. Вот, в этом красном домике… Господи. Ведь это всё мое детство!..
– Может-с быть, может-с быть. А только это не Мельничная улица, а Малая Слободская.
– Не понимаю, – растерялась Марья Николаевна… – Неужели? И вы всё время жили в Калитине?
– Никогда-с, сударыня, там не был. Оно хотя Калитин от нашего Сосногорска и в семидесяти верстах – а не случалось бывать.
– Так этот город – не Калитин? – спросил комик.
– Сосногорск, извините… Так уж он у нас и обозначать: Сосногорск. Рановато, сударыня, с поезда слезли. Еще часа два до Калитина.
Все постояли с минуту и потом, повернувшись, пошли к вокзалу. Молчали.
Тысяча первая история о замерзающем мальчике
Был вечер кануна Рождества.
Холод всё усиливался, и ветер дул грубыми бессистемными порывами, морозя нос, щеки и всё, что беззаботный прохожий беззаботно выставлял наружу…
А наверху, над крышами многоэтажных домов, ветер совсем сбесился: он выл, прыгал с крыши на крышу, забирался в дымовые трубы и с новой силой обрушивался вниз.
Беллетрист Вздохов и художник Полторакин бодро шагали по покрытому снегом тротуару, закутанные в теплые шубы.
Оба спешили на елку, устроенную издателем газеты, Сидяевым, оба предвкушали теплую гостиную, сверкающую елку, щебетание детей и тихий смех девушек.
А мороз крепчал.
– Ужасно трудно писать рождественские рассказы, – пробормотал, отвечая сам на какие-то свои мысли, Вздохов. – Пишешь, пишешь – и обязательно или в банальщину ударишься, или таких ужасов накрутишь, что и самому стыдно…
Он приостановился и обернулся к впадине неосвещенного, полузанесенного липким снегом, подъезда.
– Гляди-ка! Что это там?
Приятели приблизились к подъезду и разглядели у дверей чью-то маленькую скорчившуюся фигурку.
– Что это он там?
– Эй, мальчик, как тебя! Что ты тут делаешь?
Тихий плач был им ответом.
Потом лохмотья зашевелились, показалась скрючившаяся от холода красная ручонка, и заплаканное худое лицо мальчика лет девяти обернулось к ним.
– Хол… ло … дддно, – стуча зубами, сказал малютка.
– Экие у него лохмотья, – сочувственно прошептал Полторакин.
Вздохов с задумчивым выражением лица склонился над мальчиком.
Внимательно осмотрел его…
– Полторакин! У нас сегодня какой день-то?
– Сочельник.
– Та-ак. Значить, вечер перед Рождеством?
– Очевидно.
– Так, знаешь, что это такое?
Он носком своего мехового ботика указал на скорчившуюся фигурку.
– Ну?
– Это, – торжественно сказал Вздохов, – замерзающий мальчик!
– Я думаю! Об этом не может быть двух мнений.
– Это, – торжественнее повторил Вздохов, – знаменитый замерзающий в Рождественскую ночь мальчик!! Наконец-то, я увидел тебя воочию, замерзающий мальчик!!..
Оба, наклонившись над ребенком, внимательно его осматривали.
– Да, да! Не может быть сомнений: самый настоящий замерзающий мальчик… И по календарю – нет никакой ошибки. Календарь показывает Рождество.
– Постой, Полторакин… Взгляни-ка на окна фасада. Нет ли здесь где-нибудь зажженной елки?
– Есть! Второй этаж, четвертое, пятое и шестое окна.
Полторакин бросил взгляд на освещенные окна.
– Так. Значить, всё в порядке!
– А что в порядке
– Замерзает у окон с елкой. По шаблону. Странно, – прошептал Вздохов, не слушая его. – Сколько раз читал об этих мальчиках, писал, потом даже сочинял иронический фельетон насчет злоупотребления рождественскими мальчиками. А вижу его в первый раз.
– Ох, эти уж рождественские мальчики, – поморщился Полторакин. – Действительно, стоить только развернуть номер рождественского издания, чтобы непременно наткнуться на этого мальчика в той или другой форме.
– А теперь, в последнее время, стало даже еще хуже, – возразил Вздохов компетентным тоном. – Теперь стали писать юморески и сатиры на увлечение рождественскими мальчиками, и смеялись эти шутники так усердно, что и этот сюжет затаскали.
– Действительно! – улыбнулся Полторакин. – Скажи мы, что нам сегодня, в вечер под Рождество, встретился замерзающий у неосвещенного подъезда мальчик – да ведь нам в глаза рассмеются.
– Вышутят.
– Замахают на нас руками!
– Пожмут плечами!!
– Назовут пошляками.
– А, действительно, какой ужас – банальщина! Ведь вот перед нами настоящий живой…
– Вернее, полуживой!
– Полуживой рождественский мальчик. «Замерзающий мальчик!» Какая в этом образе для литературно изысканного вкуса пошлость! Даже во рту кисло.
– И вот ты возьми: может быть, если бы мы были простыми мужиками или рабочими, которые даже не слыхали о рождественских рассказах, – мы бы подобрали его, обогрели, накормили и, пожалуй, елочку ему соорудили. На тебе, мил человек! Получай удовольствие! А завтра бы проснулся он чистенький, в теплой постельке, и над ним бы склонилось добродушное скуластое лицо бородача-рабочего, который неуклюже пощекотал бы его грубым мозолистым пальцем.
Полторакин насмешливо взглянул на говорившего Вздохова.
– Ого! Импровизация. На тему о замерзавшем и спасенном мальчике?!
– Фу, ты! Действительно, – смущенно рассмеялся Вздохов. – «Сюжетец»! А ты знаешь – я всё могу простить человеку, но не тривиальность! Но не пошлость! Но не шаблон! Пойдем.
– Постой, – несмело остановил его Полторакин, поглядывая на забившегося в угол мальчика. – Не ужели оставить его так? А, может, отвести его куда нибудь?… Обогреть, что ли?… Покормить?… Переодеть, что ли?..
– Так, так, – поморщился Вздохов, будто кто нибудь скрипнул гвоздем по тарелке. – Так, так…
А завтра малютка проснется в теплой постельке, и над ним склонится твое бородатое лицо, и указательный палец неуклюже потянется к подбородку рождественского мальчика, с целью пощекотать оный… «Сюжетец»!..
– Экий ты яд, – пожал сконфуженно плечами художник. – Ну, в таком случае, пойдем.
– То-то. Да! Так о чем я тебе говорил? – О сюжетах же.
– Ну, вот. И имей в виду, что сюжет рассказа такая вещь, которую…
Голоса разговаривающих замолкли в отдалении. Мальчик в углу подъезда тоже замолк. Постепенно его темную фигуру совершенно занесло белым снегом.
И замерз он так, совсем замерз, не подозревая даже, что это – затасканный сюжет.