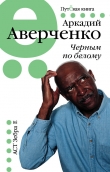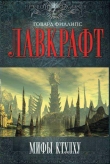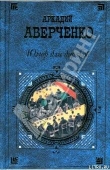Текст книги "Том 3. Чёрным по белому"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Секретарь из почтового ящика
I
Редакционный сторож вошел ко мне в кабинет и сказал:
– Вас там спрашивают.
– Кто спрашивает?
– Царь Эдип.
– А что ему нужно?
– С рукописью, что ли.
– Пусть подождет. Сейчас, когда кончу – позвоню. Тогда впустишь.
После моего звонка, действительно, в кабинет вошел Царь Эдип.
Это был очень упитанный молодой человек, с глазами на выкате, толстыми губами и горделиво откинутой назад головой. Лицо его было сплошь покрыто веснушками, а руки – рыжим пухом.
– Здравствуйте, здравствуйте, – снисходительно сказал он, усаживаясь. – Вы, конечно, помните Царя Эдипа по почтовому ящику?
– Ну, не только по почтовому ящику, – возразил я. Он удивился.
– Как? Неужели, вы еще где-нибудь встречали мое имя?
– Да, встречал… Грек там был один такой, Эдип. Потом Антигона…
– Миф! – отрубил он. – А хороший я себе псевдоним выбрал, а?
– Недурной.
– Заковыристый, а?
– Зазвонистый, – согласился я.
– Забористый псевдонимчик. Вы, наверное, были удивлены, когда отвечали первый раз в почтовом ящик. Что, бишь, вы тогда ответили?
– Если не ошибаюсь, так: «Здесь, Царю Эдипу. Написано с царственной небрежностью. Уничтожили». – Да… кажется, так. А второй раз написали: «Никакая „голова“, кроме, может быть, вашей, – не рифмуется со словом „солома“». Это у меня стихи такие были:
Повсюду лишь пустырь один,
Куда ни взглянет голова…
И преждевременных, седин
Повсюду веется солома.
Здорово вы мне в почтовом ящике тогда ответили!
– Вы что же, – осторожно спросил я. – По поводу этого ответа и пришли со мной объясняться?
– Нет, не по поводу этого. Я пришел к вам по поводу третьего вашего ответа. Вы тогда написали в этаком серьезном духе: «Оставьте навсегда сочинение стихов. По-дружески советуем заняться чем-нибудь другим». – Чем же?
– Что «чем же»?
– Чем же мне заняться?
– А я почем знаю?
– Нет, – возразил он, еще более веско. – Так же нельзя. Раз вы так категорически советуете мне в одном направлении – вы должны посоветовать и в другом направлении. Согласитесь сами, что, отговорив меня от поэтических занятий, вы тем самым взяли, так сказать, на себя ответственность за мою дальнейшую судьбу.
– Я бы, конечно, мог вам посоветовать что-нибудь в смысле выбора вашей карьеры, но для этого я должен знать, что вы собой представляете и на что способны.
– На всё! – снова отрубил он.
– Это слишком много. И иногда даже опасно. Нужно быть способным на что-нибудь одно. Чем бы, например, вам хотелось заняться?
– Мне бы, всё-таки, хотелось занять место, имеющее отношение к литературе.
– Ну, например?
– Я бы хотел быть секретарем вашего журнала.
– У нас есть секретарь.
– Тоже препятствие! Его можно рассчитать.
– Да как же мы его «рассчитаем», если нет причины.
– Мне ли вас учить! – ухмыльнулся он. – Придеритесь, что он какую-нибудь важную рукопись потерял, и вышибите его.
– Конечно, я мог бы устроить эту штуку, – согласился я с самым сообщническим видом. – Но кто мне поручится, что вы окажетесь лучше его?
– Да помилуйте! Я сразу переверну всё вверх дном. Я…
II
В кабинет вошла служащая из конторы.
– Что вам, Анна Николаевна? – спросил я.
– Из типографии сообщают, что цензура не пропустила стихотворения с виньеткой.
– А вы зачем же посылали стихотворение? – строго спросил ее Царь Эдип. – Послали бы одну виньетку.
– Мы раньше и послали одну виньетку. Они и виньетку не пропустили.
Царь Эдип нервно забарабанил пальцами по столу.
– Что же мне делать со всем этим, – задумчиво прошептал он. – Гм! Ну, да ладно. Скажите, что я сам заеду, объяснюсь с Петром Васильевичем.
Конторская служащая удивленно взглянула на хлопотливого Эдипа, потом взглянула на меня и вышла.
– Кто это Петр Васильевич? – спросил я.
– Там один… Приятель. Вся цензура от него зависит… Альфа и Омега! Вы у кого бумагу для журнала берете? Почем платите?
Я сказал.
– Ого! Дорого платите. Я могу устроить вам бумагу на пятнадцать процентов дешевле. Вы позволите?
Прежде, чем я успел что-нибудь сказать, он снял телефонную трубку, нажал кнопку и сказал:
– Центральная? Семьдесят семь – восемнадцать. Да, мерси. Это кто говорить? Ты, Эдуард Павлыч? Тебя-то мне и надо. Слушай! Сколько ты можешь ради меня посчитать бумагу для «Нового Сатирикона»? Что? Ну, высчитывай. Да… Такую же. Что? Врешь, врешь. Дорого. Считай еще дешевле. Что? Ну, это другое дело. Спасибо. А? Что же ты вчера удрал так потихоньку из «Аквариума»?… Никому ни слова, бесстыдник… Ага! Ну, прощай. Так мы тебе пришлем заказ.
Он повесил трубку и сказал:
– Сделано. А вы всё время переплачивали пятнадцать процентов. В год это составляет пять тысяч рублей, в десять лет пятьдесят, а в сто – полмиллиона! Вы подумайте!!
Я встал с кресла и зашагал по кабинету.
III
– Теперь вы скажите мне вот что: как у вас поставлено дело с объявлениями? Почему у вас нет банковских объявлений?
Он уже успел пересесть на мое место и делал карандашом какие-то заметки в записной книжке.
– Банки не дают объявлений в сатирический журналы.
– Вздор. Конечно, Государственный Банк не дает, но частные – почему же? Например, Сибирский. Да мы это сейчас же можем устроить. У меня там есть кое-какие знакомства… Алло! Центральная? Сто двадцать один – четырнадцать. Спасибо. Сибирский Банк? Попросите Михаила Евграфовича. Да. Это ты? Здравствуй. Ну, как у вас в этом году дивиденд? Ага! То-то. А я к тебе за одним маленьким делом. А? Да. Пришли завтра же объявление для «Нового Сатирикона». Что? Пустяки! И слушать не хочу! Ну, то-то. А? Да недорого. Пятьсот рублей за страницу я с тебя возьму. Что? Никаких скидок!!
– Дайте ему скидку двадцать процентов, – сказал я.
Он укоризненно покачал головой.
– Ох, балуете вы их… Не следовало бы. Ну, ты там… Гросс-бух! Слушаешь? Мы тебе делаем скидку в двадцать процентов. Что? Ага!
Он обернул лицо ко мне.
– Благодарить вас.
– Не стоит, – скромно возразил я. – Значить, дело сделано?
Он повесил трубку.
– Сегодня не успеет прислать. Завтра утром. Ничего?
– О, помилуйте.
Он сложил руки на груди и откинулся на спинку моего кресла.
– Теперь скажите… Как у вас поставлена редакционная часть?
– В каком смысле?
– Я бы хотел знать: кто у вас пишет?
– Да многие пишут.
– Так, так…
Он поднял голову и строго спросил:
– Короленко пишет?
– Нет. Да ведь он для сатирических журналов, вообще, не пишет.
– Это не важно. Интересное имя. Пусть даст просто какую-нибудь пустяковину – и то хорошо. Да вот мы сейчас пощупаем почву. Понюхаем, чем там пахнет. Алло! Центральная? Дайте, барышня, «Русское Богатство!» Что? Чёрт его знает, какой номер. Посмотрите, голубчик.
Я покорно взял телефонную книжку, перелистал ее и сказал:
– Четыреста сорок семь – одиннадцать.
– Благодарствуйте. Алло! Четыреста сорок семь – одиннадцать. Да. Попросите к телефону Владимира Игнатьича!
– Галактионовича, – поправил я.
– Да? Хе-хе!.. Я его по отчеству никогда не называю. Алло, алло! Это кто? Ты, Володя? Здравствуй, голубчик. Ну, что, пописываешь? Хе-хе! «И пишет боярин всю ночь напролет! Перо его местию дышет»… Бросил бы ты, брать, свою публицистику – написал бы что-нибудь беллетристическое… Куда? Ну, да уж будь покоен – пристроим. Давай мне, я тебе авансик устрою, всё, как следует. Только ты, Володичка, вот что: повеселее что-нибудь закрути. Помнишь, как раньше. Мне для юмористического журнала. Что? Уже написано? Семьсот строк? Что ты, милый, это много! А? Ну, да, ладно. Сократить можно. Прочтем, ответим в Почтовом Яшик. Прощай! Анне Евграфовне и Катеньке мой привет. Ффу!
Он устало опустился в кресло.
– Как вы думаете, семьсот строк – это не много? Я, впрочем, предупредил, что мы сокращаем…
IV
– А у вас, я вижу, большие знакомства, – заискивающе сказал я.
Эдип снисходительно улыбнулся.
– Ну, уж и большие! Кое-кто, впрочем, есть. Если вам нужно, пожалуйста! Хе-хе! Эксплуатируйте! Ну, а теперь вы мне скажите: выстою я против вашего секретаря?
– Господи! Может ли быть сравнение!! Только вот не знаю я, как от него получше избавиться: обвинить в потере рукописи или просто придраться к его убеждениям?…
Царь Эдип призадумался.
– А можно и так, – посоветовал он. – Написать ему письмо, будто от другого журнала – и предложить там место с двойным жалованьем. Он сей час же заявить тут о своем уходе – мы его и проводим, голубчика. Скатертью дорога!
– Идея, – одобрил я. – Значить, до завтра.
– Вы мне завтра позвоните?
– Позвонить? – пробормотал я, искоса поглядывая на него. – Это не так-то легко. Кстати, вы знакомы с директором телефонной сети?
– С директором? Сколько угодно. Кто же не знает Ваничку! А что нужно?
– Попросите его, пожалуйста, поскорее включить этот телефон в общую сеть. А то уже три дня, как поставили аппарат, а в сеть он еще не включен. Совершенно мы, как говорится, отрезаны от всего мира.
Царь Эдип подошел к дивану и погладил его спинку; потом подошел к окну, отогнул портьеру и выглянул на улицу; взял из пепельницы спичку, сломал ее, положил обратно; снова погладил спинку дивана; переставил на новое место бокал с карандашами; взял свою шляпу, провел по ней рукавом – и вдруг выбежал в переднюю.
Секретарь у нас прежний.
Сила красноречия
На углу одной из тихих севастопольских улиц дремлет на солнечном припеке татарин – продавец апельсинов.
Перед ним стоить плетеная корзинка, до половины наполненная крупными золотыми апельсинами.
Весь мир изнывает от жары и скуки. Весь мир – кроме татарина.
Татарину не жарко и не скучно.
Неизвестно, о чем он думает, усевшись на корточках перед своей корзиной, в которой и товару-то всего рубля на полтора.
Вероятнее всего, что татарин ни о чем не думает. О чем думать, когда всё миропредставление так уютно уложилось в десяток обыденных понятий… То можно, этого нельзя – ну, и ладно. И проживет татарин.
А лень обуяла такая, что те хочется даже замурлыкать любимую татарскую песенку, которую по воскресеньям на базаре выдувает на кларнете «чал», сопровождающий загулявшего оптового фруктовщика, причем фруктовщик этот выступает с таким важным видом, будто бы он римский победитель, подвиги которого прославляются певцами и флейтистами.
Дремлет татарин над своими апельсинами, и так ему спокойно и хорошо, что он даже не потрудится поднять голову, чтобы проводить взглядом тяжелый широкий «южный» – экипаж, ползущий мимо.
Безлюдно…
Но вот вдали показывается фигура спотыкающегося человека в синем костюме и соломенной шляпе.
Бредет он, очевидно, без всякой цели – вино и жара разморили его.
Приблизившись к татарину, он останавливается над ним и смотрит в корзину мутным задумчивым взглядом…
Потом спрашивает с натугой:
– Ап'сины продаешь?
– Канэшна, – отвечает татарин, лениво поднимая брови. – Можит, нужна?
– Т'тарин? – допрашивает скучающий человек.
– Разумейса, – добродушно подтверждает татарин, – которы человек, так он всякий что-нибудь имеет. Диствит'лна, бывает татарин, бывает грек, да?
– Так, так, так, так… А скажи, п'жалуйста, вот что: вы, татарины, водку пьете?
– Никак нет, мы ему не пьем, потому нилзя.
– Почему же это нельзя, скажите на милость? – гордо закинув голову, снова спрашивает прохожий, – вредна она эта водка для вас, или что?
– Канэшна, почему что у наши законе говорят, что водком пить нилзя! Балшой грех ему, да!..
– Вздор, вздор, – покровительственно мямлить прохожий. – Что еще там за грех? Это вы, наверно, корана не поняли, как следует… Д'вай сюда коран, я тебе покажу место, где можно пить…
Татарин обиженно пожимает плечами. Долго думает, что бы возразить.
– Которы человек пьяны, тот ход'ть, шатайся, – какой такой порядок?
– Вот ты, значить, ничего и не понимаешь… «Шатается, шатается». Разве он сам шатается? Это водка его шатает. Он тут не причем.
– Се равно. Идот, пает – кирчит, как осел, собакам, кошкам пугает, рази можно?
– А ежели весело, так почему ж не петь.
– Которы поет хорошо – так, канэшна, д'стви'тельна, ничего; а которы пьяный, так прохожий даже обижается, да?
– Мил человек!! Послуш'те, татарин! Так наплевать же на прохожего! Понимаете? Лишь бы мне было весело, а прохожему если не нравится-пусть тоже пьет.
И опять крепко задумывается татарин. Придумывает возражение… Торжествующе улыбается:
– Ему, которы што – пьяный, лежат посреди улиса, спить, как мертвый, а ему обокрасть можно, да?
– Это неправда, – горячится защитник пьянства. – Слышите, татарин?! Ложь! Слышите? Если человек уже свалился, – его уже не могут обокрасть!
– Что такой – не могут? Он гаво'рть не могут. Почему, которы падлец вор, так он возмет да обокрал, да?
– Как же его обокрадут, татарский ты чудак, ежели, когда он сваливается – так уже, значить, всё пропито.
– Се равно. Вазмет, сапоги снимет, да?
– Пажалста, пажалста! В такую-то жару? Еще прохладнее будет!
Татарин поднимает голову и бродить ищущим взором по глубокому пышному синему небу, будто отыскивая там ответ…
– Началство, которы где человек служить да скажет ему: «Почему, пьяный морда, пришел? Пошел вонь!»
– А ты пей с умом. Не попадайся.
– Нилза пить.
– Да почему? Господи Боже ты мой, ну, почему?!.
– Ему… канэшна – диствит'лна – уразумейса – водка очин горкий.
– Ничего это не разумеется. А ты сладкую пей, ежели горькая не лезет.
– Скажи, пажалста, гасподын… Почему мине пить, если не хочется, да?…
Аргумент веский, достойный уважения. Но защитник веселой жизни не согласен.
– Как так не хочется? Как так может не хотеться? А ты знаешь, как русский человек через «не хочу» пьет? Сначала, действительно, трудно, а потом разопьешься – и ничего.
– Ты мине, гаспадын, скажи на совести: как лучше здоровье – человек, которы пьет, или которы не пьет – да?
– В этом ты прав, милый продавец апельсинов, но только… что ж делать? Тут уж ничего не по делаешь… Живешь-то ведь один раз.
– Адын! А если печенкам болит, голова болит, ноги болит – разве это хороши дело?
– А ты статистику читал? – пошатнувшись, спрашивает прохожий.
– Нет, ни читал.
– Так вот ежели бы ты читал – ты бы знал, что п… по статистике на каждую душу человека народонаселения приходится в год выпить полтора ведра. Понял? Значить, обязан ты выпить свою долю или нет? Понял?
Татарин, сбитый с толку, растерянно смотрит на склонившееся над ним воспаленное от жары и водки лицо, на котором, как рубин, сверкает нос, доказывающий, что обладатель его выпил уже и свою долю, и татаринову, и долю еще кое-кого из непьющих российских граждан…
Татарин вздыхает, сдвигает барашковую шапку на бритый загорелый затылок и произносить свое неопределенное:
– Канэшна – диствит'лна – уразумейса…
– То-то и оно, – строго роняет прохожий и, не попрощавшись с татарином, идет дальше.
Подходить к пустынной Графской пристани, долго стоит, опершись о колонну и глядя на тихую темную гладь бухты.
Думает…
Потом бормочет:
– А х'роший татарин попался!.. Правильный… рассудительный. Верно! Действительно, водка – это дрянь. Правильно он говорит – и здоровье расстраивает, и деньги, и начальство. Правильно! Ей Богу, чего там. Он молодец! Я знаю, что – я сделаю: я брошу пить! А? Прошу молчать, не возражать… Брошу и баста!
Он приподнимает руку и, немного согнувшись, долго стоить так, будто прислушиваясь к каким-то разбуженным голосам, неясно звучащим внутри его.
Прислушался… Будто проверил себя. Потом энергично разрубил воздух поднятой рукой.
– Бросил!!
А татарину – едва только отошел прохожий – сделалось вдруг скучно.
Он долго покачивал головой, причмокивал и одергивал свои широкие шаровары.
Потом сказал он сам себе:
– Диствит'лна, хорошо гаво'рт человек. Правилна. Раз я выпимши и мине хорошо – кому какой дело-да?… Надо, разумейса, иметь на свой жизнь удоволствие… Эх, адын раз попробовать, пачему не попробовать-да?…
Решительно поднявшись с корточек, татарин еще больше заламывает на затылок шапку, берет на руку корзину и бодро шагает к берегу – в веселый севастопольский трактир «Досуг моряка»
Фат
Подслушивать – стыдно.
Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.
Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.
С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:
– Ну, вот видите… Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой… По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?
Бархатное контральто ответило:
– Да… В нем что-то есть.
– Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?
– Что вы, что вы! – возмутилось контральто. – Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!
– А я бы, знаете… изменила. Ей-Богу. Чего там, – с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. – Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..
– О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!
– Да ну-у?..
– Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу!»
– Ну, понятие как понятие. Не хуже других.
И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:
– А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!
– А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!
– Нет, не Синицын!
– А кто же? Ну, голубушка… Кто?
– Мукосеев.
– Ах, этот…
– Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона… Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»… Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.
– Нет, нет… ни за что!
– Что «ни за что»?
– Не изменю мужу. Тем более с ним.
– Почему же «тем более»?
– Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.
– Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно – он ни за какой юбкой не побежит.
– Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются…
– Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте…
– Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты…
– Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек…
– И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает…
– Где оно там просвечивает… А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет…
Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:
– Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека… И в-третьих, он фат!
– Он… фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?
– Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, – прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое – чуть не с кружевами… А вы говорите – не фат! Да я…
* * *
И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.
И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана.
Сельскохозяйственный рассказ
I
Мы – любимая мною женщина и я – вышли из лесу, подошли к обрыву и замерли в немом благоговейном восхищении.
Я нашел её руку и тихо сжал в своей.
Потом прошептал:
– Как хорошо вышло, что мы заблудились в лесу… Не заблудись мы – никогда бы нам не пришлось наткнуться на эту красоту. Погляди-ка, каким чудесным пятном на сочном темно-зеленом фоне выделяется эта белая рубаха мальчишки-рыболова. А река – какая чудесная голубая лента!..
– О, молчи, молчи, – шепнула она, прижимаясь щекой к моему плечу.
И мы погрузились в молчаливое созерцание…
– Это еще что такое? Кто такие? Вы чего тут делаете? – раздался пискливый голос за нашими спинами.
– Ах!
Около нас стоял маленький человек в чесучовом пиджаке и в черных длиннейших, покрытых до колен пылью брюках, которые чудовищно-широкими складками ложились на маленькие сапоги.
Глаза неприязненно шныряли по сторонам из-под дымчатых очков, а бурые волосы бахромой прилипли к громадному вспотевшему лбу. Жокейская фуражечка сбилась на затылок, а в маленьких руках прыгал и извивался, как живой, желтый хлыст.
– Вы зачем здесь? Что вы тут делаете? – А? Почему такое?
– Да вам-то какое дело? – грубо оборвал я.
– Это мне нравится! – злобно-торжествующе всплеснул он руками. – «Мне какое дело?!» Да земля-то эта чья? Лес-то это чей? Речушка эта – чья? Обрыв это – китайского короля, что ли? Мой!!
Всё мое.
– Очень возможно, – сухо возразил я, – но мы ведь не съедим всего этого?
– Еще бы вы съели, еще бы съели! А разве по чужой-то земле можно ходить?
– А вы бы на ней написали, что она ваша.
– Да как же на ней написать?
– Да вот так по земле бы и расписали, как на географических картах пишется: «Земля Чёрт-Иваныча».
– Ага! Чёрт-Иваныча? Так зачем же вы прилезли к Чёрту-Иванычу?!.
– Мы заблудились.
– «Заблудились!..» Если люди заблудятся, они сейчас же ищут способ найти настоящую дорогу, а вы, вместо этого, целых полчаса видом любовались.
– Да скажите, пожалуйста, – с сердцем огрызнулся я, – что вам какой-нибудь убыток от того, что мы полюбовались вашим пейзажем?… – Не убыток, но ведь и прибыли никакой я пока не вижу…
– Господи! Да какую же вам нужно прибыль?!
– Позвольте, молодой человек, позвольте, – пропищал он, усаживаясь на незамеченную нами до тех пор скамейку, скрытую в сиреневых кустах. – Как это вы так рассуждаете?… Эта земля, эта река, эта вон рощица мне при покупки – стоила денег?
– Ну, стоила.
– Так. Вы теперь от созерцания её получаете совершенно определенное удовольствие или не получаете?
– Да что ж… Вид, нужно сознаться, очаровательный.
– Ага! Так почему же вы можете придти, когда вам заблагорассудится, стать столбом и начать восхищаться всем этим?! Почему вы, когда приходите в театр смотреть красивую пьесу или балет, – вы платите антрепренеру деньги? Какая разница? Почему то зрелище стоит денег, а это не стоить?
– Сравнили! Там очень солидные суммы затрачены на постановку, декорации, плату актерам…
– Да тут-то, тут – это вот всё – мне даром досталось, что ли? Я денег не платил? «Актеры!» Я тоже понимаю, что красиво, что некрасиво: вон тот мальчишка на противоположном берегу, «белым пятном выделяется на фоне сочной темной зелени» – это красиво! Верно… Пятно! Да ведь я этому пятну жалованье-то шесть рублей в месяц плачу или не плачу?
Я возразил, нетерпеливо дернув плечом:
– Не за то же вы ему платите жалованье, чтобы он выделялся на темно-зеленом фоне?
– Верно. Он у меня кучеренок. Да ведь рубашка то эта от меня ему дадена, или как? Да если бы он, паршивец, в розовой или оранжевой рубашке рыбу удил – ведь он бы вам весь пейзаж испортить. Было бы разве такое пятно?
– Послушайте, вы, – сказал я, выйдя из себя. – Что вам надо? Чего вы хотите? Я стою здесь с этой дамой и любуюсь видом, расстилающимся перед нами. Это ваш вид? Вы за него хотите получить деньги? Пожалуйста, подайте нам счет!!
– И подам! – выпятил он грудь, с видом общипанного, но бодрящегося петуха. – И подам!
– Ну, вот. Самое лучшее. А сейчас оставьте нас в покое. Дайте нам быть одним. Когда нужно будет, мы позовем.
Ворча что-то себе под нос, он криво поклонился моей спутнице, развел руками и исчез в кустах.
II
Хотя настроение уже было сбито, скомкано, растоптано, но я попытался овладеть собой:
– Ушел? Ну, и слава Богу. Вот навязчивое животное. А хорошо тут… Действительно замечательно! Посмотри, милая, на этот перелесок. Он в теневых местах кажется совсем голубым, а по голубому разбросаны какие пышные, какие горячие желтые пятна освещенных солнцем ветвей. А полюбуйся, как чудесно вьется эта белая полоска дороги среди буйной разноцветной вакханалии полевых цветов. И как уютна, как хороша вон та красная крыша домика, белая стена которого так ослепительно сверкает на солнце. Домик – он как-то успокаивает, он как-то подчеркивает, что это не безотрадная пустыня… И эта, как будто вырезанная на горизонте, потемневшая серая мельница… Её крылья так лениво шевелятся в ленивом воздух, что самому хочется лечь в траву и глядеть так долго-долго, ни о чем не думая… И вдыхать этот головокружительный медовый запах цветов. Мы долго стояли, притихшие, завороженные.
III
– Пойдем… Пора, – тихо шепнула мне моя спутница.
– Сейчас. Эй, человек, – насмешливо крикнул я. – Счет!
Тотчас же послышался сзади нас треск кустов, и мы снова увидели нелепого землевладельца, который подходил к нам, размахивая какой-то бумажкой.
– Готов счет? – дерзко крикнул я.
– Готов, – сухо отвечал он. – Вот, извольте. На бумажке стояло:
СЧЕТ:
От помещика Кокуркова на виды местности, расположенной на его земле, купленной у купца Семипалова по купчей крепости, явленной у нотариуса Безбородько.
За стояние у обрыва, покрытого цветами, испускающими головокружительный медовый запах. 2 руб. 00 к.
Река, так называемая голубая лента 1 руб.
Яркое белое пятно мальчика на темно-зеленом фон кустов – 50 к.
Голубой перелесок, покрытый желтыми пятнами, в виду дальности расстояния на сумму – 30 к.
Белая полоска дороги, среди буйной вакханалии цветов; в общем за всё – 60 к.
Успокаивающий ослепительный домик с уютной красной крышей, подчеркивающий, что это не безотрадная пустыня 1 руб. 50 к.
Потемневшая серая мельница крестьянина Кривых, будто вырезанная на горизонте (настоящая! Это так только кажется) – 70 к.
Итого: Всего вида на 6 руб. 60 к.
Скривив губы, я педантически проверил счет и заявил, приданая своим словам оттенок презрения:
– К счету приписано.
– Где? Где?! Не может быть.
– Да вот вы под шумок ввернули тут семь гривен за мельницу какого-то крестьянина Кривых. Ведь это не ваша мельница, а Кривых… Как же вы так это, а?
– Позвольте-с! Да она только с этого обрыва и хороша. А подойдите ближе – чепуха, дрянь, корявая мельничонка.
– Да ведь не ваша же?!
– Да я ведь вам и не ее самое продаю, а только вид на нее. Вид отсюда. Понимэ? Это разница. Ей от этого не убудет, а вы получили удовольствие…
– Э, э! Это что такое? За этот паршивый домишко вы поставили полтора рубля?! Это грабеж, знаете ли.
– Помилуйте! Чудесный домик. Вы сами же говорили: «домик он как-то успокаивает, как-то подчеркивает…»
– Чёрт его знает, что он там подчеркивает, только за него вы три шкуры дерете. Предовольно с вас и целковый.
– Не могу. Верьте совести не могу. Обратите внимание, как белая стена ослепительно сверкает на солнце И не только сверкает, но и подчеркивает, что это не безотрадная пустыня. Мало вам этого?
Я решил вытянуть из него жилы.
– И за дорогу содрали. Разве это цена – шесть гривен? Мы на нее почти и не смотрели. Скверная дорожка, кривая какая-то.
– Да ведь тут за всё вместе: и за дорогу, и за буйную вакханалию цветов. Извольте обратить ваше внимание: ежели оценить по-настоящему вакханалию, то на дорогу не больше двугривенного придется. Пусть вам в другом месте покажут такую дорогу за двугривенный с обрыва…
Я повернул счет в руках и придирчиво заявил:
– Нет, я этого счета не могу оплатить.
– Почему же-с? Как смотреть, так можно, а платить – так в кусты?!
– Счет не по форме. Должен быть оплачен гербовым сбором.
– Да-с? Вы так думаете? Это по какому такому закону?
– По обыкновенному. Счета на сумму свыше пяти рублей должны быть оплачены гербовым сбором.
– Ах, вы вот как заговорили?!. Пожалуйста! Вычеркиваю вам мельницу крестьянина Кривых и речку. Чёрт с ней, всё равно, зря течет. А уж четыре девяносто – это вы мне подайте. Вот вам и Чёрт-Иваныч!
Я вынул кошелек, сунул ему в руку пятирублевую бумажку и, сделав величественный жесть: «сдачи не надо», взять свою спутницу под руку.
По дороге от обрыва мы наткнулись на очень красивую пышную липу, но я уж воздержался от выражения громогласного восторга…