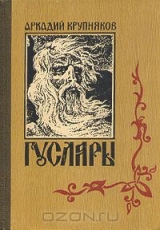
Текст книги "Москва-матушка"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Хан своей жене строго-настрого приказал быть в Москве всего зиму и возвращаться домой по весне. Весной, когда сойдет с рек лед, и просохнут дороги, князь Иван проводит цариц до берега Волги, где раскинулся илем черемисского лужавуя Изима. Туда на лодках подъедет сам хан и встретит их. А заодно и поохотится. А во главе сотни, которая должна сопровождать цариц, хан поставил черемисина Тугейку.
А самое главное для царицы – это беседы с великим князем. Надо ей договориться с ним о всем, чтобы к летнему военному походу на Каменный порог никакой помехи не было бы.
И вот сидит Нурсалтан в возке и думает, как ей в Москве себя вести, как хану своему помочь и вреда своим подданным не сделать. Иван, хоть и друг ей, но ему тоже пальца в рот не клади. Он к Казани подбирается давно и исподволь. Вот уж кто вперед на много лет смотрит и не на силу своего меча надеется, а на силу ума. Давно ли встал на княжение, почти совсем мало воевал, а княжество растет и ширится. И ее, Нурсалтан, не ради жизненного пристроения в Казань замуж выдал, а дел своих ради. Знал, что полезна ему будет умная татарка, знал, что он ей всегда будет полезен... Ей... но не ханству. Вот об этом надо помнить всегда... У ее ног на медвежьих шкурах сидит служанка. У нее на коленях спит утомленный дорогой ребенок. О его судьбе тоже у царицы думы... Любит она сына больше, чем себя. Любит и боится за него. Рожденный для трона уже этим он несчастен. Кому-кому, а Нурсалтан это хорошо известно. Мало будет радостных дней в его жизни. Борьба за трон, кровь, измены, распри – все познает он в полной мере. Может, смерть застигнет, может, изгнание. Изменчива и коварна судьба рожденных для трона. И ей, матери, надо подумать, как помочь утвердиться молодому в жизни, сохранить себя, обезопасить. Об этом она тоже будет говорить с князем Иваном...
А дороге нет конца. Нет конца и думам царицы.
В МОСКВЕ
К Москве подъехали утром. Шестерка, запряженная цугом, вымахнула на взгорье, остановилась как вкопанная. Царица вышла из возка, зажмурилась от яркого солнечного света. Перед нею внизу лежала Москва, блистая золоченными маковками церквей. Крыши боярских теремов курились столбами белесого дыма, на кремлевских башнях преогромные снеговые шапки, малиновый звон утренних благовестов плескался в берегах городских стен, разливался меж крепостных башен, струился в проемы ворот, растекаясь ручьями во все стороны от Москвы.
Выползла из возка и Суртайша. Глядела на раскинувшуюся внизу Москву зло, недовольно.
К молодой царице подошел Тугейка. Глянул вопросительно. Нурсалтан махнула рукой.
– Поехали.
– Погоди! – воскликнула Суртайша.– Как это – поехали? Со времен хана Махмутека[17] Москва встречает властителей Казани почетным выездом. Разве те времена прошли? Скачи в город к коназу Ивану – скажи: царицы Казани едут. Он, думаю, знает, как цариц встречать. А мы пока лошадей покормим.
Тугейка метнул взгляд на Нурсалтан. Та согласно кивнула головой. Через минуту три всадника рванулись к Москве, ездовые начали привязывать к лошадиным мордам торбы с овсом.
Сидят царицы в своих возках, ждут. Возки у них разные, а думают об одном. Молодая царица ждет встречи с волнением. Выедет ли им навстречу сам князь или воевод своих пошлет? Если
сам, то не ошибется ли? Не подойдет ли сразу к ней? Не озлобит ли старуху? О замыслах Суртайши царица_ тоже знает. Эта старая карга все на заметку будет брать. Те же думы и у Суртайши. Приедет князь Иван встречать или не приедет? Бросится ли к молодой царице или не бросится? Хорошо бы, если бросился. Значит, и правду у них что-то было.
Через два часа у Коломенских ворот появились всадники. Нурсалтан глянула, и сердце ее дрогнуло. Впереди на саврасом жеребне скакал великий князь. За ним по четверо в ряду ехали воеводы из свиты. Дороги по ширине не хватало, и кони шли по сторонам, поднимая снежную пыль. За ними шли четыре возка, а за возками ратники. Уже великий князь совсем недалеко, а ворота все выплескивают и выплескивают из города сотню за сотней.
Суртайша вышла вперед, кивнула снохе: «Встань рядом». Та встала. Не доехав до женщин полсотни шагов, князь Иван натянул поводья, соскочил с коня. Стремянные подхватили жеребца под уздцы. Князь не спеша, только утренний снег поскрипывал под сапогами, подошел к Суртайше (на Нурсалтан даже и не глянул), слегка поклонился, опустил правую руку вниз, сказал по-татарски чисто:
– Почтенной и великой царице Казани кланяется Москва.
– Славному князю Московскому кланяется Казань,– ответила Сургайша, слегка склоня голову.
– Здоровыми доехали?
– Слава аллаху, все доехали здоровы.
– Царице Нурсалтан от великой княгини Марфы поклон. От меня також.
– Спасибо,– ответила молодая царица и склонила голову.
Иван поднял руку – и четверо слуг поднесли высокий лубяной
короб, открыли, вынули из него меха куньи, лисьи и беличьи, повесили на вытянутые руки, стали по обоим сторонам-от князя.
– Позволь, великая царица, одарить тебя малыми поминками.
Слуги поклонились, сложили меха в короб, поставили его у ног
Суртайши.
– Прошу вас быть в Москве желанными гостями,– сказал князь и отошел в сторону. Высокий расписной возок, запряженный тройкой вороных коней, вымахнул к царице, красиво развернулся, встал. Князь открыл дверцу, слуги подхватили цариц под руки, помогли сесть. Иван вскочил в седло, пришпорил коня, жеребей поднялся на дыбы и, раскидывая снег копытами, поскакал впереди. За ним пошел возок с царицами. По сторонам, впереди и сзади скакала почетная охрана.
Суртайша глянула на сноху и впервые за эти два года улыбнулась ей.
В самом конце поезда Тугейка вел свою сотню и пустые возки цариц. За год, что прожил в Казани, Тугейка узнал много. Понял, что при дворе ханском жить непросто, понял, что надо выбрать себе покровителя и держаться около него честно и прямо. Только тогда выживешь, только тогда добьешься пользы для себя. Понял также, что лучшей покровительницы, чем молодая царица, ему не сыскать. Хан хоть и в силе, но ему до Тугейки мало дела. Выучил Тугейка две сотни молодых джигитов искусной стрельбе из лука, одну сотню хан взял себе в охрану, другую отдал царице. Над его джигитами есть кому командовать, а Тугейка так и остался около Нурсалтан. Служил ей чистосердечно, стал сотником, а теперь вот приехал в Москву. Кому из черемис пришлось побывать в таком большом и славном городе? Наверно, никому. Наверно, Тугейка первый. И не пленным он сюда прибыл, не данником, а сотником. Цариц охранять, служить им. Это, он понимает, тоже нелегко делать. Как бы ни встретили цариц русские, а город все равно чужой, кто знает, чем это гостеприимство обернется. Говорят, придется всю зиму тут жить, по-русски говорить надо бы научиться, город надо бы узнать, с добрыми людьми познакомиться.
Жить Тугейкину сотню поместили на ордынском подворье, цариц со служанками увезли в Кремль. Для каждой отдельные хоромы. Тугейке было велено поставить около хором по десятку своих охранников и менять их через каждые сутки. Кроме них хоромы охраняли русские ратники. В первый же день к Суртайше князь Иван лекаря послал. Тот осмотрел старуху и сказал, что болезнь ее происходит от пития дурной воды и обещал к весне здоровье царицы поправить. Велено было Тугейке посылать ежедневно возок на озеро Радонежское и привозить оттуда воду, которая будто бы в себе некие соли содержит.
Спустя неделю после приезда в Москву, позвала к себе Тугейку молодая царица. Позвала ночью, тайно. Сказала:
– Никому из твоей сотни я не верю, только ты один мне помочь можешь.
– Спасибо, великая царица,– сказал Тугейка. – Я сделаю все, что ты велишь.
– Великий князь дважды с Суртайшей говорил, меня к себе он не зовет.
– Не радеет к тебе что ли?
– Радеет. Но явно с ним встречаться нам нельзя. Сегодня он придет ко мне тайно. Ты проводишь его и будешь всю ночь не спать. Чтобы никто из твоей сотни и, не приведи аллах, старая ханша, об этом не узнали. Только ты один. Понял ли меня?
– Все как есть понял. В полночь я стражей буду менять. Старый десяток отправлю на подворье, а замену им поведу не спеша. Вот в это время пусть князь приходит.
– Только прошу тебя, не думай, что князь придет ко мне ради греха...
– Смею ли я. Ты не простая баба, ты – царица. У вас с князем, я думаю, других дел много.
– Ты умен, Тугейка. Иди.
В полночь Иван Васильевич тихо и незаметно прошел в хоромы молодой царицы...
– Ну, здравствуй, Ази. Здравствуй, моя несравненная,—князь обнял царицу, ткнулся бородкой в щеку. – Рассказывай, как живешь? Вестей я получал от тебя мало, да это, может, и к лучшему. Муж любит ли тебя?
– Любит. Суртайша четвертую жену советовала взять – отказался.
– С двумя старшими ладишь?
– Обе на отшибе у хана. Старшая с Суртайшей заодно – против меня. Вторая жена болеет. Ибрагим все время около меня. Сыну рад.
– Как назвали?
– Магмет-Аминь.
– Алихан, я чаю, злобствует?
– Он всему казанскому неустройству виной. Себя законным наследником считает. Всех ненавидит: отца, меня, Аминя. Да и бабушку, если понадобится, задушить может. Боюсь я его. Более всех боюсь. Если с Ибрагимом что случится...
– В обиду тебя не дам. Ежели будет лихо, детей сразу ко мне шли.
– Что старуха говорит?
– Суртайша? Баба эта зело жадна и зело злобна. И неумна. Я ей дважды подарки делал. По многу. Меха, золото любит, побрякушки всякие. За это не только Казань, но аллаха своего продаст. За нее не беспокойся. Она, я мыслю, у нас в руках. Если лекарь ей поможет —она к Москве привязана хворью своей будет.
– Ты на поминки не скупись, если так.
– Тебя я тоже не обойду. Только не сейчас. Пусть никто и думать не смеет, что мы...
– Я не ради подарков тебе служу, ты знаешь. Я хочу, чтобы два наших народа в мире жили.
– Стало быть, хан Ибрагим к замиренью со мной склонен теперь?
– А что ему остается делать? Напугал ты его за эти два года.
– Ну, а Диван?
– Многие помехи ему будут чинить. До весны к миру с тобой его не пустят.
– А весной?
– Весной большой поход на Казань не откладывай. Рати свои
для острастки на Волгу пошли. Хан велел меня весной проводить на черемисскую землю. Там он нас встретит. Суртайше всю свою рать покажи – ее тоже напугать надо. И вот тогда мир у Казани можно вырвать.
– Крымский Менгли-хан тоже властью Золотой Орды тяготится, он свое неподвластное ни кому ханство задумал поднимать и меня в союзники свои прочит. И если, даст бог, с Казанью замирюсь – буду слать послов в Крым.
– Свои люди у тебя там есть ли?
– Мало. Есть сурожский купец Никита Чурилов, есть в городе Кафе жидовин Хозя Кокос. И более никого.
– Верно. Этого мало. Ханство Менгли – таинственное ханство. Не только мы, но и в Орде о нем знают мало.
– Ничего, Ази. Даст бог, узнаем. Есть там посреди Крыма княжество греческое. Володетель там Исайка-князь. Говорят, дочь у него красавица. Задумал я за сына своего ее посватать.
– За Иоанна? Он же молод совсем.
– А меня когда женили? На шестнадцатом году.
– Не к месту хочу спросить – прости. Сам долго ли вдовым будешь ходить?
– Невесту найти не могу, – Иван рассмеялся. – За горбатого не идет никто. Да и не до женитьбы ноне. Видишь сама, дел-то сколько.
Ази помолчала немного, глядя в глаза князя, потом вздохнула. Вздохнул и князь. Сказал тихо:
– Была бы ты русской крови...
– Не надо, друг мой, говорить про это,– Ази подошла к окну, готовая вот-вот заплакать.
– Ну, засиделись мы,– князь поднялся. – Кто меня выведет отсюда?
– Есть у меня верный человек. Зовут его Тугейка. Он выведет. Если будет приходить к тебе – ему верь.
Иван согласно кивнул головой. Ази подошла к свече, придавила фитиль пальцами.
...Как только свет в оконце погас, Тугейка подошел к страже. Два стражника мерзли у крыльца, стукали каблуком о каблук, грели ноги.
– Замерзли? – спросил Тугейка.
– Мочи нет, – стуча зубами ответил один,– ну кто эту царицу украсть может, а?
– Порядок такой. Однако по дороге побегайте, погрейтесь.
Стражники побежали греться, Тугейка постучал пальцем в
окно. Князь вышел и скрылся в темноте.
Шагая к Брусяной избе, думал: «Теперь самая пора Крымом заняться».
Глава седьмая
ЗА ЖИВЫМ ТОВАРОМ
...торговый капитал... повсюду представляет систему грабежа, и недаром его развитие... связано с насильническим грабежом, морским разбоем, похищением рабов, порабощением колоний...
Карл Маркс, «Капиталт. III.
В ЗАМКЕ ТАСИЛИ
ад Тасили плывут тяжелые, низкие облака. Зажатая между двух гор деревня выглядит мрачно и неприветливо. Вершины гор плотно окутаны тучами, и кажется, что и сверху она прикрыта низким, тяжелым куполом.
На краю селения стоит высокий дом. Он, как и вся деревня, принадлежит высокородному Антонио ди Гуаско, почетному гражданину Генуи, и его сыновьям Андреоло, Теодоро и Деме– трио.
Старый Антонио редко появляется в Суроже, большую часть времени он живет в Тасили. Все думают, что он ушел на покой. Хозяйственным! делами ведают его сыновья.
Сегодня в огромном, мрачном доме, в прос торной комнате первого этажа собралась вся семья ди Гуаско. На высоком резном стуле си– дит сам Антонио, по другую сторону грубо ско– лоченного круглого стола – Андреоло и Теодоро Деметрио стоит, прислонившись спиной к холод ному камину.
– Итак, ты отказываешься ехать в Карасу базар,– проговорил отец, обращаясь к Теодоро.
– Да. Пусть едет Андреоло. Мне надоело работать на него и -отвечать за его глупые поступки.
– Ну ты, щенок... – Андреоло поднялся из-за стола.
– Молчи, Андреоло! Разрази меня гром, я не понимаю, о чем ты говоришь.
– Да будет известно тебе, отец, что не далее как неделю назад мой любезный братен без твоего согласия спалил овчарню у господ из Лусты.
– Овцы этих господ заходили на нашу землю,– объяснил Андреоло,– вот я и приказал сжечь овчарню.
– У тебя нет головы на плечах. Только глупый в наши тревожные дни вызывает на ссору соседей! – Отец грозно взглянул на Андреоло и добавил: – Поедешь к ним и возместишь ущерб. Понял?
– Но это не все,– продолжал Теодоро. – Вчера в Солдайе я встретил консула. Он грозился привлечь меня к суду за поджог, о котором я даже не знал до этого времени.
– А ты пошли к черту этого одноглазого дьявола,– посоветовал старик.
– Я не хочу работать на Андреоло,– начал опять Теодоро. – Все бумаги подписывает он, в курии правомочен только Андреоло, ему ничего не стоит отменить мое слово. Я только работаю, как раб, и если сейчас не совсем раб, то мой любезный братец исправит это дело, как только вы, отец, отойдете в царство небесное.
– Ты знаешь, сынок, что я уже не веду документы, не бываю в курии. Подписывать бумаги сразу трое вы не можете. Кто-то один должен делать это.
– Но почему именно Андреоло?
– Потому что он старше тебя и умнее на целую милю.
– Пусть тогда этот умник и едет в Карасубазар. Конечно, он не хочет рисковать своей шкурой. Перепродавать рабов, которых я приведу, куда легче и выгоднее. Недаром супруга моего братца слывет первой щеголихой в Солдайе...
– Замолчите! – прикрикнул отец и после паузы задумчиво проговорил: – Много бы дал я, чтобы понять, почему вы не можете жить в согласии.
– Ладно! – Теодоро поднялся из-за стола, подошел к отцу.– Я поеду покупать невольников. Только пусть братец не думает, что я ему позволю пользоваться моими трудами. Дело с купцами при перепродаже буду иметь я.
– Тебя, олуха, они обманут, клянусь честью,– заметил Андреоло.
– Зачем спорить,—с улыбкой прервал их Деметрио. – Давайте перепродам невольников я.
– Ты мастер выпить, спеть канцону, поволочиться за девушками. Это твоя стихия. А в торговые дела ты не лезь.
– Мне тошно вас слушать! – закричал на спорящих отец. – Я давно терплю ваши штучки, но, тысяча чертей, они мне надоели. Если так пойдет дело, я, подыхая, отпишу все мое добро не вам, моим сыновьям, а какому-нибудь греку. Накажи меня бог, если я не сделаю так. Вы меня знаете.
Старый ди Гуаско был жесток, хитер и силён. Эти качества помогли ему стать богатым, знатным и влиятельным. Ди Гуаско имел в Солдайском консульстве лучшие земли и деревни. Он ежегодно расширял свои владения и богател все больше и больше. Сейчас ди Гуаско принадлежало десять деревень и более тысячи рабов. '
Обведя сыновей тяжелым взглядом, Антонио сказал:
– Теперь слушайте, что я буду говорить: ты, Теодоро, поедешь за живым товаром. Две тысячи сонмов получишь у меня сегодня же. Но я не хочу, чтобы в Кафе и Солдайе знали, что славная семья ди Гуаско занимается этим непочетным делом. Поэтому покупать будет Памфило – он сойдет за кафинского купца. Понял? Я думаю, что ты сумеешь оставить в дураках всех, кто пристанет к тебе с расспросами. Бери Памфило, охрану и – попутный ветер тебе в спину. Ты понял меня, олух?
– Понял, отец,– ответил Теодоро.
– А ты, Андреоло, в эти дни осмотришь все дороги, идущие через наши владения, и поставишь кое-где наших людей. Я был глуп, как осел, не придумав этого раньше. По нашим дорогам из Солдайи и Скути бродят сотни бездельников с тугими кошельками. Пусть раскошеливаются и платят дорожный сбор, который с сего дня мы установим. Сколько вы думаете брать с каждого, кто пройдет по нашим дорогам?
– Я думаю... по пятьдесят аспров, не меньше,– ответил Деметрио.
– У тебя тараканий ум, сыночек. За такую сумму даже я, самый богатый в Солдайе человек, черта с два пойду по дорогам, буду лучше карабкаться по горам.
– В десять раз меньше,– сказал Андреоло.
– Это ближе к истине. Пять аспров с пешего и десять с конного. Так-то, сынки. И еще скажите мне, какая вожжа попала под хвост этому одноглазому консулу? Почему он начал совать свой острый нос в наши дела?
– Я могу ответить на твой вопрос, отец,– сказал Деметрии. – Консул зол на нас за то, что мы купили деревушку Карагай.
– Карагай? Зачем она ему понадобилась, если там никто не живет?
В том-то и дело, отец. Жители Карагая, расположенного
рядом с городом, в деревню приходят только обрабатывать землю, а живут в Солдайе. Они не входят в число жителей города, а консул все же облагал их всеми налогами и...
– ...И прикарманивал деньги,– догадался Антонио. – Вот хитрый дьявол!
– Вот именно. Но с тех пор, как мы купили землю Карагая, жители все налоги и сборы платят нам...
– И ни шиша ему! Ха-ха-ха!
– Может, подарите ему Карагай,– осторожно заметил Деметрио. – Иначе он может испортить нам много дел.
– Кто? – заорал старик. – Этот голодрайец Христофоро может мне помешать? Клянусь громом – я куплю всю Солдайю, а его повешу на самой верхней рее. Ты не о том думай, сопляк,– заорал он на Деметрио,– а поезжай в Карагай и напомни жителям, что подчинены они только мне и господу богу. А этому одноглазому сатане так и скажи, что я плюю на него.
...Спустя полчаса по дороге на Карасубазар выехал Теодоро, с ним двадцать вооруженных слуг. Андреоло и Демегрио двинулись по дороге на Скути.
ОЛЬГА СОБИРАЕТСЯ В ДОРОГУ
Со времени неудачной поездки в Москву прошел месяц. Никита до сих пор хворает. Душевно уже успокоился, смирился с потерей товаров, а вот телом все еще страдает. Клянет себя за то, что не послушался дочери и караван оставил под защитой крепости. Потом, когда шляхтич и князь со свитой решили ехать в Польшу, пришлось и Никите с Ольгой вскочить на коней и бежать вместе. Парубки еще до этого ушли в ополчение, а товары, все как были, остались на подворье.
Из имения Чапель-Чернецкого с превеликими трудностями возвратились в Сурож, в дороге Никита простудился и приехал домой еле жив.
Ныне он впервые встал с постели и вышел в сад, чтобы подышать вольным воздухом. Ему стало легче, ломота в теле прекратилась. Перестала болеть голова.
Над Сурожем сгустились сумерки. Здесь они совсем не такие, как в степи. На равнине сумерки коротки – ушло солнце за горизонт, через час, глядишь, уже темно.
Любит сумерничать Никита Чурилов. Вся семья его выходит в это время в сад. Старый хозяин садится в мягкое, обитое сафьяном, кресло лицом к морю, справа от него на широкой кленовой лавке прядет шерсть Елизавета Кирилловна. По левую руку, на складной скамье, сидит Ольга. Перед ней пяльцы с натянутой на них новиной. Петухами и затейливыми узорами вышивает она рушники.
Не узнать теперь Ольгу. Похудела девка, лицо осунулось. Куда девалась былая веселость, резвость и баловство. Из дома почти не выходит и тайком от родителей плачет. Кирилловна думает, что девке замуж пора —оттого и грустит. Отец догадывается о истинной причине, он про яблоневый сад помнит. И еще знает о том, что дочери неведомо. На подворье князя в самые последние часы стало известно, что княжич Вячеслав и воевода ополчения Василь– ко в сече с ордынцами погибли.
Но если бы и сказал об этом Никита, дочь все равно бы не поверила. Потому как прячась от врагов в лесу, на Львовском шляхе, она встретила дружинника одного, и он сказал ей, что после орды ходили они на место сечи, тело убитого Вячеслава нашли, а Василько найден не был. Стало быть, взят он в плен и, может быть, жив.
И Ольга верит – любимый ее выживет, из плена вырвется и найдет ее. Эта вера помогает ей жить, переносить тоску, горе и заботиться об отце. Дочь знает, что потеря товаров, обоза, лошадей сильно печалит отца, и она всячески поддерживает его дух, старается отвлечь от печальных дум.
Вот и сейчас предложила она ему спеть песню...
Любит Никита слушать высокий и чистый Ольгин голос.
Ой, да как по морю Русскому,
Да морю черному,
По Днепру-отцу да по великому
Плыла лодочка, ладья белая,
Парус шелковый, да он крестом расшит.
В той ладье большой да богатырь лежит,
Добрый молодец, да суроженин он,
Богатого гостя заморенин сын...
Никита слушает, закрыв глаза, и, как наяву, встают перед ним бурные волны Днепра, ладья, а на ней тяжело раненный молодец.
Пригорюнившись, слушает песню Кирилловна.
Во дворе тихонько вторят песне служанки. Они не знают русских слов, но хорошо чувствуют в напеве печаль, которая и в их сердцах будит тоску по родным местам.
Как со гостем тем да ясным соколом,
Со Чурилой да свет Пленковичем
Во ладье плывут да все его друзья,
Други верные, да гости честные.
Неспроста Ольга завела эту песню. Любимая она у отца, иногда и сам Никита тихим тенорком подпевает дочери. Сегодня он не поет. В прошлые, дальние годы унесла его песня. Ведь непременно был такой сурожский гость Чурила Пленкович, думал Никита. Кто
он? Уж не его ли предок? Ведь неспроста прозвище чуриловское носит сурожский купец. Может, прадедом приходится ему сурож– ский гость, может, другой какой дальней родней.
Давно окончена песня, а Никита все еще во власти' своих мыслей.
У Кирилловны свои думы. Она, как бы между прочим, говорит:
– Вчерась весь вечер фряги спать не давали. Бренчали под окнами да канцоны эти пели. Тьфу!
– Не говори, Кирилловна. У фрягов есть хорошие песни,– заметил Никита.
– Так ведь надоели, батюшка. Я вот гонять ужо буду.
– Гонять не след. Неприлично это,– сказал Никита.– Пусть поют,– и, улыбнувшись, спросил:—А много певцов-то, Кирилловна?
– Много, батюшка, да что от них толку. Иноверцы все. А Оленьке ведь жениха надобно,—и, вздохнув, добавила:—А жени– хов-то мало. Пожалуй, и нет совсем. Дочке двадцатый год идет – мыслимо ли дело в девках сидеть.
– Ну, уж вы, мамонька,– покраснев, сказала Ольга,– выйду еще, успею.
– Я, голубонька, пятнадцати лет за Афанасьевича-то вышла.
И канцоны о,н у меня под окном не распевал. Приехал в Сурожек за товарами—приглянулась я ему, да сразу и за свадебку...
– Подожди, Кирилловна,– прервал ее Никита,– вот поедем | еще с товарами на Русь – кому-нибудь и наша Оля приглянется.
– Дай-то бог,– со вздохом сказала мать и перекрестилась трижды. 'I
* * *
Высекая искры подковами, по каменистой улице мчался всадник. У подворья Никиты Чурплова он остановил коня и, спешившись, забежал во двор.
– Ты откуда? – спросил Никита, увидев Федьку.
– Поклон тебе привез, Никитушка! – Федька прислонился к балясине, чтобы не упасть (не легка была скорая дорога).– От Ивана Булаева поклон.
Никита спешно подошел к Федьке, взял его под руку, подвел и усадил на лавку.
– Где видел его? – ахнула Кирилловна.
– В караване невольничьем. Слезно просил передать тебе, чтоб выручил. Лучше, говорит, холопом у Никиты буду, чем за морем спину.
И Федька рассказал купцу о своей встрече с Ивашкой. Никита задумался.
– Что молчать-то,– затормошила мужа Кирилловна.– Утром надо выезжать, не то продать человека могут. Денег не жалей, ведь родная кровь наша.
– Не в деньгах дело,—промолвил Никита.– Нездоров я, да и стар, чтобы верхом скакать сломя голову.
– Сынов пошли.
– Аль не знаешь – оба сейчас в Кафе.
Воцарилось молчание. И вдруг Ольга сказала:
– Позвольте мне, тятенька!
– Нишкни, глупая! – прикрикнула на нее Кирилловна.—Разве пристало девке в такую опасную дорогу пускаться!
– А ты поедешь? – спросил Никита Федьку.
– Да кто же без меня найти его сможет? – ответил тот.– Мне коня только надо сменить.
– Собирайся, доченька,– решительно сказал Никита,– Четверо слуг, Федор да ты... С утра поезжайте с богом.
Под громкие причитанья Кирилловны Ольга пошла собираться в дорогу.
Утром Козонок еще раз спросил Никиту:
– Не передумал, Никита Афанасьевич, может, я один справлюсь? Не дай бог случится што... Девка все-таки она...
– Нет, не передумал. Пусть съездит, на жизнь посмотрит. На то божья воля. Она не просто девка, она сурожского купца дочь.
Большой смысл вложил в эти слова Никита Чурилов. Гость-сурожанин жизнью самой сделан смелым, решительным, предприимчивым. Вся жизнь сурожца – риск: идет ли он торговым караваном от синих русских озер, везет ли от моря обратным путем восточные товары – всегда рискует.
Сурожанин живет, как говорят, «меж трех концов копейных»– с одной стороны татары, с другой генуэзцы, а с третьей – Русь-матушка. Изворотливым надо быть сурожанину, оружием владеть искусно. Языки надо знать – уметь разить не только саблей, но и словом.
Посылая Ольгу в далекий путь, Никита сказал:
– Будь смелой, но не горячись. Едешь одна – на мои советы не надейся. Думай сама, советуйся с Федором да холопами. Ежели что не так выйдет, на Хаджиме помогут, дай им знать.
– Я, батюшка, сделаю все как следует.– И Ольга легко вскочила на коня.
Теодоро ди Гуаско подъезжал к Арталану. Горная тропа кончалась, еще один спуск, и всадники выедут на дорогу, идущую из Солдайи.
Кони шли тихо, сбивая копытами пыль с придорожных трав. За Теодоро и Памфило следовали пешие слуги, вооруженные копьями и мечами. У некоторых на плечах лежали тяжелые арбалеты.
Теодоро молчал, углубившись в свои мысли. Странное творилось в душе молодого генуэзца. Год назад на весеннем гулянии над морем встретил он девушку. Она играла на виоле и пела песню итальянских крестьян «Вода бежит к оврагу». Теодоро сразу оценил ее смелость – редкая девушка решится петь для всех на гулянии. Косы, лежавшие венцом на голове, делали ее похожей на королеву. Она была в свободном красном шелковом сарафане; широкие рукава стянуты в запястье. Теодоро заметил, как из рукава вылетел розовый платок и упал на траву. Он быстро поднял его и с учтивым поклоном подал красавице, когда она кончила петь. Девушка улыбнулась, и эту улыбку по сей день не может забыть Теодоро. Потом он долго не видел девушку, а то, что узнал о ней, не принесло ему радости: она была другой веры.
Теодоро воспитывала мать – ревностная католичка, а после смерти матери у него был духовный отец Рафаэле, который превыше всего чтил законы святой веры. Узнав об увлечении Теодоро, он сказал: «Помни, если ты еще раз встретишься с этой девушкой, ты совершишь богопротивное и кощунственное дело. Святая церковь и господь бог не простят тебе этого».
С тех пор не знает покоя сердце Теодоро. После беседы с отцом Рафаэле он дал себе клятву не думать об Ольге, но стоит увидеть ее, как все забывается.
Вот и сейчас, в пути, Теодоро думает об Ольге, о своей любви к ней. К чему она приведет?
– О чем задумался, мой господин? – тихо спросил вдруг едущий рядом Памфило.
– Ты, Памфило, был когда-то монахом. Скажи мне, что бывает с человеком, если он совершит великий грех?
– Ровным счетом ничего, мой господин. Слава богу, у нас есть святые отцы, которые могут отпустить любой грех. Надо только иметь деньги. Ну, конечно, чем больше грех, тем больше надо уплатить.
– А скажи, Памфило, любить женщину другой веры, по-твоему, большой грех?
– Очень большой, мой господин.
– Ну вот если бы ты совершил этот грех, мог бы отмолить его?
– Нет, мой господин.
– Это почему же?
– У меня на такой великий грех нет денег.
– Ну, а если бы я впал в этот грех? Сколько надо на его отпущение?
– Десять сонмов, мой господин, и вы получите «аЬэДуо 1е»'.
– Ну, а потом?
– Бел« у вас есть еще десять сонмов лишних, можно еще раз согрешить.
Они оба рассмеялись. Теодоро несколько успокоил этот разговор, и мрачные мысли его рассеялись.
На развилке дорог юноша и его спутники остановились на отдых. Пока слуги поили в речке коней, Теодоро и Памфило, лежа в тени, продолжали беседу о грехах. Бывший монах, Памфило догматы веры знал в совершенстве. Теперь он служил у ди Гуаско на должности, которая не имела определенного названия. Он, когда требовалось, писал деловые бумаги, ухаживал за старым ди Гуаско, а если надо было – лечил его. Учил Теодоро и Деметрио грамоте, а когда ди Гуаско промышлял перепродажей рабов, был подставным лицом, выдавая себя за купца.
– Я слышу топот коней, мой господин,—зашептал Памфило,– сюда кто-то едет.
Они укрылись за деревом. Из-за поворота дороги показались пятеро всадников. Одним из них была женщина.
– Посмотри, Памфило, это же Ольга!
Когда всадники проехали, Теодоро вскочил на коня и дал команду трогаться.
– Послушай, монах,– скороговоркой сказал он,– ты со стражей следуй поодаль, но не упускай меня из виду. Я поеду догоню их.
– Хорошо, мой господин. Только сначала приготовьте десять сонмов.








