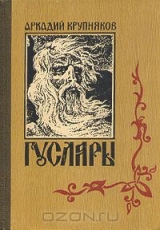
Текст книги "Москва-матушка"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Про Исайку-князя узнай получше. Проведал я, что его княжество захудалое и богатство не велико, и не статно вроде бы великому князю с ним родниться, но своя рука в той земле больно нам надобна, и опять же говорят, будто княжна красавица писаная. Потом рассудил я—девка византийская, императорских кровей. Ты, боярин, молод, в этих делах толк знаешь – посмотри хорошенько. Подарки князю выдам особые. После сего приступай к самому тяжкому: иди во дворец хана Менгли-Гирея и становись послом явно и смело. Был у меня недавно человек от хана, Гази– баба прозванием, и говорил, что Менгли с ордынским ханом Ахматом не дружно живут. Будто бы Менгли властью над ним Ахмата тяготится и не прочь с нами дружбу заключить. Вот об этом и поговори.
Добейся шертной грамоты на дружбу, а какова она должна в точности быть, дьяк тебе расскажет. Ежели хан грамоты давать не будет, тайно посети его царицу Нурсалтан, вручи ей письмо, кое дьяк тебе передаст. Она поможет. Дары царице я передам особые, хану будут отдельно. Понял все?
– Все как есть понял, государь...
В тот день, когда Никита Беклемишев выехал в Крым, в Москве стало еще холоднее. Санный возок боярина утеплили кошмой, обили темной кожей.
Сиваши переехали только спустя три месяца после выезда. Возок пришлось поставить на колеса. Посол ехал негласно вместе с торговым караваном, под видом русского купца. Посольский поезд был велик – тридцать две упряжки. Впереди ехала колымага с рухлядью да с серебром в холщовых мешках, а за ней шел возок боярина. На колымаге пять охранников осброенных. Зг возком Беклемишева – посольство из дородных, бывалых людей. Среди них толмач, Шомелька Токатлы. Расторопный Шомелька уже много лет служил при русском дворе толмачом: языки татарский, армянский и латинский бойко переводил на русский, был деловит и, главное, умел хорошо понимать людей.
Едут Никита с толмачом в одном возке. Боярин дремлет, а Шомелька глядит на пыльную весеннюю дорогу. Едут не спеша – караван велик, разогнаться быстро нельзя.
Не доходя сорока верст до Кафы, караван стал на ночевку. Никита Беклемишев воеводу Ивана Руна, который охранял караван, послал в Сурож к Чурилову с письмом, в коем приглашал его от имени великого князя в Кафу.
После ночевки торговый караван двигался не останавливаясь. Около полудня, уплатив дорожную пошлину, прошли мимо Сол– хата. По пути в селении поили лошадей. Никто из утомленных путников не заметил, как от каравана отделился посольский толмач и скрылся в степной лощине.
А в возок к Беклемишеву пересел дароносец Тугейка с коробом. Боярин почти не знал этого человека и был несколько удивлен, когда великий государь послал с дарами какого-то безвестного татарина.
– Ты казанский татарин, аль крымский? – спросил Беклемишев после некоторого молчания.
– Ни то, ни другое, боярин. Я черемисин, а зовут меня Туга.
– Как в Москву попал не скажешь ли?
– Ты, верно, знаешь, боярин, что моя земля под властью казанского хана лежит, все черемисские люди ему подвластны. А я с детства стрелы без промаха пускал, я десяти лет уже медведя убил, а лису и зайца бил чуть ли не с пеленок.
– Ну уж врешь ты отменно,– боярин расхохотался.
– Не вру. У нашего народа обычай такой есть – каждое утро ребятишки ходят в рощу – стрелу в осину пускать. На сорок ша– юв. Который в осину не попадет – есть не дают целые сутки.
А если на другое утро не попадает? Так заморить недолго.
– Попадет. Как не попасть. Он ведь после этого целый день из рощи не уходит. Все стрелять учится. И я учился.
– Ну, а далее что?
– Вот и я говорю – мне было двенадцать, а обо мне слава шла как о лучшем охотнике. И дошла она до казанского хана Ибрагима. Повелел меня в Казань взять, чтобы я его молодых джигитов стрельбе и охоте учил.
– Вот как...
– Потом царицу из Казани вытурили, и взяла она меня в Москву.
– Ну, а дальше?
– Теперь Нурсалтан в Крыму царица. Ты, я чаю, знаешь об
этом.
– Знаю. И о том, что дети ее, Магмет-Аминька и Латифка в Москве воспитываются, тоже знаю.
– Да, добросердечие государя велико...
– Великий князь – умный мужик. Он не столько добрый сердцем, сколько далеко вперед глядит. Помяни мое слово – эти два парня ему сильно пригодятся.
– Когда? – спросил боярин усмехнувшись.
– Когда на Казань рать поведет.
– Вот ты какой! Недаром Нурсалтан тебя заметила.
– Когда она посылала своих сынов в Москву, мне с ним велела ехать и никуда от них не отлучаться. Так и сказала: «Я теперь, Тугейка, никому не верю, только тебе верю».
– Хвастаешь ты, Тугейка...
– Зачем мне хвастать. Не зря меня великий князь к Нурсалтан послал. Кто ей лучше меня про ее детей расскажет? Прости меня, боярин, но сколько ей про дела московские ни рассказывай, она полностью тебе не поверит. А я расскажу – поверит. И не хвастаю я...
– Может быть, и не хвастаешь...
* * *
Вершник на утро уже был в Салах и, конечно, не миновал корчму Геворка. Здесь он неожиданно встретил повара, говорящего по-русски, и в беседе выболтал, что ехал с послом из Москвы, а теперь письмо везет в Сурож, Никите Чурилову. Ионаша (это был, конечно, он) во что бы то ни стало решил узнать, что пишет русский посол сурожскому купцу. Он позвал Тору, но сколько та ни угощала посланника, сколько ни обжигала его взглядами своих черных глаз, он устоял, вино не принял, от отдыха в светлице отказался, только попросил накормить коня. Тора, удрученная неудачей, пошла было дать корм лошади путника, но Ионаша остановил ее:
– Я сам.
Через час вершник уже ускакал в сторону Сурожа. Спустя малое время, за ним не спеша выехал Ионаша. Он знал, что на середине пути лошадь путника издохнет, и тот останется пешим. Он, конечно, пойдет дальше и обязательно утомится и проголодается. Вот тогда-то его догонит Ионаша и предложит ему лепешек и вина из своей флаги. Посланник уснет и нетрудно будет узнать, что написано в письме русского посла.
На двенадцатой версте от корчмы Ионаша увидел павшую лошадь. Яд, данный с кормом, сделал свое дело.
Но сколько ни ехал дальше Ионаша, посланника догнать не мог. Он доскакал до самого Сурожа – нужный ему человек как в воду канул.
На обратном пути Ионаша всю дорогу размышлял о том, куда мог деваться посланник, но так ничего и не придумал.
ВЕСТНИК РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Дед Славко заболел. Не то чтобы слег совсем, а так все как– то недомогалось. Болела поясница, ныли натруженные ноги, а вечером одолевал жар. За дедом неотступно присматривал Андрейка. Парнишка сейчас совсем изменился, повеселел и вроде бы даже вырос. Все свое время делил между отцом и старым Славко. А с тех пор как старик занемог, мальчонка не отходил от него. Старого гусляра приказал беречь и атаман. Он велел Полихе кормить деда^отдельно. Варить для него самое лучшее.
На заре, когда на травах лежит студеная роса, Андрейка бегал по указке деда на лесные поляны, искал целебные травы. За время хождения по дорогам дед Славко не раз травами лечил себя и мальчонку.
В поисках желтого горицвета Андрейка выскочил на дорогу и вдруг в нескольких шагах от себя увидел человека. Он сидел спиной к мальчику, уткнув лицо в ладони,—не то думал о чем-то, не то плакал. Рядом, поперек дороги, лежал мертвый конь.
Андрей метнулся в кусты, побежал к Черному камню. Разыскал отца, рассказал ему о беде, которая постигла человека.
– Он, тять, по обличью наш, русский, можа, про отчину узнаем что-нибудь, можа, помогнуть ему надо. Как он теперя без коня-то?
– Молодец, Андрейка,– похвалил его отец и пошел искать
атамана.
А через некоторое время на дороге появились два всадника.
Кони шли рысью. Сокол и Ивашка молча вглядывались вперед. Скоро они миновали подохшего коня, а спустя полчаса догнали нужного им человека. Бородач, увидев вооруженных людей, выдернул саблю из ножен и отскочил в сторону.
Сокол осадил коня и тихо сказал:
– Будь здоров, добрый человек.
– И тебе доброго здоровья,– ответил бородач, все еще не убирая оружия.
– Саблю оставь. Мы не лиходеи,– посоветовал Ивашка. – Не чаял, верно, встретить здесь русских людей?
– Почему же,– уже спокойно произнес бородач, вкладывая саблю в ножны.– Чай, к морю иду, к Русскому.
– Ишь ты,—рассмеялся Василько.– Русское море велико. К кому идешь-то?
– Про то мне одному ведомо,– сурово ответил бородач и снова положил ладонь на рукоятку сабли.
– Ну, ладно,– крикнул Ивашка,– не хочешь сказать – не говори. Мы тебе помочь хотим.
– Кто вы будете, люди хорошие? – спросил бородач.
– И про то только нам ведомо и никому боле. Ежели хочешь узнать, кто мы,– пройдем с нами, отдохнешь у нас, дадим тебе коня и в Сурож проводим. Пойдешь?
– Как знать мне, добрые люди вы али лиходеи?
– Не ради зла зовем тебя,– сказал Сокол. – Помочь тебе хотим...
– Если помочь хотите – ведите коня сюда. А к вам заходить мне несподручно.
Сокол кивнул Ивашке, и тот ускакал за конем. Василько спешился, подошел к бородачу.
– Напрасно нам не веришь. Ежели бы на деньги твои зарились – их и здесь отнять можно, ежели жизни лишить – на дороге даже удобнее.
– Так что же надобно вам? Вы же не знаете, кто я.
– Ты русский. Кто бы ни был... А мы из полона вырвались, живем здесь в лесу и, как нам далее быть, не знаем. А ты, видим, не простой человек. Может, посоветовал бы.
– Много ли вас?
– Много.
– Заехал бы я к вам, но тороплюсь сильно. Добираюсь к купцу Чурилову по торговым делам. Сам из Москвы.
Чем больше говорил бородач с Соколом, тем больше верил этому человеку. А когда приехал Ивашка с конем, разговор пошел еще откровеннее. В конце концов бородач сказал, что его зовут Иваном Руном, и намекнул, что он может вскорости увидеть государева посла и рассказать ему про ватагу.
– Расскажи о нас послу государеву и передай ему – коль потребуется помощь, пусть шлет тебя сюда. Поможем завсегда. Пусть и он ведает и помнит: живут у Черного камня вольные люди, много русских и украинцев среди них и не знают пока, как в родные места попасть. Он, боярин-то, сверху лучше видит – может, подскажет что.
Рун все обещал передать и, собираясь в Сурож, спросил у Ивашки:
– Может, поклон кому в Суроже передать?
Ивашка подошел вплотную к всаднику, тихо проговорил:
– У Чурилова есть дочь, так вот наш атаман... Одним словом, хочется ему побывать там, а причины к тому нет. Попроси его в провожатые. Без задней мысли вроде.
Рун кивнул, быстро соскочил с коня и пошел к атаману.
– Просьбица у меня к тебе есть, атаман, немалая. Проводил бы ты меня до Сурожа, тебе узнать Никиту Чурилова было бы полезно. Откажу тебя ему как своего соратника. Поедем, а?
– Как ты о сем думаешь, Иваша? – спросил Сокол.
– Дело хорошее. Поезжай, мой тебе совет.
В сумерки Василько и Рун подъехали к дому Никиты Чурилова. Принял купец их радостно, письмо боярина прочитал сразу и начал сборы в Кафу. Договорились выезжать завтра утром. Василька он видел всего один раз и то под хмельком и потому не узнал. Никита жадно выспрашивал посыльного о делах великого князя Московского, до самого ужина не давал Руну покоя. Сокол в беседе участия не принимал, хотя рассказ слушал внимательно. Ужина он ждал с великим нетерпением – к столу должна была выйти Ольга,– хотя и боялся, как бы, неожиданно увидев его, девушка не выдала себя.
Время шло медтенно. Наконец Никита поднялся и, открыв дверь в просторную комнату, сказал:
– Прошу дорогих гостей отужинать чем бог послал.
Когда к столу вышла Кирилловна, Никита произнес
– Это моя старушка... а это дочь моя, Ольга.
Девушка вошла за матерью, хотела было низко поклониться гостям, но вдруг пошатнулась и, ухватившись за рукав Кирилловны, вскрикнула:
– Ой, маменька!
– Что ты, родненькая, бог с гобой! – засуетилась Кирилловна.– Это из Москвы наши русские люди, посланники великокняжеские.
Ольга присела к столу. Украдкой то и дело поглядывала она на Сокола, ловила его взгляды, и лицо ее так и полыхало.
Отужинав, Василько встал из-за стола и, поклонившись хозяевам, сказал Руну:
– Позволь мне ночевать сегодня около лошадей.
Кирилловна и Никита стали отговаривать его: для дорогих
гостей постланы в спаленке пуховые перины. Но Рун, подмигнув Соколу, сказал:
– Его служба такая – быть у коней. Иди.
В летней конюшне приятно пахнет сухой травой, конским потом и морем. Лошади лениво жуют овес. Василько лежит на сене, прислушиваясь. Тревожно на душе у Сокола – придет ли любимая?..
Всюду стоит удивительная тишина. Даже море не нарушает покоя – только за скалой с тихим шорохом набегают на берег легкие волны. Умолкли цикады, стрекотавшие с вечера...
Вдруг во дворе раздались легкие шаги. Неужели она? Василько приник к дверной щели. В полосе света промелькнул неясный силуэт. Тяжело дыша, атаман отпрянул от двери. Вот брякнула щеколда. Сердце Сокола учащенно забилось – так открывать дверь мог только свой во дворе человек. Лунный свет упал на атамана. Увидев его, Ольга кинулась навстречу. Василько прижал ее к себе и ощутил горячие слезы, залившие лицо девушки, спрятанное на его груди.
– Васенька, родной мой, – шептала она. – Изболелась я вся, душой извелась, думая о тебе.
– А я... я тоже... всегда только ты... – Василько сразу растерял все слова, приготовленные для встречи, и только целовал волосы, глаза и губы своей желанной, своей любимой.
– Как пошел ты на конюшню – я сразу догадалась, что ради меня к нам приехал.
Потом, обнявшись, они сидели на мягком душистом сене и говорили, говорили, говорили... Василько с тревогой спросил:
– Как же дальше будем, Оленька?
– Не грусти, мой милый, давай забудем об этом сегодня. Я сейчас хочу любить тебя, любить... – и Ольга обвила руками шею Сокола, привлекла его к себе.
Тихая звездная ночь плывет над землей. Все уснули в доме Чурилова. Только Ольга и Василько не спят. Думают, гадают они, что делать им. Думают и ничего не могут придумать. Клянут судь– бу-разлучницу.
А звездная ночь все плывет над землей. И ничто не нарушает тишину вокруг. Только вздыхает внизу под обрывом море, только едва шелестят листья деревьев да сонно пофыркивают кони...
Глава восемнадцатая
ПОЕЗДКА В СОЛХАТ
Консулу... запрещается покидать на ночь город...
Из Устава генуэзских колоний.
ано утром после долгих сборов Христофоро ди Негро и Якобо выехали в Солхат. Якобо готовился к поездке верхом, но консул решил ехать в крытой повозке.
– Я опасаюсь за твое здоровье, мой мальчик, – сказал он сыну. Но Якобо не поверил ему. Он знал – отец не хочет, чтобы его видели в городе. Генуэзский Устав воспрещал коменданту надолго отлучаться из крепости и тем более вступать с татарами в какие-нибудь сделки.
Дорога шла в гору через густой лес.
Якобо то и дело откидывал полог повозки, любовался красотой раннего утра. Наконец он не выдержал и уселся рядом с Федькой Козонком, который правил лошадьми. Консул остался один в душной повозке. Тревожно было на душе Христофоро ди Негро. Связь с родной Генуей почти порвана – турки прочно осели в Константинополе, и проходить судам через пролив становится все труднее. Ходят слухи, что турки собираются к крымским берегам. И если, не дай бог, сарацины осадят Кафу и Сурож, без подмоги долго не протянуть. А там смерть или плен.
Последнее скорее всего. И потому совсем неплохо заручиться расположением татарского хана.
Ради этого и едет сегодня консул негласно в Солхат.
Он долго откладывал эту поездку, но недавно узнал, что Мен– гли-Г'ирей-хан собирается покинуть Солхат и перенести столицу куда-то в горы. Туда добираться будет труднее.
В Солхат въехали поздним вечером. На фоне высокого южного неба четко выделяются белые, как зажженные свечи, минареты мечетей. Вышки ИХ опустели, не СЛЫШНО ТОСКЛИВЫХ ГОЛОСОіВ служителей аллаха. Умолк и говорливый базар, шумевший весь день. Слышно только, как в дальней сакле звенит печальная мелодия зурны. Вот и она оборвалась... Света в домах и саклях нет, только кое-где мерцают окна кофеен, там ждут ночных посетителей...
Осторожно пробираясь по темным и кривым улицам, повозка консула остановилась, наконец, у невысокого дома, почти полностью скрытого за высоким забором. Пока Федька осматривал лошадей и повозку, Христофоро подошел к калитке, постучал. Во дворе лениво залаяли собаки, и скоро за дверью послышались шаги и суровый голос:
– Кто там?
– Открой, Коррадо! Это я – Христо,– тихо произнес консул.
Калитка открылась, и консул с Якобо вошли в дом генуэзского
купца. Федька Козонок остался ночевать в конюшне. Наскоро поужинав, уставший от дороги и дневных впечатлений Якобо уснул. Христофоро и Коррадо долго еще вели беседу, рассказывая друг другу о жизни в Суроже и Солхате. Когда все было переговорено, консул попросил хозяина об одной услуге:
– Найди мне, Коррадо, хорошую служанку. Геба стара и не успевает как следует вести дом. За ценой я не постою...
Коррадо, недолго думая, ответил:
– Знаешь, Христо, такая девушка у меня есть на примете. Рядом с моим домом живет Довлетек-ага. Богатый и жадный татарин. Не так давно он приобрел на рынке особенную девушку.
– А ее могут продать?
– Дашь хорошую цену, и Довлетек не устоит.
Утром Коррадо еще до пробуждения консула и Якобо зашел к татарину-соседу и заговорил о том, что ему нужна служанка и не продаст ли Довлетек ему девушку-рабыню Эминэ.
– О, мой высокопочтимый сосед. Эминэ я не продам. Сам за нее заплатил сто серебряных монет.
– А если я дам тебе за девушку столько же, но золотых?
– Тогда я подумаю.
– Сделаем так, дорогой сосед,– предложил Коррадо,– ты отпустишь рабыню на один день ко мне, и если она понравится мне как служанка, я вечером принесу тебе сто золотых.
– Хорошо,– подумав, ответил татарин.
Так Эминэ очутилась в этот день в доме Коррадо. Хозяин приказал, чтобы она служила сегодня молодому гостю и постаралась ему понравиться.
Эминэ вошла в комнату, где спал Якобо, почистила его одежду, пропыленную в пути, принесла большие глиняные блюда с водой для умывания и только после этого решилась поглядеть на гостя. Взглянув в лицо Якобо, девушка нахмурила свой лобик, стараясь припомнить, где она видела этого юношу. Что-то знакомое было во всем облике спящего. Эминэ подошла к окну и задумалась, стараясь поймать обрывок воспоминаний, который относился бы к встрече с юношей.
А Якобо в это время проснулся. Он повернул голову и замер. У окна стояла девушка. Одета она была в легкую прозрачную, с узкими рукавами кофточку, вместо юбки голубые татарские шаль– вары, подвязанные у щиколоток. Якобо захотел увидеть ее лицо, и он тихо сказал:
– Селям, джаным!'
Девушка вздрогнула, легко и быстро подошла к кровати и, опустившись на колени, склонила голову. Якобо понял, что это служанка.
Ему хотелось сказать ей что-то еще, ласковое, нежное, но таких слов на чужом языке он не знал и поэтому пригласил ее сесть на край ложа. Девушка робко присела, и тогда Якобо увидел ее смуглое и удивительно привлекательное лицо. Волосы были черные, необычные для татарок: они вились то мелкими колечками, то крупными завитками.
Девушка смотрела на юношу, и ее глаза очень показались Якобо необычными. Когда она глядела прямо, они были крупными, такими, какие часто встретишь у генуэзок. Но вдруг девушка прищурилась, глаза сделались узкими; в этот момент служанка походила на татарку. Нос у нее был безукоризненно прямой, губы чуть-чуть приоткрыты, подбородок с ямочкой.
– Как тебя зовут? – спросил Якобо, еще покопавшись мысленно в скудном запасе известных ему татарских слов.
– Эминэ,—тихо ответила девушка и неожиданно спросила на' итальянском языке: – А тебя как зовут?
– Меня зовут Якобо. Ты прости меня, я принял тебя за служанку, а ты,верно, дочь господина Коррадо?
– Пусть мой господин простит меня, что осмелилась заговорить с ним. Мой господин правильно подумал—мне приказано служить ему сегодня.
– Окуда ты знаешь мой родной язык?
' Здравствуй, душа моя! (тат.).
– Меня научила мать.
– Значит, твоя мать была генуэзка?
– Да.
– Расскажи, Эминэ, все о себе. Я хочу знать,– сказал Якобо.
– Дело господина повелевать, мое – быть покорной.
И Эминэ начала рассказ. Говорила на итальянском языке она плохо, часто пользуясь татарскими словами, но Якобо хорошо понимал всю ее речь. История жизни Эминэ коротка. Ее мать была пленницей у богатого татарина и умерла, когда девочке было всего три года. Кто был ее отцом, Эминэ не знает. Вскоре после этого хозяин не вернулся из набега. Все его рабыни перешли к брату, которого не очень трогала судьба сироты, и как только Эминэ исполнилось восемь лет, он продал ее в Кафу одному генуэзцу. Там она жила четыре года, затем заболела. Больную, ее за бесценок продали в греческую семью. Грек долго лечил ее настойками разных трав, и она стала здорова. А сейчас она здесь, и ей приказано служить молодому господину.
– Осмелюсь ли я спросить, мой господин? – закончила вопросом свой рассказ Эминэ.
– Спрашивай, джаным! – воскликнул Якобо.
– Где я могла видеть моего господина раньше?
– Только в Суроже. Я больше нигде не был.
– А я никогда не была в Суроже, но мне кажется, что я моего господина знаю давно-давно, с детства. У моего господина дома в Суроже есть служанка?
– Есть. Ее зовут Геба. Она очень хорошая.
– Как жаль. Я бы хотела быть служанкой моего господина.
– Так поедем с нами. Я попрошу отца, и он может купить тебя у Коррадо.
Эминэ радостно засмеялась и сказала:
– Я буду служить хорошо-хорошо.
Порле умывания Якобо и Эминэ пошли в сад и долго бродили по сырой траве, без умолку рассказывая друг другу обо всем, что может интересовать молодых людей в их пору.
Вечером Коррадо принес соседу-татарину сто золотых монет. Все случилось так, как он предполагал: Якобо попросил отца купить служанку, Христофоро попросил Коррадо узнать, сколько она стоит. Коррадо признался, что он утром уже купил ее за триста золотых и если такая цена славному ди Негро не подходит, он оставит девушку себе. Консул не торговался и уплатил требуемую цену. Так Эминэ стала собственностью Якобо ди Негро.
Улучив момент, Коррадо шепнул девушке:
– Не прозевай счастье свое, глупая. Отец Якобо хочет, чтобы ты заставила юношу позабыть всех женщин на свете.
Эминэ в знак великой благодарности скрестила руки на груди.
Глава девятнадцатая
ШОМЕЛЬКА ТОКАТЛЫ ПИШЕТ ПЕРВОЕ ПИСЬМО
айя, 29 дня. Писано в Крыму.
Думному дьяку Илье Курицыну от Шомельки поклон земной.
Как учил ты меня, дьяче, я сразу же все так и сделал. Господин мой, Никита Василии, как проезжали мы мимо Солхата, из возка меня высадили, а я дотемна просидел в степи, а к ночи вошел в столицу хана и пришел к двоюродному брату моему, о коем тебе ведомо. Он уже много лет при ханском дворце золотых дел мастером состоит. Кисет с деньгами – подарок твой ему я отдал немедля. На второй день брат привел меня во дворец, сказал хану, что ему подмастерье надобен, и хан милостиво повелел взять меня к золотому мастеру в обучение, и вот я уж сорок дён как помогаю моему брату, бывая во дворце каждодневно. Много я видел тут и слышал сам, да еще более узнал о татарах от родича моего, который ханскую жизнь знает отменно. Если даст бог, я обо всем буду тебе, дьяче, отписывать, письмо слать через здешних караимов в Кафу к господину моему Никите Васильеву, а он эти листы с первой же оказией перешлет в Москву тебе, как было замолвлено.
Какой народ эти ханы – тебе писать не следует, русские люди их хорошо знают: жестоки, коварны, жадны и грязны. Об одном только добавить следует – еще и хвастливы до неимоверности. О том судить по множеству примеров можно. Стольный град татар. Солдатом именуемый, по их хвастливым рассказам, произошел будто бы от такого случая: однажды через город проходил богатый караван купцов азиатских. А хан в то время строил мечеть. Он спросил купца, везущего на верблюдах сто больших бочонков: «Что ты везешь?» Тот ответил: «Сандаловое масло». «Сколько стоит бочка масла?» – спросил хан. Купец, принимая хана за обычного горожанина, ответил: «Тебе не покупать его, зачем знать цену. Оно настолько дорого, что тебя не хватит денег, чтобы уплатить за каплю, не только за бочку». Хан настойчиво и сурово спросил еще раз: «Сколько стоит бочка?». Купец назвал ему цену, и тогда хан отсчитал золотом за все сто бочек и коротко сказал рабочему, приготовившему раствор глины для строительства: «Сал! Хат!» Что означает: «Снимай! Меси!» И тогда рабочие сняли все бочки с драгоценным маслом и замесили на нем глину для мечети.
Сие, дьяче, зело смехотворно, ежели узнаешь, как нынешний хан бранится с сереч-башой, человеком, ведающим освещением дворца, из-за. каждой лишней капли дешевого масла, израсходованной на свет в ночи.
Расскажу тебе, дьяче, еще вот что. Задумал недавно хан удивить людей и нанял венецианского мастера ему изделать железные ворота. Мастер мне сам рассказал, как ему четырежды приходилось переделывать рисунок сих дверей, с каждым разом хан уменьшал начертанное, и теперь вместо прекрасного широкого входа, какой был замыслен венецианцем, построили малые двери, каковые устыдился бы поставить на свой двор не токмо наш князь, но и мало-мальский прилавочный купец.
Говорят, что хан сейчас строит новый дворец в Салачике около Чуфут-Кале, и дворец тот будет называться дворец-сад, что по-татарски будет Бахчи-сарай, и будто думает хан переносить туда свою столицу. Сие для татар все равно, ибо по ихнему обычаю столица хана там, где он поставил свой шатер.
Скупость хана настолько велика, что он повелел сии «величественные» двери выломать и перевезти в тот Бахчи-сарай.
Прости меня, что пустой болтовней отнимаю твое время, но, я полагаю, и сие тебе знать надобно.
Теперь о Менгли-хане напишу немногое. Сей правитель из рода Чингизидова, чем он весьма гордится. На торжественных приемах его титл величают полностью, и он таков: «Менгли-Гирей, бен-Хад– жи-Гирей, бен-Мухаммед-Султан, бен-Тимур, бен-Мелек, бен-Кут– лук, бен– Урусхан, бен-Чимгай, бен-Сасы-бука, бен-Тули, бен-Ордэ, <бен-Джучи, бен-Чингиз-хан. Бен – по-ихнему сын. Слово «Гирей»
присоединил к своему имени отец Менгли Хаджи-хан, а что сие означает, неизвестно. Иные говорят, что Хаджи-хана в молодости спас от смерти пастух Гирей, и в честь того Хаджи повелел удержать это прозвище за всем потомством.
Менгли-Гирей зело не любит золотоордынского хана Ахмата, непрестанно с ним враждует и для того вступил в союз с польским крулем Казимиром. Сие надо принять во свою пользу при посольских делах здесь и у вас в Москве, распрею татарских царей воспользоваться, чтобы выйти на согласие с одним из них, который подальше и побезвреднее, и тем легче справиться с другим, коий ближе и постоянно надоедает набегами на наши земли. О ратной мощи хана скажу – разбойники они, а не воины. Татаре употребляют оружие, известное с древнейших времен,– копье, сабля, кинжал да колчан со стрелами. Оружие сие редко своей выделки – больше вседобытое в разбое. Оружия в войске немного, но в набеги они берут с собой много запасных лошадей, оттого татарское войско кажется многочисленнее против действительности.
Основной ясырь татар – полоняники. Хан получает десятую долю из всех пленников, как и всего протчего награбленного добра. Остальных делят по отрядам. Пленных татаре мучают голодом, побоями, наготою, а простого званья людей до того бьют плетьми, что несчастные сами желают себе смерти. Пленных татаре продают только после того, как откажут в выкупе соотечественники.
Довелось мне быть не один раз в гареме хана. Не подумай, что я по старости лет пустился на грех, нет, мы с братом делали там надписи да арнаменты рисовали. Над входом в гарем начертали: «О, открывающий двери, открой нам наилучшую дверь». До сего времени я думал, веря рассказам, что у хана превеликое множество жен. Сие не так. У Менгли-Гирея всего четыре законные жены, коих он менять, согласно Корану, не волен. И еще у него есть двенадцать наложниц. Их он может менять, продавать и восполнять, ежели какая умрет или хан ее разлюбит. Кроме них, в гареме обычно живут служанки, рабыни и разные мастерицы. Таких здесь много, более сотни.
Из четырех жен хана старшая, называемая валидэ, пользуется правами царицы. У Менгли-хана валидэ по имени Нурсалтан, о которой тебе, дьяче, известно. Узнал я, что царица сия умна и властна, и хан часто слушает ее советы. Из сего мы пользу делу извлечь сможем.
Если будет час, в другом письмеце опишу тебе весь ханский дворец, а ежели нас повезут в Бахчи-сарай, и оттоля тоже письмишко сумею переслать.
Ну, вот и все. Прости, дьяче, что неумно написал, только моей вины тут мало: что я мог узнать за такой короткий срок? Вскорости жди, дьяче, другого листа от слуги твоего Шомельки Токатлы».
Глава двадцатая
УТРО МЕНГЛИ-ГИРЕЙ-ХАНА
«Владетель этого дворца и повелитель своей страны султан всемилостивый Менгли-Гирей-хан, сын Хаджи– Гирея. Да помилует бог его с родителями в обоих мирах».
Надпись над входом во дворец.
удьба, решенная ночью,—несчастная судьба. Закон, принятый ночью, не угоден аллаху. Так говорят мудрые мира сего, и потому Менгли-хан ночь свою проводит в удовольствиях и сне, а все важные дела решает утром.
Каждое утро по строго заведенному ханом ритуалу к нему входили сначала хан-агасы, нечто вроде министра внутренних дел, хранитель казны хазнадар-ага, начальник верховного Совета диван-эфенди, начальник ханских рабов, вожак джигитов Хадым-ага и Ак-Мажди-бей – хранитель гарема.
В этот день был обыкновенный прием. Первым, как всегда, вошел к хану хан-агасы. Не прошло и пяти минут, как он вышел из покоев хана.
На лицах у всех, кто ждал приема, легкая усмешка—давно известно, что хан-агасы все время проводит в кейфе и о делах государства имеет слабое понятие. Он входит к хану, чтобы поприветствовать его, а потом туда направляется хазнадар-ага. О, этот будет долго говорить с владыкой. Известно всем, насколько скуп хан,
и все знают, что он потребует от казначея отчета за каждую истраченную монету. Хазнадар-ага, переваливаясь с боку на бок, словно селезень, поспешно вошел в кабинет хана. Менгли-Гирей сидел на подушках, глядел в сторону. Вошедший, не доходя пяти шагов до хана, упал на колени и поцеловал край ковра.
– Приветствую тебя, великий и несравненный,– сипло проговорил казначей,– и молю аллаха о том, чтобы казна твоя была также полна завтра, как и сегодня. Вчера я получил письмо из Чу– фут-Кале. Сейтак-ага снова просит выслать золота для продолжения строительства дворца в Ашламе.








