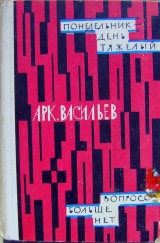
Текст книги "Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник)"
Автор книги: Аркадий Васильев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
…Яков Михайлович побежал. Вернее, ему казалось, что он бежит. Это было странное убыстренное покачивание – раз направо, раз налево, а вперед он продвигался почти шагом. Устав, весь мокрый, присел на скамейку. «Что же это такое? Решили! А мне даже не предложили. А может, это не так? Нет, все так. Сидоров, собачий сын, все знает. Он, наверное, от Завивалова шел. Они приятели. Так и сказал: «Давно бы пора! Сколько же можно!» Это про нее, про Анну Тимофеевну…»
Каблуков живо представил, как он сейчас войдет в кабинет, а Стряпков уже там, сидит и чавкает. Он, подлец, ехидно посмотрит на часы и съязвит: «Дисциплинка-то для всех одна, товарищ Каблуков».
«Если бы утвердили не Анну Тимофеевну, а меня, я бы показал Стряпкову, где раки зимуют. Он бы у меня вертелся, как червяк на крючке… Ах жизнь! До чего же ты иногда несправедлива!»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
которая еще раз подтверждает, что любви все возрасты покорны
Мы оставили деятелей «Тонапа», погруженных в размышления по поводу приезда Корольковой.
Но не таков Юрий Андреевич Христофоров, чтобы пасовать перед трудностями… Он оглядел своих не столько верных, сколько приученных повиноваться помощников и скомандовал:
– Наливай, Поляков! Как это поется: «Что вы, черти, приуныли…» Прямой опасности я еще не вижу, а бдительность мы усилили. Борзов, сними Ложкина с караула. Вольно!
И началось прожигание жизни по-краюхински. Поляков торопливо разлил водку. Стряпков громогласно изрек любимый клич:
– Шампанского и фруктов! И дам переменить!
Единственной дамой в отдельном кабинете была молодая мускулистая женщина-кочегар в кожаном переднике, изображенная, местным художником Леоном Стеблиным на фоне огнедышащей топки.
Выпив по одной рюмке, руководители «Тонапа» покинули зал заседаний – Христофоров и Стряпков, как настоящие администраторы, предпочитали не быть с массой на короткой ноге.
В коридоре Христофоров пропустил Кузьму Егоровича вперед, а сам шмыгнул в умывальник и принялся тщательно мыть руки. Мыл он столько времени, сколько, по его расчетам, потребовалось Стряпкову, чтобы выйти из ресторана и немного прогуляться по набережной. Вместе со Стряпковым выходить из питейного заведения не полагалось: воспоминания молодости не позволяли Юрию Андреевичу быть беспечным.
Оказавшись на улице, Христофоров посмотрел направо, чтобы убедиться, следует ли Кузьма Егорович в указанном ему направлении. Мысленно похвалив своего основного помощника за дисциплинированность, Христофоров повернул налево, к дому, не подозревая, какая его там ждет неприятность.
Будь Юрий Андреевич малопроницательным человеком, он бы не сразу заметил, что дома стряслась беда. Внешне все было как всегда: накрытый к обеду стол, на котором розовой башенкой выделялся любимый графин с водкой. Аромат свежих огурцов и укропа возбуждал аппетит, а при взгляде на селедку, обложенную мелко нарезанным зеленым луком, непроизвольно начинались глотательные движения.
Юрий Андреевич, как всегда, переоделся в пижаму, вдвинул ноги в спортивные тапочки и направился к раковине совершать омовение. И тут сработала его проницательность. От тишины, царившей в доме, от таинственного шороха в комнате дочери Христофорову стало не по себе.
– Что у вас стряслось? – спросил он жену, пощупав на всякий случай в кармане ключ от чердака.
– Ничего не произошло, – равнодушным тоном ответила Марья Павловна. – Что у нас может произойти?
– А кто вас знает, – буркнул глава семьи, старательно намыливая руки «красным маком». – Почему Зоя меня не дождалась? Одна пообедала?
– А она не обедала, – уже с едва уловимой трагической ноткой в голосе объяснила жена.
Христофоров кое-как ополоснул лицо и, принимая поданное супругой полотенце, еще раз доказал всю свою проницательность:
– Ну говори, что с ней?
Марья Павловна вытерла слезы и тихо сказала:
– Влюбилась!
Христофоров засмеялся:
– Только-то! Ну, это невелика беда. Не последний раз.
Жена сделала предостерегающий жест и добавила:
– Замуж собралась.
– За кого?
– За своего Васю. За кого же!
– За Каблукова? А ну, позови ее.
Зоя, войдя, встала у стены, заложив руки за спину.
– Я слушаю, папа.
– Мать правду говорит?
– Правду.
– За Каблукова?
– Да.
– Ты хорошо подумала?
– Да.
– Ты его любишь?
– И где жить будете и на какие средства?
– Мы рассчитываем…
– Меня не интересует, на что вы рассчитываете. Только рассчитывайте, пожалуйста, на себя.
Юрий Андреевич сел к столу, налил рюмку, выпил, крякнул, закусил селедочкой.
– Мать, давай, что там у тебя сегодня…
Зойка с удивлением и даже с растерянностью смотрела на него.
– Папа! Значит, ты не возражаешь?
– Я? Возражаю? Какое, позвольте вас спросить, уважаемая Зоя Юрьевна, право я имею возражать? Вы, не спросясь родителей, познакомились, без спросу объяснились, обо всем договорились… При чем же тут мы, старые дураки? Возражать? Да чтобы вся Краюха начала болтать: «Христофоров поперек дочерниного счастья встал. Христофоров – домострой! Христофоров – феодал!» Зачем мне это нужно?!
Марья Павловна слушала мужа со страхом. Она чувствовала – спокойный тон не к добру, скоро Юрий Андреевич взорвется, начнет кричать непонятные злые слова, бить посуду, судорожно схватит пузырек с каплями Зеленина и, весь мокрый, повалится, задыхаясь, на кушетку. Так бывало уже дважды – в декабре 1947 года, в день денежной реформы, и в первый год их совместной жизни, когда муж увидел, как молодой инженер леспромхоза Крючкин, проводив Марью Павловну до дома, поцеловал ее на прощанье…
И она не ошиблась. Юрий Андреевич бросил тяжелую мельхиоровую ложку прямо в рюмку. Хрусталь прощально звякнул, и осколки засверкали на хлебе и селедке. Христофоров порывисто встал. Он старался произвести как можно больше различных шумовых эффектов: ударил спинкой стула о стену, скинул на пол, как будто невзначай, нож и вилку, уходя из столовой, хлопнул дверью так, что в горке жалобно задребезжала посуда. Звуки доставляли ему удовольствие и распаляли его.
Марья Павловна со злым шепотом накинулась на дочь:
– Ну, чего стоишь, дура! Убирай! Вывели отца из себя. Он сейчас тебе еще покажет.
Она опять не ошиблась. Христофоров молча вошел в столовую. Это было последнее затишье перед ураганом. Тайфун начался с низких тонов.
– Спасибо, доченька! Спасибо! Удружила! – пока еще своим голосом заговорил Христофоров. – Вырастил доченьку!
Тут уже послышались скрипучие ноты.
– А все ты! – накинулся он на супругу. – Ты! «Доченька, доченька, моя маленькая, неразумная…» Вырастила дуру! Молчать!
Никто ему не возражал. Жена наблюдала за улицей, – не дай бог, если соседи услышат скандал. Зойка как вошла, так и не тронулась с места, стараясь не смотреть на отца. Но он еще громче крикнул:
– Молчать! Я вам говорю – молчать! Вот тебе мое последнее родительское слово – не откажешься от своего Васьки-дурака, уходи из дома. Уходи! И чтобы ноги твоей тут больше не было.
– Хорошо, папа, – спокойно сказала Зойка. – Я уйду. Сегодня же. Немедленно…
Она выбежала в сени. Христофоров бросился в ее комнатку, застучал ящиками комода, начал выкидывать вещи. Полетели чулки, белая кофточка, книги.
Потом раздался рев. Юрий Андреевич появился в столовой с фотоснимком в руках.
– Смотри, мать! Смотри… Полюбуйся на зятя. Прочитай, что написано: «Моей единственной ласточке. Люблю. Твой до гроба Вася». Ласточка! Знает, сволочь, какое гнездо у этой ласточки…
Но и у Зойки характер был решительный. Услышав эти слова, она вплотную приблизилась к отцу и тихо сказала:
– Отдай!
Христофоров порвал карточку на мелкие кусочки, бросил дочери в ноги.
– Получи!
Зойка не возмутилась, не кинулась на него с криком, а только презрительно посмотрела на его красное лицо с торчащими, как у кота, усами.
– Я тебе, папа, этого никогда не прощу. – И повернулась к матери: —Мама! Разреши взять твой чемодан…
* * *
Марья Павловна в окно увидела, как Вася Каблуков, давно, очевидно, поджидавший Зойку в садике, взял у нее чемодан, подхватил любимую под руку, и они зашагали, ни разу не оглянувшись.
После ухода Зойки программа Юрием Андреевичем была выполнена полностью: он бил посуду, кричал, принимал капли, весь мокрый, валился на кушетку, хрипел, стонал.
Потом в доме установилась зловещая, звенящая тишина. Сильно пахло валерьянкой.
В полночь Юрий Андреевич начал канючить:
– Для кого я старался? Для кого ночей недосыпал, лишней рюмки не выпил, в одних брюках хожу десятый год… В отпуск ни разу не ездил. Другие, вроде Стряпкова, каждый год в Сочи, в Гагры, в Кисловодск. А я, кроме краюхинской минеральной воды, ничем не лечился…
Он так настроил себя на жалостливый лад, что не выдержал и заплакал.
Марья Павловна, молча слушавшая супруга, решила, что теперь пришла пора действовать.
– Стоит ли так убиваться, Жора?
В редкие минуты жизни она всегда называла мужа Жорой – в память, первых дней знакомства.
– Ты подумай, Жора, что дальше делать? Вася еще ничего, скромный парень, жениться хочет. А если бы она в другого влюбилась? Много их, ловкачей, – улестят, а потом нате вам, воспитывайте внука от матери-одиночки, получайте пособие. Напрасно ты погорячился, Жора. Надо бы спокойнее с девочкой поговорить…
Марья Павловна пошла в решительную атаку:
– Выдай тысяч двадцать на обзаведение, если не хочешь, чтобы у нас жили…
У Юрия Андреевича слезы немедленно высохли. Он даже взвизгнул:
– За кого ты меня принимаешь? За дурака? Я им двадцать тысяч, а они мне фельетон в «Трудовом крае»?!
– Что они, враги тебе, что ли?
– Да не они, а через ихнюю глупость. Они же деньги мотать начнут. Зойка в тебя уродилась – мотовка.
– Хороша мотовка. Шубы и то не имею…
Последние слова жены Юрий Андреевич пропустил, словно не слышал.
– Мотовка! Себя нарядит в разные финтифлюшки, босоножек накупит и Ваську еще вырядит. А что люди скажут? «Откуда у дочери Христофорова деньги?»
Марья Павловна заплакала и со злостью выкрикнула:
– Да провались ты со своими миллионами! На кой дьявол они нам, если от них никакой радости? Лезь, считай! Боишься потратить лишнюю сотню. Пропади они пропадом!
Юрий Андреевич из темноты рявкнул:
– Перестань глупости молоть! И не кричи. Хочешь, чтобы соседи услышали?
– Вот-вот. Соседей боишься, родной дочери боишься. Всех. Только надо мной измываешься. Всю жизнь изуродовал…
Супруги замолкли. Минут через пять Марья Павловна выдвинула новую идею:
– Скажем, что это Васе дядя Петр из Москвы на обзаведение прислал.
– Дура! Теперь в это никто не поверит. Раньше могли поверить, а теперь наверху зарплату здорово урезали. И вообще Петр – бессребреник… Впрочем, постой, мать, постой. А ты ведь, пожалуй, правду говоришь… Денег я им, конечно, не дам, а жить к себе возьму. Петр Михайлович Каблуков ему родной дядя. Стало быть, и мне свояком будет… Как же я, идиот, об этом раньше не подумал? Яков Каблуков дурак, но зато Петр умен, В семье не без урода. Мать! Беги за Зойкой. Ищи. Где она? Давай ее сюда…
– Она, наверное, у Люськи. Не мог же он ее сразу к себе увести.
– Беги к Люське, беги!
– Да подожди ты, дай одеться.
– Что ты копаешься, клуха, скорее.
– Больно быстр. Сам сходи…
– И пойду. И приведу…
Но Юрий Андреевич, конечно, не пошел. Искать Зойку отправилась мать. А Христофоров, довольный тем, что неприятность, кажется, улаживается, принялся за самое любимое занятие – размышлять о будущем.
Это заманчивое будущее рисовалось ослепительным. Как только состояние (Юрий Андреевич любил это слово – состояние) дойдет до двух миллионов с половиной, он бросит рискованную возню с ларечниками, колбасниками и этим бегемотом директором ресторана Латышевым. Ради справедливости надо отметить, что сначала Юрин Андреевич думал только о миллионе, потом о двух. Цифра два с половиной появилась сравнительно недавно, после подсчетов, произведенных Христофоровым на основе изучения жизни. Но два с половиной – это уж все, точка. Увеличивать эту контрольную цифру он пока не собирался.
Два миллиона с половиной! Тысяч семьдесят набежит от ликвидации недвижимого имущества: дома, сарая, беседки в саду, фруктовых деревьев. Землю Христофоров собственностью не считал: «Что не мое, то не мое!» Ликвидировать надо все, с собой на юг взять самое минимальное. А Юрий Андреевич собирался переехать только на юг – куда-нибудь не в шумное место, но и не совсем в дыру. Лучше всего между Сочи и Гагрой или Гагрой и Сухуми, обязательно на берегу моря.
«Куплю дачу из четырех-пяти комнат, с застекленной террасой, а лучше с двумя террасами. Разведу цитрусовые и буду по знакомству сбывать хотя бы даже в Краюхе. Ранняя клубника – доход. Ранние помидоры – доход. С апреля по ноябрь – семь месяцев буду сдавать комнаты и одну террасу под пансион. Это – доход. Маша отлично готовит. Прислуга будет убирать, мыть посуду, стирать, гладить.
Кто что может сказать? Никто и ничего. Все законно, все прилично. Пенсионер, продал на родине дом – вот, пожалуйста, справка от краюхинской нотариальной конторы, продан еще сарай, фруктовые деревья. Выписываю «Правду» и местную газету, для сезонных жильцов «Огонек». Аккуратно плачу все налоги, как положено. Атеист. Целиком и полностью одобряю внешнюю и внутреннюю политику. Учу дочь. Что еще надо? А если участковый или еще кто-нибудь начнет любопытствовать – ну что ж, придется пойти на расходы… Конечно, хорошо бы раздобыть документы отставного военного, подполковника или даже полковника. Генерала, понятно, еще лучше – все-таки генерал! – но опасно: генералы все на учете, на виду. Лучше подполковника… На пиджак несколько ленточек, надевать не часто, только в революционные праздники. Хорошо! Но где взять документы? Поживем так, по-простому. Все законно. Что еще надо? Самогон не варю, скотины никакой, кроме собаки, не держу.
Господи, до чего же хорошая будет жизнь! Зимой – на пару недель в Москву или в Ленинград. Знакомых появится вагон и маленькая тележка – сколько жильцов за сезон пропустим… А весной! Выйдешь в сад – птички поют. Море ласковое. А когда все зацветет! Где еще, в какой другой стране, пенсионер, рядовой труженик, может так жить? Да нигде!..»
Юрию Андреевичу захотелось есть. Он вспомнил, что обед ему сегодня испортила Зойка. Бог с ней. Сейчас придет, и я ей скажу: «Погорячились – и хватит. Зови сюда своего Васю. Вот вам комната, столоваться будете у нас. Давай я тебя поцелую…»
Христофоров налил рюмку, положил на хлеб кусочек селедки. С удовольствием выпил, закусил и принялся за холодные котлеты, которые любил с детства. Маменька, бывало, провожая в гимназию, всегда совала в ранец завернутые в пергаментную бумагу котлетки…
Под окном послышались шаги. Юрий Андреевич вытер губы, приготовился милостиво встретить блудную дочь.
Вошла одна Марья Павловна. Опустилась на стул, заплакала.
– Нет ее у Люськи… И она не знает, где Зойка. Ой, доченька!
И уже не со злостью, а с откровенной ненавистью выпалила мужу:
– Все ты со своими миллионами! Жри их теперь, твои бумажки. Если она утопится, я сама в ОБХСС пойду…
– Дура, – с обидой ответил Юрий Андреевич. – Совсем обалдела… С чемоданом топиться не ходят. А ОБХСС я тебе еще припомню… Я знаю! Все знаю! Ты давно от меня хочешь отделаться. Ты мне не грози! И тебя не помилуют!
* * *
Зойка сидела на диване рядом с Марьей Антоновной. Девушка успела и поплакать и посмеяться над своими горестями и, улыбаясь, рассказывала:
– Мы уже заявление в загс подали. Нам сказали: «Приходите, если не раздумаете, через десять дней. Тогда мы вас распишем». Чудаки! Там при нас пожилая пара пришла. Им тоже сказали – подумайте и приходите. А он, такой симпатичный, ответил: «Поздно нам, милая, думать. Мм уже скоро двадцать лет вместе живем. Распишите нас сегодня, мы в Карловы Вары едем лечиться». Но так их не расписали: «Нельзя, по инструкции вы должны подумать!» Сначала они смеялись, а потом рассердились. Так и нам: «Подумайте!» Но ничего, десять дней вчера кончились…
– Ложись, поспи немного, – сказала Марья Антоновна. – А то поблекнешь, жених любить перестанет. Они привередливые нынче, женихи.
– Мой не перестанет, – с убежденностью ответила Зойка. – У нас любовь как в романе – до гроба…
* * *
Вася Каблуков, сдав невесту в надежные руки Марьи Антоновны, пошел объясняться со своими родителями.
Пока он в пути, давайте познакомимся с ним поближе, нарисуем его портрет, одним словом, как любят выражаться работники отдела кадров, прольем на него свет.
Васе через пять дней исполняется двадцать четыре года. У него все по возрасту – высокая, плечистая фигура, густые, цвета прошлогодней соломы, волнистые волосы, серые глаза, широкий лоб. Из-под ярких, еще не потерявших юношеской пухлости губ проглядывают ровные, один к одному, зубы, вполне пригодные для рекламы зубной пасты «Снежинка».
Таких парней опытные ротные командиры ставят правофланговыми, потом их замечает командир полка и производит в знаменосцы.
Предчувствуя обвинение в лакировке, спешу сообщить, что у Васи в наружности не все благополучно. Имеются и явные недостатки, даже два. От правой брови осталась только половина, та, что ближе к переносью. Вторая часть, та, что ближе к виску, безвозвратно потеряна в десятилетнем возрасте. Вася чересчур торопливо перелезал через чужой забор. Поспешность была не лишней: хозяин сада, увидев в своем индивидуальном владении непрошеных гостей и защищая свою собственность, спустил с цепи собаку. Свалившись по другую сторону забора, Вася сгоряча не почувствовал боли и только дома, после окрика отца: «Где это тебя угораздило?», посмотрел в зеркало и убедился, что кожа на правой стороне лба содрана. И вот с тех пор отметина осталась на всю жизнь.
Отсутствие половинки брови Васю угнетало мало, потому что именно сюда спускался крутой завиток волос. Второй недостаток безжалостно непоправим и вызывает иногда мрачные переживания – Вася на редкость курносый. Природа, щедро наградив младшего Каблукова здоровьем и силой, злостно сэкономила материал на нос. Анфас он еще был виден, но стоило Василию повернуться в профиль, как эта столь необходимая и такая горделивая у других деталь лица бесследно исчезала, утопая между тугих, с золотистым пушком щек.
Одет Вася по той самой моде, которая, возникнув, говорят, в Париже, победоносно прошла по всей Западной Европе и перекинулась, как эпидемия гриппа, в Восточную. В Советском Союзе она впервые показалась в южных приморских районах. Причем здесь она охватила не только подростков, но и вполне солидных деятелей государственной торговли, потребительской кооперации, частично культурников многочисленных санаториев и поголовно весь мужской состав одного ансамбля песни и пляски. Затем мода поднялась до Ростова-на-Дону, подскочила, миновав центральные черноземные области, к Москве, из столицы пошла вширь и вглубь и, наконец, докатилась до Краюхи.
Согласно этой моде, на Васе была рубашка в крупную черно-красно-зеленую клетку, выпущенная поверх брюк на манер женской кофты. Брюки светлосерые, средней узости, – дудочки Краюху еще не покорили.
У Васи имелся только один головной убор – ушанка из пыжика, выигранная на студенческом вечере в лотерею. Сейчас она лежала, присыпанная нафталином, в сундуке. От прилета грачей до белых мух Вася ходил с непокрытой головой. Он бы ходил так и в сильные морозы, если бы не один трагический случай, в котором несколько повинен один известный московский композитор. Побывав в Англии, он написал очерк о музыке и, между прочим, сообщил, что у всех англичан белоснежные воротнички, мятые пыльники и что лондонцы не носят шляп и кепи, а ходят по улицам в естественном виде: если кудри, так с кудрями, если пробилась лысинка – с лысинкой. Композитор не забыл упомянуть, что джентльмены все еще носят цилиндры, разумеется к фраку. Но он забыл упомянуть, какая в Лондоне среднегодовая температура воздуха и в каком месяце он гулял по туманной столице.
Очерк напечатали в довольно распространенной массовой газете. Дотошные молодые люди, почерпнув из очерка, как им казалось, главное, стали следить за чистотой воротничков и не носить головных уборов. Правда, юным кандидатам в джентльмены пришлось туго – цилиндров, к сожалению, у нас не производят, а импорт этой весьма необходимой детали мужского туалета ограничен.
Мода ходить с непокрытой головой докатилась, понятно, и до Краюхи. Но так как композитор о погоде умолчал, парни расширили безголовоуборочный сезон до крещенских морозов, которые, как известно, шутить не любят.
И вот трагедия. Дружок Васи Каблукова Митя Прокофьев увлекся и появился без шапки в тридцатипятиградусный мороз. Провожая из кино Леночку Мартынову, он долго стоял с ней около крыльца, втянув голову в плечи, и, набираясь храбрости для первого поцелуя, переминался с ноги на ногу.
Безжалостной Леночке в заячьей шубке, в пуховом платке и меховых ботинках было интересно держать Митю на морозе, пока он не взмолится… Через два дня Митя лежал в больнице со страшным диагнозом – менингит!
Он выжил, но стал заикаться.
Зойка после этого случая строго-настрого предупредила Васю:
– Надевай шапку, иначе я с тобой никуда ходить не буду. Мне заика не нужен.
Любовь победила моду.
Но вернемся к дальнейшему описанию Васиного туалета. На ногах у него отличные туфли «Парижской коммуны». Других он обуть не мог по той простой причине, что эти коричневые, благородного фасона, без всяких излишеств туфли у него единственные, если не считать тапочек и лыжных ботинок…
Впрочем, к делу. Надо рассказать, как прошло у Васи объяснение с родителями.
Все обошлось гораздо проще, нежели у невесты. Сначала Вася подверг индивидуальной обработке Елену Сергеевну.
Запивая бородинский хлеб молоком, Вася без всяких предисловий объявил:
– Знаешь, мама, я, кажется, женюсь!
– На ком? – совершенно равнодушно спросила Елена Сергеевна.
– Конечно, на Зое Христофоровой, – удивился Вася. – На ком же больше?
– Так бы и сказал. Тогда дай подумать немножко. Она девушка хорошая, а вот отец у нее очень несимпатичный.
– А мне наплевать, извини, мама, я ведь на Зойке женюсь, а не на ее отце. И жить мы будем не у них, а у нас.
– У нас? Дай немножко подумать… Хорошо, живите у нас.
– Мама! Я тебя очень люблю. Ты у меня очень хорошая. И Зойка говорит, что она тебя и сейчас любит, а будет еще больше. А как папа? Он не будет против?
– Дай немножко подумать… Сначала будет против, а потом согласится. Позвать его?
Яков Михайлович в вечерние часы священнодействовал: читал газеты – «Известия», которые он выписывал больше двадцати лет, и местный «Трудовой край». Он позволял отрывать себя от этого важнейшего процесса только в исключительных случаях. Даже когда соседка Евдокия Васильевна подавилась рыбной костью и Елена Сергеевна повела потерпевшую с широко раскрытым ртом к хирургу, Яков Михайлович не оторвался от газеты, а кратко посоветовал на будущее:
– Рыбу надо есть медленно и желательно в очках.
Елене Сергеевне стоило большого труда оторвать мужа от газеты. Яков Михайлович только тогда поднялся с любимого кресла, когда понял, что случай исключительный – единственный сын решил вступить в законный брак.
Каблуков через очки посмотрел на сына и весело, даже с некоторой лихостью, спросил:
– Надоела холостая жизнь, сынок? А между прочим, не в обиду твоей матери, семейная жизнь похожа на мираж – всегда более прекрасна издали…
Яков Михайлович в торжественные моменты любил употреблять афоризмы. У него была маленькая тетрадочка, куда он заносил понравившиеся ему изречения, преимущественно собственные.
– Ну что ж, это твое личное дело, Вася. Только попомни: брак – это лихорадка навыворот: начинается жаром, а кончается холодом… Но когда любишь девушку, тогда все соображение заменяется воображением. Кто она? Зойка? Хорошая девушка. Поздравляю, Вася. Лена! А нет ли у нас по этому поводу рюмашечки?
Нашлась и рюмашечка, и огурчики. Яков Михайлович поднял рюмку и, посмотрев на сына увлажненными глазами, провозгласил:
– Семья – это сложный механизм! Но нельзя допускать, чтобы он скрипел!..








