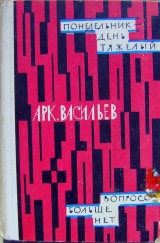
Текст книги "Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник)"
Автор книги: Аркадий Васильев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Тося разбудила повара Анну Петровну, и та через несколько минут доставила прямо из погреба мисочку творога и кружок колбасы, благоухающей чесноком. Анна Петровна с явным неодобрением стукнула мисочкой по столу, заявив без всяких дипломатических околичностей:
– Предупреждать надо о гостях. У меня тут не ресторан.
Миша, которого в прошлом году в этом же лагере в качестве жениха принимали любезнее, с недовольным видом отодвинул творог.
Чокнулись. Выпили. Начали закусывать. Едва Миша сомкнул свои молодые, крепкие зубы, как из его груди вырвался вопль. Перепуганная Тося сначала со страхом посмотрела на заводную головку часов, вытащенную мужем изо рта, затем принялась хохотать. Миша кисло улыбнулся, но, дотронувшись пальцем до верхней челюсти, крикнул:
– Зеркало!
На месте красивого, жемчужного зуба зияла брешь. От зуба остался только острый обломок.
Тося внимательно рассмотрела головку и снова засмеялась:
– Везет тебе, Миша. Золотая.
– Не понимаю… У законного мужа неприятность, а тебе весело. Новый у меня не вырастет.
– Вставим… Моисей Михайлович подберет – лучше твоего будет… Можно будет часы целиком грызть.
Но Мише было не до шуток. Он все делал молча: молча допил «рябиновую», молча надел пиджак, молча вывел своего стального коня и скрылся в освещенной серебристой луной березовой роще.
Тося тихо поплакала, убрала вещественное доказательство в спичечный коробок и легла спать. Окно было открыто, но в комнате сильно, почти нестерпимо пахло чесноком – Тося забыла убрать колбасу.
Через час Тосю разбудил подозрительный шорох.
– Мама! – испуганно крикнула начальница лагеря.
– Это я, Тосенька, я.
В окно, стараясь не шуметь, влез Миша.
– Вернулся! Ты меня любишь?
– Люблю, родная, люблю… Ты не обращай внимания… Я погорячился. Обидно… На самом видном месте. А Моисей Михайлович правда подберет?
– Подберет.
– Подожди, Тося, я колбасу выкину.
Мир и счастье, потревоженные происшествием, снова воцарились в семействе Бобровых.
* * *
Разве мог Евлампий Кокин, нарушая закон «Тонапа», предвидеть ход всех дальнейших событий? Если бы он знал, кому попадет заводная головка от его золотых часов «Лонжин»! А она пошла гулять по рукам. Утром ее внимательно осмотрел Миша, затем повар Анна Петровна, старшая пионервожатая.
Предположений было высказано много… Как ни пытались руководители лагеря сохранить от ребят этот случай в тайне – ничего не вышло. Ребята за завтраком старательно рассматривали все съедобное: манную кашу, хлеб, котлеты – не попадется ли еще что-нибудь выдающееся.
Впрочем, все это было для «Тонапа» пустяком. Но заводная головка попала в руки к Марье Антоновне.
Разве мог Кокин предполагать, что Королькова тотчас же после приезда отправится выполнять свои депутатские обязанности? У Марьи Антоновны было в запасе еще два свободных дня, дома одной, без внука, ей стало скучно, даже тоскливо, и она решила поехать к детям.
Осмотрев головку и запас колбасы, Марья Антоновна дала совет:
– Всю колбасу отправьте в санитарную инспекцию. А эту золотую штучку я сама возьму.
* * *
Секретарь партийного бюро горпромсовета Солодухин был в отпуске, лечил в Цхалтубо простуженные на фронте ноги. Обязанности партийного руководителя временно исполнял заместитель секретаря Лыков, обычно занимавшийся партпросвещением.
Почему Афанасия Константиновича восьмой раз подряд избирали в партбюро, никто понять не мог.
Секретарь Солодухин был человек определенный, прямой, иногда даже резковатый, особенно в оценке некоторых деятелей горпромсовета. Он частенько схватывался с Бушуевым, и даже, чего греха таить, были у него и слабости: любил поговорить», или, как он заявлял, «подвести итоги», а к критике относился как к теще: признавал, уважал, но чтобы любить – этого не было. Случалось, Солодухин, потеряв выдержку, мог накричать на виновного, а потом, остыв, извинялся.
Лыков со всеми был ровен, вежлив. Почти каждому мало-мальски знакомому он говорил: «дорогой мой» или «дорогуша». Критику он просто обожал. Когда на отчетно-выборном собрании в его адрес говорилось что-нибудь неприятное, он смотрел на оратора с ласковой, кроткой улыбкой, как на невесту, а если его хвалили, скромно прятался за спину соседа.
На собраниях он выступал не часто и все больше по международным вопросам, любил напомнить о необходимости глубже изучать первоисточники и о пользе чтения художественной литературы.
Все его считали вежливым, даже добрым, воспитанным человеком. Он и был – вежливым, воспитанным, но не добрым. Добрый человек не может быть равнодушным, а Лыков ко всему был холоден и спокоен. А улыбался приветливо – по привычке.
И еще: он был великий мастер выдумывать для постановки на бюро такие вопросы, по которым говорить можно было хоть всю ночь напролет, а решения никакого принимать не требовалось – не для чего.
И удивительное дело, как только после отчета секретаря, прений и опенки деятельности бюро начинали составлять список кандидатов для тайного голосования, сразу же несколько голосов кричало:
– Лыкова запишите! Лыкова.
Он выходил на трибуну и давал себе отвод.
– Спасибо, товарищи, за доверие… Но я бы просил уважить мою просьбу. Пора молодым.
А из зала кричали:
– Оставить! Пусть еще поработает.
И когда счетная комиссия объявляла результаты, все удивлялись:
– Смотрите, опять Лыков прошел. Почти последним, а прошел.
На первом заседании бюро его обязательно утверждали заместителем. Никому даже в голову не приходило предложить кого-нибудь другого.
– Есть же Лыков.
Однажды кто-то ему сказал:
– Ты у нас вроде Кадогана, был такой в Англии – постоянный заместитель министра иностранных дел. Он при всех состоял – при консерваторах, при лейбористах. Так и ты у нас – секретари меняются, а ты как врытый… А почему тебя секретарем не сделают?
Лыков улыбнулся:
– А я, дорогуша, и не стремлюсь в секретари. В тени, дорогуша, меньше потеешь.
Но как только секретарь уходил в отпуск или уезжал в командировку, Афанасий Константинович немедленно покидал свой плановый отдел, где числился старшим экономистом, и перебирался в небольшую комнатку партбюро, которую никто, кроме него, не называл кабинетом.
…Когда Марья Антоновна вошла к Лыкову, он поднялся из-за стола и пошел ей навстречу, широко распахнув руки.
– Дорогая Марья Антоновна! Легка на помине. Только сейчас о вас думал. Садитесь, дорогая. А я планчик работы составлял, хочу с вами посоветоваться, как нам лучше один вопросик поставить…
Королькова отодвинула протянутый ей листок.
– Я к вам по конкретному делу.
– Чем могу быть полезным, дорогая?
– Сейчас. Можно форточку открыть? Душно у вас… Скажите мне, Афанасий Константинович, какого вы мнения о Кокине? Как он, по-вашему, – мошенник или нет?
– Такая постановка вопроса, Марья Антоновна, я бы сказал, более эмоциональна, нежели обоснованна. Осмелюсь поинтересоваться, что побудило вас так остро ставить вопрос?
– Дети! Понимаете, дети! Детям послали такую колбасу… Вы только посмотрите. Это же не колбаса, а статья уголовного кодекса!
Лыков осторожно рассмотрел кусок колбасы.
– Колбаса, конечно, довольно странная. Я бы сказал, не совсем кондиционная. Чего-то тут недоложили, а чего-то переложили.
– За такую продукцию надо к уголовной ответственности привлекать.
– Я вас, дорогая, в ваших чисто административных устремлениях полностью поддержать не могу. Надо доказать, чего недоложили, чего переложили, кто недоложил, кто переложил. И надо воспитывать у конкретных людей чувство ответственности… Людей вообще надо воспитывать. Вот я составляю план мероприятий, давайте так и запишем – о воспитании чувства ответственности в колбасном цехе.
– Вы, Афанасий Константинович, план составляйте, а я пойду подумаю, что делать, чтобы детей гадостью не кормили.
– Ну и порох вы, Марья Антоновна. Разве я отказываюсь вас выслушать? Но почему вы решили, что эта колбаса в недрах нашей мастерской изготовлена? Клейма на ней нет? А она, может, с мясокомбината? Вот я и говорю – вопрос надо изучить, обосновать…
– Это легко по накладной установить. И кроме этого у меня доказательство есть.
Лыков повертел в руках заводную головку.
– Сколько таких предметов обнаружено?
– Как это – сколько? Один.
– Всего один. Следовательно, это случайность, а не закономерность. И нельзя из этого случая, а возможно, неосторожного поступка делать далеко идущие выводы. Это было бы несправедливо, более того – опрометчиво.
– Вы же колбасу видели?
– Видел.
– Убедились?
– Надо изучить…
Марья Антоновна с удивлением посмотрела на Лыкова, торопливо поднялась и ушла, хлопнув дверью. Афанасий Константинович ласково посмотрел ей вслед, покачав головой: «Ах кипяток, кипяток!» И принялся за составление плана. На клетчатую бумагу ложились ровные, каллиграфические строчки: «Дополнительные мероприятия. Первое. Провести в колбасной мастерской беседу о воспитании у работающих чувства ответственности за порученное им дело. Второе…»
Афанасий Константинович задумался: что записать вторым пунктом? Оставить один пункт– отступить от канона. А ничего больше не выдумывалось. Второго не было.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
в которой появляется Анна Тимофеевна Соловьева
Выйдя от Лыкова, раздосадованная Марья Антоновна столкнулась в коридоре с инженером Анной Тимофеевной Соловьевой, временно, после отъезда Бушуева, исполняющей обязанности председателя горпромсовета.
Королькова, на правах старшей приятельницы, с ходу накинулась на Анну Тимофеевну:
– Где ты, матушка, была? Почему я должна на эту медузу время тратить?
Соловьева обняла Королькову за плечи и ласково ответила:
– Была я, Марья Антоновна, в банке, а у какой-такой медузы вы время потеряли – я не поняла. Пойдемте ко мне, потеряем еще немного.
– Медуза – это Лыков.
– Медузу я не принимаю, – отпарировала Анна Тимофеевна. – Он уважаемый человек и давно в партии, немногим меньше, чем вы.
– Неважно, когда он вступил, важно, до каких пор коммунистом остался… А ну, покажись. До чего же ты сегодня интересная, Аннушка. Прелестная кофточка… Где взяла? Смотри, уж очень ты без мужа форсишь!
О своем наряде Анна Тимофеевна промолчала. Сказать ей было нечего. Она принадлежала к тем женщинам, которые в простеньком ситцевом платьице или даже в комбинезоне выглядят нарядными. На ней был голубой костюмчик, белая кофточка с кружевным воротничком. Очевидно, этот воротничок и производил праздничное впечатление. А может быть, все шло от ясных серо-зеленых глаз и доброжелательной, сердечной улыбки.
Читатель вправе сказать: «Сразу видно, Соловьева тип положительный. Эк ее автор расписывает: ясные глаза, доброжелательная, сердечная улыбка». Совершенно верно: Анна Тимофеевна в основном человек хороший. А о ее ясных глазах и сердечной улыбке автор рассказывает исключительно в силу жестокой необходимости, потому что ясные глаза и сердечная улыбка Соловьевой вскоре обсуждались в вышестоящих организациях и вызвали много споров.
– О чем вы, Марья Антоновна, хотели поговорить?
– Полюбуйся! И этой гадостью Кокин детей кормить собирался. Детей!
– Да, действительно дрянь. Это наша? Точно?
– Наша, наша.
– Хорошо, Марья Антоновна, я разберусь. Спасибо, что пришли. Я сейчас Христофорова приглашу. Это больше по его части.
– Я бы на твоем месте другому поручила все выяснить. Возьми вот еще в придачу…
– Что это?
– Заводная головка. Золотая. Муж Тоси в колбасе нашел. Зуба из-за нее лишился. Узнать бы, чья это головка.
– Я знаю. Кокин вчера весь день искал.
– Кто у тебя посудой занимается?
– Каблуков, Яков Михайлович.
– Персона брата? Тогда понятно. Не знаешь, у себя он?
– Наверное. Где же ему быть.
– Да они на месте не сидят – как ни позвонишь, то на совещании, то в горисполкоме, а больше всего дома обедают. Я к нему. Понадоблюсь – позвони.
– Обязательно!
Королькова ушла. Пока Анна Тимофеевна одна, давайте познакомимся с ней поближе. Вот она подошла к окну, раскрыла его, протянула руку и сорвала с липы, что растет под самым окном, листок. Несмотря на жаркий день, листок прохладный, от него приятно пахнет июлем, от одного прикосновения к нему на душе становится как-то милее, и, честное слово, начинаешь мечтать о чем-то хорошем.
Анна Тимофеевна улыбнулась, приложила листок к губам, и раздалось знакомое с детства «чок».
Сначала автор хотел последовать установившейся в последнее время литературной традиции и сделать Анну Тимофеевну хорошей производственницей, но несчастной в личной, семейной жизни. В редком романе, повести, рассказе, пьесе, ке говоря уже о кинофильмах, героини то и дело не терпят семейные неприятности – им изменяют, от них уходят мужья (правда, некоторый процент неверных возвращается в родной дом), а покинутые женщины гордо идут своей дорогой (правда, некоторые, наиболее слабые, гибнут, уходят из жизни самыми различными способами, и всегда в тот момент, когда автор просто не знает, что ему делать с героиней).
Было очень соблазнительно ввести в повествование всяческие интимные подробности, ссору и последующее примирение двух супругов. Можно было бы показать даже бракоразводный процесс – соблазнов была уйма.
Но встал законный вопрос – зачем все это? Так ли уж это типично? И автор начал подворный обход близлежащих строений, стал наводить справки в домоуправлениях о количестве разводов. Получилась интересная статистика. Из 1965 обследованных семей 1963 оказались прочными, нормальными. Две семьи действительно дали трещину, дело дошло до «гр. Ш. Н. С., проживающий 2-я Аэропортовская, 7-15, кв. 145, возбуждает дело о разводе с гражданкой Ш., проживающей там же».
Учтя все это, пришлось отказаться от соблазнов и рассказать про Анну Тимофеевну без всякой выдумки, по-справедливому. Да и зачем сочинять, если у Анны Тимофеевны отличный, нежный, заботливый муж и он ее очень любит. А какие прелестные дети у Анны Тимофеевны! Дочке восемь лет, вся в маму, с серо-зелеными глазами, воспитанная, в этом году пошла в первый класс, приносит одни пятерки и отстает по физкультуре– не может кувыркаться через голову. Сынку одиннадцатый год. Он в папу, кареглазый, только губы мамины, пухлые, немножко ленивые. У сынка с физкультурой все в порядке – он и прыгает и кувыркается на «отлично», зато с арифметикой…
Впрочем, сейчас каникулы, и не будем вспоминать о мелких недоразумениях.
Супруг Анны Тимофеевны окончил библиотечный институт, но работает не по прямой специальности – инспектором отдела народного образования. Сейчас он в Москве, на всероссийском совещании. Вот почему Марья Антоновна сказала: «Мужа нет, вот и форсишь!»
Из этой формулировки можно сделать вывод, что Марья Антоновна информирована обо всем, что происходит в семье Соловьевых. Только одного она не знает, несмотря на всю свою проницательность: у Анны Тимофеевны, при всем ее сияющем, нарядном виде, крайне туго с деньгами. Кроме собственной семьи у нее еще две сестренки – им надо помогать, есть племянница от погибшего на фронте брата – ей тоже надо помогать, а у мужа живы родители – о них тоже надо заботиться.
Зато об этом обстоятельстве – о полном отсутствии у Анны Тимофеевны каких-либо накоплений – отлично знали Юрий Андреевич Христофоров и Кузьма Егорович Стряпков. И, как мы увидим в дальнейшем, они это учли.
Пока мы знакомились с Соловьевой, в вышестоящей инстанции о ней шел разговор. Разговор не официальный и не окончательный, но серьезный. Про такие беседы иногда говорят: «Мы этот вопрос где надо провентилировали». Что это означает, понятно не всем и не всегда, но все и всегда делают вид, что все понятно.
«Вентилирование» подходило к концу. Солидный товарищ, поглядывая на часы, говорил другому, менее солидному:
– Ты понимаешь, какое дело, все бы хорошо, но уж очень она, как бы сказать, женственна. Нет у нее этакой мужской напористости. Глаза словно у девочки, и все улыбается.
– Это пройдет… Я с ней поговорю.
– Боюсь, не справится. Бушуев – тот был орел. А эта, боюсь…
– Вам виднее. Вполне возможно, и не справится.
– Ас другой стороны, посмотреть – человек она грамотный, честный, а там это качество ой как надо. А опыт что…
– Опыт придет.
– А если посмотреть еще – не справится. Молода!
– Я поговорю с ней. Хотя, конечно, молода.
– А все-таки она женщина. А у нас в Краюхе женщин на руководящей работе не так-то уж много. Мне об этом сам Сергей Павлович говорил.
– Да, это верно. Сергей Павлович прав. Женщин надо…
Более солидный еще раз посмотрел на часы и решительно встал.
– Ну, мы этого вопроса сегодня не решим. Ты куда?
– Домой.
– Поехали?
– С удовольствием.
Как только машина тронулась, менее солидный вспомнил про Соловьеву, но, не желая посвящать шофера в государственные дела, сказал, не называя фамилии:
– Я думаю, она справится.
Солидный, помолчав, ответил:
– Подумаем. Посоветуемся.
Анна Тимофеевна в это время сорвала еще один листок, снова сделала «чок» и улыбнулась.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
повествующая о том, что такое персона брата и в чем ее истинный смысл
Если бы менее солидный товарищ вместо: «Я думаю, она справится» – употребил более осторожную формулировку: «Я думаю – справится», важный государственный вопрос, который «вентилировался» в краюхинских верхах, был бы законспирирован полностью. Но личное местоимение третьего лица единственного числа было произнесено, и водителю все стало ясно.
Сначала, понятно, завезли домой солидного. Он, вылезая из машины, сказал шоферу:
– Подвези, Федя, товарища до хаты.
И пообещал еще раз:
– Подумаем, посоветуемся.
Отъехав, Федя весело сказал менее солидному:
– Конечно, справится!
– Вы о ком?
– Об Анне Тимофеевне.
– С чего вы взяли?
– Все говорят: от нас, от шоферов, ничего не скроешь. Мы все знаем. А вы правду сказали – она справится. Толковая женщина, честная. А на этом месте это ох как надо.
Менее солидного слегка передернуло. Затем пришло успокоение: «А может, и лучше. Глас народа – глас божий!»
А Федя продолжал характеристику Анны Тимофеевны:
– Умная. Обходительная. Вот увидите, как она дела потянет. Она из этого болота чертей повытаскивает…
Менее солидный, поняв, что разговор может принять острый характер, уклончиво ответил:
– Было бы болото, а черти найдутся. Спасибо, приехали.
Дожевав кое-как, Каблуков нахлобучил соломенную шляпу, забрал счет, с душевным надрывом произнес: «Сам не сделаешь – никто не сделает!» – и прямо из дома пошел в приходную кассу отделения коммунального банка.
Войдя в маленький, набитый плательщиками зал, он сразу оценил всю нелепость затеи – самому платить за свет и воду.
Увидев, что в очереди женщины и дети, он, подняв над головой портфель, начал решительно пробираться к окошечку контролера, деловито повторяя:
– Одну минуточку. Извините, одну минуточку. Мне только справочку…
Он, наверное, добрался бы до окошечка, если бы не школьница с красным бантом в косе:
– Яков Михайлович, за справками идите через служебный ход, со двора.
Каблуков поспешно ретировался к выходу, В девочке с красным бантом он узнал дочь председателя горисполкома.
Уйти просто так, не заглянув к контролеру, означало выдать себя с головой. Девочка, судя подвиду, была в восьмом или в девятом классе, и она, конечно, могла при случае рассказать отцу о встрече.
Минут через пять до ожидающих донесся сердитый голос контролера и гуденье Каблукова.
– Встаньте в очередь, товарищ Каблуков. Выходит, по-вашему, там пешки стоят. Не приму. А про жену вы лучше не говорите. Больна! Я ее утром на базаре видела, вместе лук покупали.
Каблуков гудел:
– Да тише вы! Тише.
– А что? – удивилась контролер. – Почему тише! Вам неудобно, а не мне.
В довершение Каблуков увидел, как в окошечко просунула голову дочка председателя горисполкома и попросила:
– Уж примите у него, Клавдия Петровна! У него жена, наверно, скоропостижно заболела.
Чертыхаясь, проклиная жену, пени, Клавдию Петровну и свою юную защитницу, Яков Михайлович выскочил на улицу с квитанцией в руках. На ней под копирку, хотя и слепо, но все-таки заметно, к сумме счета было приплюсовано: «Пени – 7 копеек».
Неподалеку от приходной кассы, в тени бульвара, Каблукова поджидала еще одна неприятность – навстречу двигался священник. Убежденный атеист, Яков Михайлович попон не любил н встречи с представителями религиозного культа считал за дурное предзнаменование. И на этот раз он на всякий случай решил ухватиться за пуговицу. Как назло, он был в расшитой украинской рубашке без пуговиц. Сообразив, что шнурочки спасительный талисман не заменят, Каблуков подержался за пуговицу от брюк. Поп, усмехнувшись, прошел мимо.
Скверно начавшийся для Каблукова день с неумолимой жестокостью катился в избранном направлении. Не успел поп скрыться в зелени аллеи, как Якову Михайловичу повстречался директор завода фруктовых вод и безалкогольных напитков Елизар Иванович Сидоров. Про Елизара Ивановича говорили, что он пьет все, кроме продукции своего завода. Его огромный, свекольного цвета нос, напоминавший кусок макета сильно пересеченной местности, здешние остряки прозвали «аттестатом крепости». Но что бы там ни говорили, Елизар Иванович обладал огромным количеством друзей и узнавал о всех городских новостях за день до того, как они произошли.
Сидоров издали крикнул:
– Здорово, банки-склянки! Слышал про братца? Опять по радио передавали: «С советской стороны на обеде присутствовал». Вот это жизнь! А у вас перемены, говорят! Ну что ж, давно бы пора. Сколько же можно. Бывай здоров. Да, кстати, нельзя ли у тебя градуированными стаканчиками разжиться? Немного – штук полсотни…
Недолгий этот разговор уязвил Якова Михайловича в самое больное место. Каждое напоминание о брате, занимавшем в столице высокий пост, Каблуков воспринимал как личную обиду. Это усугублялось тем, что возмущаться вслух он не смел и переживал уколы самолюбия молча.
Брата Каблуков ненавидел. Разногласия между Монтекки и Капулетти по сравнению с мыслями о мести, которые иногда охватывали заведующего сектором стеклянной посуды и тары, показались бы отношениями между ангелами.
Разъяренная фантазия Каблукова выдумывала для Петра невероятные беды. Самым приемлемым бальзамом для воспаленной души Каблукова явилось бы отстранение брата от высокого поста. Сколько радости принесло бы Якову Михайловичу возвращение брата в Краюху в первобытном звании – Петр Каблуков и ничего больше. Яков Михайлович не пожалел бы истратить на угощение целую сотню, лично сбегал бы за пивом в вокзальный буфет.
Но брат все шел и шел в гору. Каблуков перестал читать в газетах сообщения о приемах, – даже те отчеты, в которых Петр не упоминался, а просто говорилось «и другие официальные лица», вызывали у Якова Михайловича удушье.
Два года назад Петр Каблуков неожиданно заглянул в родной город. О его приезде тотчас же узнали во всех организациях, и как он ни отбивался, его всю неделю избирали в президиумы разных собраний, возили в пригородный колхоз. Марья Антоновна Королькова, называя его по старой комсомольской дружбе Петей, уговорила поехать в пионерский лагерь. Впрочем, Петра Каблукова долго уговаривать не пришлось. Он крикнул жену и дочь– смешливую, загорелую Анюту:
– А ну, поехали с Машей!
Он навестил старых друзей, катался на лодке, пел пески смотрел футбольный матч, и когда центр нападения краюхинской команды Андрей Шариков вогнал в ворота против ника первый мяч и вразвалочку, спокойненько пошел на свое место, – Петр Каблуков не выдержал и, подбросив шляпу, рявкнул:
– Молодец Шариков! Люблю!
Все эти дни для Якова Каблукова были наполнены нестерпимыми муками. Он плохо ел, плохо спал, осунулся, под глазами появились синие мешки. Самую страшную обиду он получил в последний день, на общегородском собрании интеллигенции, куда пригласили Петра и, разумеется, выбрали в президиум.
Когда молоденькая учительница Таня Гвоздева, читавшая список президиума, назвала Петра Каблукова, в зале дружно зааплодировали.
А затем Таня назвала Якова Каблукова – из уважения к брату, – и его втиснули в президиум. Сначала в зале не поняли, о каком же втором Каблукове идет речь, и кто-то громко поправил Таню:
– Не Яков, а Петр!
Но Таню сбить не удалось. Читать список президиума являлось ее второй специальностью, и она хорошо поставленным голосом бодро отпарировала:
– Я сказала вполне ясно: Каблуков Яков Михайлович!
В зале засмеялись, где-то в заднем ряду тихонько захлопали и, словно устыдившись неуместных аплодисментов, туг же притихли.
В президиуме братья сидели рядом, как живая иллюстрация оптимизма и смертельной усталости и тоски.
Петр, несмотря на свои пятьдесят лет и седину, с озорными, веселыми глазами, доброжелательно улыбался залу.
Яков выглядел старше лет на десять, хотя был моложе Петра. Он как сел, подогнув ногу под стул и опустив глаза на руки, лежащие на коленях, так и просидел все собрание, не подняв головы.
После третьего оратора председательствующий торжественно-радостно объявил:
– А теперь разрешите, дорогие товарищи, предоставить слово нашему дорогому земляку…
Когда утихли наконец аплодисменты и Петр получил возможность начать речь, у Якова Михайловича все внутри похолодело.
Петр сразу овладел залом. Он говорил без бумажки и даже не совсем гладко, но с такой простотой и убежденностью, так увлекательно, что аплодисменты возникали чуть ли не ежеминутно.
Сидевший сзади Якова Михайловича городской архитектор Беликов восхищенно сказал:
– Вот это оратор!
Яков Михайлович обернулся и злобно шепнул:
– Не мешайте! Неужели тише нельзя?
Петр много поездил по миру – бывал в Америке и Европе, дважды летал в Китай и Индонезию, но он, рассказывая, ни одного раза не сказал «я», употреблял преимущественно число множественное: «Когда наша советская делегация…»
Наконец наступил желанный для Якова Михайловича день отъезда брата. В квартиру Якова Михайловича проводить Петра приехали краюхинские руководители. Председатель горсовета спросил:
– А почему тебя, Петр Михайлович, в депутаты не мы избрали? Непорядок.
– Я человек подневольный, – пошутил Петр.
– Мы этого больше не допустим, – решительно заявил председатель. – Следующий раз ты от нас пойдешь…
«О господи! Этого еще недоставало!» – с тоской подумал Яков Михайлович, а вслух сказал:
– Беспременно. Глядишь, и мне, как депутат, поможешь мою нору сменить.
– Ничего себе нора, – засмеялся Петр. – Три комнаты со всеми удобствами.
Больше месяца после отъезда гостя Якова Михайловича терзали знакомые, предполагая, что доставляют ему этим удовольствие:
– Как братец? Что пишет? Будете писать, передавайте привет…
Каблукову хотелось с кулаками бросаться на людей, а приходилось улыбаться, обещать:
– Как же, обязательно передам, беспременно.
Петр написал только одно письмо, тотчас же по приезде в Москву. Благодарил за хороший прием, попросил, чтобы Вася обязательно приезжал к ним на каникулы. Больше писем не было, а приходили, как и раньше, телеграммы четыре раза в год – на Первое мая, под Новый год, на Октябрьскую и двенадцатого августа – в день рождения Якова Михайловича.
Эти вежливые телеграммы хотелось растоптать, они жгли Каблукову руки, но каждую он долго носил в бумажнике, при случае показывая знакомым бланк с крупными красными буквами: «Правительственная».
Если бы Каблукова попросили объяснить мотивы его ненависти к Петру, он вряд ли сумел бы это сделать. Перепуталось много разных чувств: честолюбие, уязвленная гордость. Яков Михайлович давно решил, что он гораздо умнее Петра, опытнее в житейских и даже государственных делах. Петру просто больше повезло.
Однажды, не выдержав распиравшей его ярости, он при жене и сыне заявил:
– Ловкач он! Нахватался верхов – и все. Колупнуть бы его поглубже…
И добавил, как всегда, чьи-то загадочные слова:
– Молния всегда по высоким предметам ударяет.
Вася вскипел и начал горячо защищать дядю, биографией которого всегда восхищался. Увлекшись, он не заметил, как обидел отца.
– Ты где был, когда дядя Петя в Испании воевал? Сидел дома, выхаживал редиску? А когда он в тылу у немцев эшелоны сваливал? Ты сидел на броне… А когда он учился, жил на стипендию, ты…
За четверть века семейной жизни Елена Сергеевна ни разу не видела мужа в таком бешенстве. Случалось, в гневе, он колотил посуду, выкрикивал злые, обидные слова, но таким он никогда еще не был. Нос у него побелел, глаза скосились. Он подскочил к двери и бешено закричал:
– Вон из моего дома, тварь! Ну!
Вася месяц жил у приятеля, и только уговоры и слезы матери заставили его вернуться домой.
Но самое обидное Каблуков услышал совсем недавно. Его постоянный недруг Стряпков, ядовито усмехаясь, сказал ему:
– Знаешь, как тебя называют? Есть, говорят, такое дипломатическое понятие– «персона грата». А про тебя говорят – «персона брата».
Вот сколько обид причинил Петр!
А тут еще директор завода фруктовых вод и слабоалкогольных напитков растравил начавшую было затягиваться рану.
Только пройдя несколько шагов, Каблуков припомнил последние слова Сидорова: «А у вас, говорят, перемены! Что ж, давно пора… Сколько же можно!» Это о чем же он намекнул? Неужели решили Анну Тимофеевну утвердить?
Еще один тяжелый удар за сегодняшний, такой скромный день. Каблуков втайне надеялся, что именно его, Якова Михайловича, учитывая его ум, опыт и, конечно, родство с Петром, пригласят и попросят: «А как вы, Яков Михайлович, насчет того, чтобы поруководить… Мы поможем, конечно…»
Каблуков частенько рисовал себе картину, как он отказывается – понятно в меру, не до бесчувствия, – ссылается на нездоровье, усталость, а его уговаривают: «Ну что ж, дорогой товарищ Каблуков, мы вас подправим, подлечим… Ну, возьметесь?»
И зажил бы Яков Михайлович совсем по-другому. Разница в окладе пустяковая – всего триста рублей. Но председателю полагалась почти персональная машина. Правда, она неважная, куплена из списанных такси, много раз латанная, пегая, но все же машина, а не тарантас. Можно сесть рядом с шофером (только сюда, а не на заднее сиденье) и, отдав приказание, ехать, глядя прямо перед собой. А люди станут говорить: «Каблуков проехал!»
Главное, председатель – это уже номенклатура! Номенклатуру Яков Михайлович представлял в виде узкого длинного ящика, а в нем карточки, карточки, карточки. Важно, чтобы твоя карточка попала в этот ящик. Лиха беда начало, а там посмотрим, чья возьмет! Попасть в номенклатуру нелегко, ну а уж если попал, то выпасть из нее, пожалуй, потруднее…
Номенклатурному дозволяется приходить на службу не к девяти, а попозднее. Уходить когда угодно, не прячась. С порога надо крикнуть секретарю, этой самой Рыбиной: «Буду в три!» И все. Куда ушел – мое дело. Кстати, Рыбину надо заменить. Дерзка! Ее мог Бушуев терпеть и Анна Тимофеевна, а мы не будем. Нет-с, не будем.
И вообще председатель горпромсовета – это совсем другое положение. Заведующий сектором стеклянной посуды и тары, конечно, тоже неплохая должность. Но кабинет – на двоих, с этим обжорой СтряпковыхМ, заведующим гончарнохудожественным сектором. Телефон – на двоих. В недоброе время, когда существовали промтоварные карточки и талоны, – талон на галоши давали на двоих один, его приходилось разыгрывать. Все на двоих, только выговоры индивидуально.








